Книга: Собрание сочинений. Том 15.1994 Граф де Монте-Кристо. ч.4,5,6
Назад: Часть шестая
Дальше: XI СУДЬЯ
V
ВАЛЕНТИНА
Ночник продолжал гореть на камине, поглощая последние капли масла, еще плававшие на поверхности воды; уже краснеющий круг окрашивал алебастровый колпачок, уже потрескивающий огонек вспыхивал последними искрами, ибо и у неживых предметов бывают предсмертные судороги, которые можно сравнить с агонией, уготованной несчастным созданиям — людям; тусклый, зловещий свет бросал опаловые отблески на белый полог постели Валентины.
Уличный шум затих, и воцарилось жуткое безмолвие.
И вот дверь из комнаты Эдуара отворилась, и лицо, которое мы уже видели, отразилось в зеркале, висевшем напротив; то была г-жа де Вильфор, пришедшая посмотреть на действие напитка.
Она остановилась на пороге, прислушалась к треску ночника, единственному звуку в этой комнате, которая казалась необитаемой, и затем тихо подошла к ночному столику, чтобы взглянуть, пуст ли стакан.
Он был еще на четверть полон, как мы уже сказали.
Госпожа де Вильфор взяла его, вылила остатки в камин и помешала золу, чтобы жидкость лучше впиталась; затем старательно выполоскала стакан, вытерла своим платком и поставила на прежнее место.
Если бы чей-нибудь взор мог проникнуть в эту комнату, от него не укрылось бы, что г-жа Вильфор долго не решалась подойти к кровати и посмотреть на Валентину.
Этот мрачный свет, безмолвие, темные чары ночи, должно быть, нашли отклик в кромешных глубинах ее души: отравительница страшилась своего деяния.
Наконец она собралась с духом, откинула полог, склонилась над изголовьем и посмотрела на Валентину.
Девушка не дышала; легчайшая пушинка не заколебалась бы на ее полуоткрытых, неподвижных бескровных губах, ее веки подернулись лиловой тенью и слегка припухли, и ее длинные темные ресницы осеняли уже пожелтевшую, как воск, кожу.
Госпожа де Вильфор долго смотрела на это красноречивое в своей неподвижности лицо, наконец отважилась и, приподняв одеяло, приложила руку к сердцу девушки.
Оно не билось.
Трепет, который она ощутила в пальцах, был биением ее собственного пульса; она вздрогнула и отняла руку.
Рука Валентины свесилась с кровати; от плеча до запястья она напоминала руку одной из граций, изваянных Жерменом Пилоном; но кисть была слегка искажена судорогой, и тонкие пальцы, оцепенев, застыли на красном дереве кровати.
Лунки ногтей посинели.
У госпожи де Вильфор не оставалось сомнений: все было кончено; страшное дело, последнее из задуманных ею, наконец свершилось.
Отравительнице нечего было больше делать в этой комнате; она. не выпуская полога из рук, осторожно попятилась, видимо страшась шума собственных шагов по ковру; она была заворожена зрелищем смерти, которое таит в себе неодолимое обаяние, пока смерть еще не разложение, а только неподвижность, пока она еще таинство, а не тлен.
Минуты проходили, а г-жа де Вильфор все не могла выпустить полог, который она простерла, как саван, над головой Валентины. Она платила дань раздумью, а раздумье преступника — муки совести.
И вдруг ночник затрещал громче.
Госпожа де Вильфор вздрогнула и выпустила полог.
В ту же секунду ночник погас, и комната погрузилась в непроглядный мрак.
И в этом мраке вдруг ожили часы и пробили половину пятого.
Преступница, затрепетав, ощупью добралась до двери и вернулась к себе с каплями холодного пота на лбу.
Еще два часа комната оставалась погруженной во тьму.
Затем понемногу ее залил бледный свет, проникая сквозь ставни; постепенно он стал ярче и вернул предметам краски и очертания.
Вскоре на лестнице раздалось покашливание, и в комнату Валентины вошла сиделка с чашкой в руках.
Отцу, возлюбленному первый же взгляд сказал бы: Валентина умерла, но для этой наемницы Валентина только спала.
— Так, — сказала она, подходя к ночному столику, — она выпила часть микстуры, стакан на две трети пуст.
Затем она подошла к камину, развела огонь, села в кресло и, хотя она только что встала с постели, воспользовалась сном Валентины, чтобы еще немного подремать.
Она проснулась, когда часы били восемь.
Тогда, удивленная непробудным сном больной, испуганная свесившейся рукой, которой спящая так и не шевельнула, сиделка подошла к кровати и только тогда заметила похолодевшие губы и остывшую грудь.
Она хотела поднять руку Валентины, но закоченевшая рука была так неподатлива, что сиделка поняла все.
Она в ужасе вскрикнула и бросилась к двери.
— Помогите! — закричала она. — Помогите!
— Что случилось? — ответил снизу голос доктора д’Авриньи. Это был час его ежедневного визита.
— Что случилось? — послышался голос Вильфора, быстро выходящего из кабинета. — Доктор, вы слышите, зовут на помощь?
— Да, да, — отвечал д’Авриньи, — идем, идем скорее к Валентине.
Но прежде чем подоспели отец и доктор, слуги, находившиеся в комнатах и коридорах того же этажа, уже вошли и, увидев Валентину, бледную и неподвижную, на кровати, в отчаянии ломали руки; казалось, у них кружится голова и подкашиваются ноги.
— Позовите госпожу де Вильфор, разбудите госпожу де Вильфор, — кричал королевский прокурор, стоя на пороге, которого он, казалось, не смел переступить.
Но слуги, не отвечая, смотрели на д’Авриньи, который вошел в комнату, бросился к Валентине и приподнял ее.
— И эта!.. — прошептал он, опуская ее. — О Господи, когда же конец?!
Вильфор вбежал в комнату.
— Боже мой, что вы сказали, — отчаянно крикнул он, вздымая руки к небесам. — Доктор!.. Доктор!..
— Я сказал, что Валентина умерла, — торжественно и сурово ответил д’Авриньи.
Вильфор рухнул на колени как подкошенный, уронив голову на постель Валентины.
При словах доктора, при возгласе отца охваченные паникой слуги выбежали вон с глухими проклятиями, на лестницах и в коридорах были слышны их торопливые шаги, затем громкий шум во дворе; потом все стихло: все, от первого до последнего, бежали из проклятого дома.
Тогда г-жа де Вильфор в накинутом на плечи пеньюаре приподняла портьеру и остановилась на пороге, притворяясь удивленной и стараясь выдавить несколько непокорных слезинок.
Вдруг она побледнела и, вытянув руки, шагнула, вернее, подскочила к ночному столику.
Она увидела, что д’Авриньи нагнулся и внимательно рассматривает стакан, который она своими руками опорожнила в эту ночь.
В стакане было ровно столько жидкости, сколько она выплеснула в золу камина.
Если бы дух Валентины встал перед ней, отравительница была бы не так потрясена.
Этот цвет — цвет напитка, который она налила Валентине в стакан и который Валентина выпила; этот яд не может обмануть глаза д’Авриньи, и тот внимательно его рассматривает; это — чудо, которое сотворил Бог, дабы, вопреки всем уловкам убийцы, остался след, доказательство, улика преступления.
Пока г-жа де Вильфор застыла, как изваяние, как воплощение ужаса, а Вильфор, припав лицом к постели умершей, не видел ничего вокруг, д’Авриньи подошел к окну. Еще раз тщательно рассмотрев содержимое стакана, он обмакнул в жидкость кончик пальца.
— Это уже не бруцин, — прошептал он, — посмотрим, что это такое!
Он подошел к одному из шкафов, превращенному в аптечку, и, вынув из серебряного футляра склянку с азотной кислотой, налил несколько капель в стакан, и опаловая жидкость тотчас же окрасилась в кроваво-красный цвет.
— Так! — сказал д’Авриньи с отвращением судьи, перед которым открывается истина, и с радостью ученого, разрешившего сложную задачу.
Госпожа де Вильфор оглянулась по сторонам; глаза ее вспыхнули, потом погасли; она, шатаясь, нащупала рукою дверь и скрылась.
Через минуту издали послышался шум падающего тела.
Но никто не обратил на это внимания. Сиделка следила за действиями доктора, Вильфор пребывал все в^том же забытьи.
Один д’Авриньи проводил глазами г-жу де Вильфор и заметил ее поспешный уход.
Он приподнял портьеру, и через комнату Эдуара его взгляд проник в спальню; г-жа де Вильфор без движения лежала на полу.
— Ступайте туда, — сказал он сиделке, — госпоже де Вильфор дурно.
— Но мадемуазель Валентина? — пробормотала она.
— Мадемуазель Валентина не нуждается больше в помощи, — сказал д’Авриньи, — она умерла.
— Умерла! Умерла! — стонал Вильфор в пароксизме душевной муки, тем более раздирающей, что она была неизведанной, новой, неслыханной для этого стального сердца.
— Что я слышу! Умерла? — раздался третий голос. — Кто сказал, что Валентина умерла?
Вильфор и доктор обернулись. В дверях стоял Моррель, бледный, потрясенный, страшный.
Вот что произошло.
В обычный час через маленькую дверь, ведущую к Нуартье, явился Моррель.
Против обыкновения, дверь не была заперта; ему не пришлось звонить, и он вошел.
Он постоял в прихожей, зовя прислугу, чтобы кто-нибудь проводил его к старику.
Но никто не откликался: слуги, как известно, покинули дом.
Моррель не имел особых поводов к беспокойству. Монте-Кристо обещал ему, что Валентина будет жить, и до сих пор это обещание не было нарушено. Каждый вечер граф приносил ему хорошие вести, подтверждаемые на следующий день самим Нуартье.
Все же это безлюдье показалось ему странным. Он позвал еще раз, в третий раз — та же тишина.
Тогда он решил подняться.
Дверь Нуартье была открыта, как и остальные двери.
Первое, что бросилось ему в глаза, был старик, сидевший в кресле, на своем обычном месте; он был очень бледен, и в его расширенных глазах застыл испуг.
— Как вы поживаете, сударь? — спросил Моррель, не без замирания сердца.
— Хорошо, — показал глазами старик, — хорошо.
Но в его лице можно было угадать нарастающую тревогу.
— Вы чем-то озабочены, — продолжал Моррель. — Вам что-то нужно. Позвать кого-нибудь из слуг?
— Да, — показал Нуартье.
Моррель стал звонить изо всех сил, но, сколько он ни дергал за шнур, никто не приходил.
Он повернулся к Нуартье; лицо старика становилось все бледнее и взгляд все тревожнее.
— Боже мой! — сказал Моррель. — Почему никто не идет? Еще кто-нибудь заболел?
Глаза Нуартье, казалось, готовы были выскочить из орбит.
— Да что с вами? — продолжал Моррель. — Вы меня пугаете! Валентина?..
— Да! Да! — показал Нуартье.
Максимилиан открыл рот, но не мог вымолвить ни слова; он зашатался и прислонился к стене.
Затем он указал рукой на дверь.
— Да! Да! Да! — показал старик.
Максимилиан бросился к маленькой лестнице и спустился по ней в два прыжка, между тем как Нуартье, казалось, кричал ему глазами:
— Скорей, скорей!
Моррель в одну минуту пробежал несколько комнат, пустых, как и весь дом, и достиг комнаты Валентины.
Ему не пришлось отворять дверь, она была раскрыта настежь.
Первое, что он услышал, было рыдание. Он увидел как в тумане коленопреклоненную черную фигуру, зарывшуюся головой в беспорядочную груду белых покрывал. Страх, безмерный страх пригвоздил его к порогу.
И ту г он услышал голос, который говорил: "Валентина умерла", — и другой, который отозвался как эхо:
— Умерла! Умерла!
VI
МАКСИМИЛИАН
Вильфор поднялся, почти стыдясь того, что его застали в припадке такого отчаяния.
Должность грозного обвинителя, которую он занимал в течение двадцати пяти лет, сделала из него нечто большее или, быть может, меньшее, чем человек.
Его взгляд, в первый миг растерянный и блуждающий, остановился на Максимилиане.
— Кто вы, сударь? — сказал он. — Откуда вы? Так не входят в дом, где обитает смерть. Уйдите!
Но Моррель не двигался, он не мог оторвать глаз от ужасного зрелища: от смятой постели и бледного лица на подушках.
— Уходите! Слышите? — крикнул Вильфор.
Д’Авриньи тоже подошел, чтобы заставить Максимилиана уйти.
Тот окинул безумным взором покойницу, обоих мужчин, комнату, хотел, по-видимому, что-то сказать… Наконец, не находя ни слова, чтобы ответить, несмотря на вихрь горестных мыслей, проносившихся в его мозгу, он схватился за голову и бросился к выходу; Вильфор и д’Авриньи, на минуту отвлеченные от своих дум, посмотрели ему вслед и обменялись взглядом, который говорил:
"Это сумасшедший".
Но не прошло и пяти минут, как лестница заскрипела под тяжелыми шагами и опять появился Моррель; с нечеловеческой силой подняв кресло Нуартье, он внес старика на второй этаж. Дойдя до площадки, Моррель опустил кресло на пол и быстро вкатил его в комнату Валентины.
Все это он проделал с удесятеренной силой исступленного отчаяния.
Но страшнее всего было лицо Нуартье, когда Моррель подвез его к кровати Валентины; на этом лице напряженно жили одни глаза, в них сосредоточились все силы разума и все чувства паралитика.
И при виде этого бледного лица с горящим взглядом Вильфор испугался.
Всю жизнь, всякий раз, как он сталкивался со своим отцом, происходило что-нибудь ужасное.
— Смотрите, что они сделали! — крикнул Моррель, все еще опираясь одной рукой на спинку кресла, которое он подкатил к кровати, а другой указывая на Валентину. — Смотрите, отец!
Вильфор отступил на шаг и с удивлением смотрел на молодого человека, ему почти незнакомого, который называл Нуартье своим отцом.
Казалось, в этот миг вся душа старика перешла в его налившиеся кровью глаза; жилы на шее вздулись, синева, вроде той, которая заливает кожу эпилептиков, покрыла шею, щеки и виски; этому внутреннему взрыву, потрясающему все его существо, не хватало только крика.
Этот крик словно выступал из всех пор, страшный в своей немоте, раздирающий в своей беззвучности.
Д’Авриньи бросился к старику и дал ему понюхать спирту.
— Сударь, — крикнул тогда Моррель, схватив недвижную руку паралитика, — меня спрашивают, кто я такой и по какому праву я здесь. Вы знаете, скажите им, скажите!
Рыдания заглушили его голос.
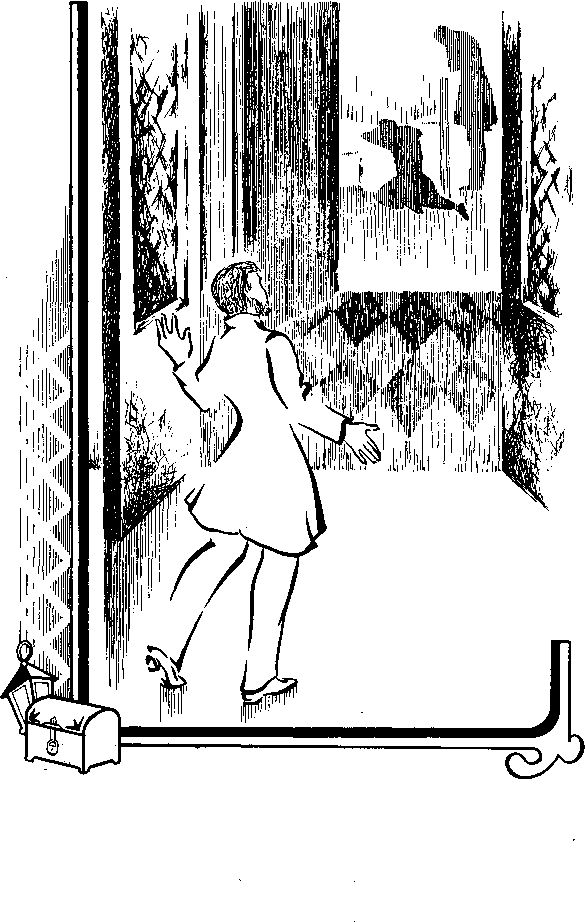
Прерывистое дыхание сотрясало грудь старика. Это возбуждение было похоже на начало агонии.
Наконец слезы хлынули из глаз Нуартье, более счастливого, чем Моррель, который рыдал без слез. Старик не мог наклонить голову и лишь закрыл глаза.
— Скажите, что я был ее женихом, — прерывающимся голосом продолжал Моррель. — Скажите, что она была моим другом, моей единственной любовью на свете! Скажите им, что ее бездыханный труп принадлежит мне!
И он бросился на колени перед постелью, судорожно вцепившись в нее руками.
Видеть этого большого, сильного человека, раздавленного горем, было так мучительно, что д’Авриньи отвернулся, чтобы скрыть волнение. Вильфор, не требуя больше объяснений, покоренный притягательной силой, которая влечет нас к людям, любившим тех, кого мы оплакиваем, протянул Моррелю руку.
Но Максимилиан ничего не видел; он схватил ледяную руку Валентины и, не умея плакать, глухо стонал, сжимая зубами край простыни.
Несколько минут в этой комнате слышались только рыдания, проклятия и молитвы.
И все же один звук господствовал над всем: то было хриплое, страшное дыхание Нуартье. Казалось, при каждом вдохе рвались жизненные пружины в его груди.
Наконец Вильфор, владевший собой лучше других и как бы уступивший на время свое место Максимилиану, решился заговорить.
— Сударь, — сказал он, — вы говорите, что вы любили Валентину, что вы были ее женихом. Я не знал об этой любви, о вашем сговоре; и все же я, ее отец, прощаю вам это, ибо, я вижу, ваше горе велико и неподдельно.
Ведь и мое горе слишком велико, чтобы в душе у меня оставалось место для гнева.
Но вы видите, ангел, который сулил вам счастье, покинул землю; ей не нужно больше земного поклонения, ныне она предстала перед Творцом. Проститесь же с ее бренными останками, коснитесь в последний раз руки, которую вы ждали, и расстаньтесь с ней навсегда; Валентине нужен теперь только священник, который ее благословит.
— Вы ошибаетесь, сударь, — воскликнул Моррель, подымаясь на одно колено, и его сердце пронзила такая боль, какой он никогда еще не испытывал, — вы ошибаетесь. Валентина умерла, но она умерла такой смертью, что нуждается не только в священнике, но и в мстителе! Посылайте за священником, господин де Вильфор, а мстителем буду я!
— Что вы хотите сказать, сударь? — пробормотал Вильфор; полубезумный выкрик Морреля заставил его содрогнуться.
— Я хочу сказать, что в вас — два человека, сударь! — продолжал Моррель. — Отец довольно плакал — пусть выступит королевский прокурор.
Глаза Нуартье сверкнули; д’Авриньи подошел ближе.
— Я знаю, что говорю, сударь, — продолжал Моррель, читая по лицам присутствующих все их чувства, — и вы знаете не хуже моего то, что я скажу: Валентину убили!
Вильфор опустил голову; д’Авриньи подошел еще на шаг; Нуартье утвердительно опустил веки.
— В наше время, — продолжал Моррель, — живое существо, даже не такое юное, прекрасное и достойное обожания, как Валентина, не может умереть насильственной смертью без того, чтобы не потребовали отчета в его гибели. Господин королевский прокурор, — закончил Моррель с возрастающим жаром, — здесь нет места жалости! Я вам указываю на преступление, ищите убийцу!
И его неумолимый взгляд вопрошал Вильфора, который, в свою очередь, искал взгляда то Нуартье, то д’Авриньи.
Но вместо того чтобы поддержать Вильфора, отец и доктор ответили ему таким же непреклонным взглядом.
— Да! — показал старик.
— Безусловно! — сказал д’Авриньи.
— Вы ошибаетесь, сударь, — проговорил Вильфор, пытаясь побороть волю трех человек и собственное волнение, — в моем доме не совершается преступлений: меня разит судьба, меня тяжко испытует Бог, но у меня никого не убивают!
Глаза Нуартье сверкнули; д’Авриньи открыл рот, чтобы возразить.
Моррель протянул руку, призывая к молчанию.
— А я вам говорю, что здесь убивают! — сказал он негромко, но грозно. — Я вам говорю, что это уже четвертая жертва за четыре месяца! Я вам говорю, что четыре дня тому назад уже пытались отравить Валентину, но это не удалось благодаря предосторожности господина Нуартье! Я вам говорю, что дозу удвоили или переменили яд, и на этот раз злодеяние удалось! Я вам говорю, что вы это знаете так же хорошо, как и я, потому что господин д’Авриньи вас об этом предупредил и как врач и как друг:
— Вы бредите, сударь, — сказал Вильфор, тщетно пытаясь освободиться от захлестнувшей его петли.
— Я брежу? — воскликнул Моррель. — В таком случае я обращаюсь к самому господину д’Авриньи. Спросите у него, сударь, помнит ли он слова, произнесенные им в вашем саду, перед этим домом в вечер смерти госпожи де Сен-Меран; тогда вы оба, думая, что вы одни, говорили об этой трагической смерти; вы ссылаетесь на судьбу, вы несправедливо обвиняете Бога, но судьба и Бог причастны к этой смерти только тем, что создали убийцу Валентины!
Вильфор и д’Авриньи переглянулись.
— Да, да, припомните, — сказал Моррель, — вы думали, что эти слова были сказаны в тишине и одиночестве, затерялись во мраке, но они достигли моих ушей. Конечно, после того вечера, видя преступную снисходительность господина де Вильфора к своим близким, я должен был все раскрыть властям. Я не оказался бы тогда соучастником твоей смерти, Валентина, любимая! Но соучастник превратится в мстителя, это четвертое убийство очевидно для всякого, и если отец твой покинет тебя, Валентина, клянусь тебе, я сам буду преследовать убийцу!
И словно природа сжалилась наконец над этим сильным человеком, готовым сломиться под натиском собственной силы, последние слова Морреля замерли в его гортани, из груди его вырвалось рыдание, непокорные слезы хлынули из глаз, он покачнулся и с плачем вновь упал на колени у кровати Валентины.
Тогда настала очередь д’Авриньи.
— Я разделяю чувства господина Морреля и тоже требую правосудия, — сказал он громко. — У меня сердце разрывается от мысли, что моя малодушная снисходительность поощрила убийцу!
— Боже мой! — еле слышно прошептал подавленный Вильфор.
Моррель поднял голову и, читая в глазах старика, горевших нечеловеческим пламенем, сказал:
— Смотрите, господин Нуартье хочет говорить.
— Да, — показал Нуартье, с выражением тем более ужасным, потому что все способности этого несчастного, беспомощного старика были сосредоточены в его взгляде.
— Вы знаете убийцу? — спросил Моррель.
— Да, — ответил Нуартье.
— И вы нам укажете его? — воскликнул Максимилиан. — Мы слушаем! Господин д’Авриньи, слушайте!
Глаза Нуартье улыбнулись несчастному Моррелю грустно и нежно, одной из тех улыбок, которые так часто радовали Валентину.
Затем, как бы приковав глаза собеседника к своим, он перевел взгляд на дверь.
— Вы хотите, чтобы я вышел? — горестно воскликнул Моррель.
— Да, — показал Нуартье.
— Пожалейте меня!
Глаза старика оставались неумолимо устремленными на дверь.
— Но потом мне можно будет вернуться? — спросил Максимилиан.
— Да.
— Я должен выйти один?
— Нет.
— Кого же я должен увести? Господина де Вильфора?
— Нет.
— Доктора?
— Да.
— Вы хотите остаться один с господином де Вильфором?
— Да.
— А он поймет вас?
— Да.
— Будьте спокойны, — сказал Вильфор, едва ли не радуясь, что следствие будет вестись с глазу на глаз, — я отлично понимаю отца.
Хотя он говорил это, как мы отметили, с почти радостным выражением, зубы его громко стучали.
Д’Авриньи взял Максимилиана под руку и увел его в соседнюю комнату.
Тогда во всем доме воцарилось молчание, более глубокое, чем молчание смерти.
Наконец через четверть часа послышались нетвердые шаги, и Вильфор появился на пороге гостиной, где находились д’Авриньи и Моррель, один — погруженный в задумчивость, другой — задыхающийся от горя.
— Идемте, — сказал Вильфор.
И он подвел их к Нуартье.
Моррель внимательно посмотрел на Вильфора.
Лицо королевского прокурора было мертвенно-бледно, багровые пятна выступили у него на лбу; его пальцы судорожно теребили перо, ломая его на мелкие куски.
— Господа, — сдавленным голосом сказал он д’Авриньи и Моррелю, — дайте мне честное слово, что эта ужасная тайна останется погребенной в наших сердцах!
У тех вырвалось невольное движение.
— Умоляю вас!.. — продолжал Вильфор.
— А что же виновник!.. — сказал Моррель. — Убийца!.. Отравитель!..
— Будьте спокойны, сударь, правосудие совершится, — сказал Вильфор. — Мой отец открыл мне имя виновного; мой отец жаждет мщения, как и вы, но он, как и я, заклинает вас хранить преступление в тайне. Правда, отец?
— Да, — решительно показал Нуартье.
Моррель невольно отшатнулся с жестом ужаса и недоверия.
— Сударь, — воскликнул Вильфор, удерживая Морреля за руку, — вы знаете, мой отец — непреклонный человек, и если он обращается к вам с такой просьбой, значит, он уверен, что Валентина будет жестоко отомщена. Правда, отец?
Старик сделал знак, что да.
Вильфор продолжал:
— Он меня знает, а я дал ему слово. Можете быть спокойны, господа; я прошу у вас три дня, это меньше, чем у вас попросил бы суд; и через три дня мщение, которое постигнет убийцу моей дочери, заставит содрогнуться самые бесчувственные сердца. Правда, отец?
При этих словах он скрипнул зубами и потряс мертвую руку старика.
— Обещание будет исполнено, господин Нуартье? — спросил Моррель; д’Авриньи взглядом спросил о том же.
— Да! — показал Нуартье с мрачной радостью в глазах.
— Так поклянитесь, господа, — сказал Вильфор, соединяя руки д’Авриньи и Морреля, — поклянитесь, что вы пощадите честь моего дома и предоставите мщение мне.
Д’Авриньи отвернулся и неохотно прошептал "да", но Моррель вырвал руку из рук Вильфора, бросился к постели, прижался губами к ледяным губам Валентины и выбежал вон с протяжным стоном отчаяния.
Как мы уже сказали, все слуги исчезли.
Поэтому Вильфору пришлось просить д’Авриньи взять на себя все те многочисленные и сложные хлопоты, которые влечет за собой смерть в наших больших городах, особенно смерть при таких подозрительных обстоятельствах.
Что касается Нуартье, то было страшно смотреть на это недвижимое горе, это окаменелое отчаяние, эти беззвучные слезы.
Вильфор заперся в своем кабинете; д’Авриньи пошел за городским врачом, обязанность которого — засвидетельствовать смерть и которого выразительно именуют "доктором мертвых".
Нуартье не захотел расставаться с внучкой.
Через полчаса д’Авриньи вернулся со своим собратом; дверь с улицы была заперта, и, так как привратник исчез вместе с остальными слугами, Вильфор сам пошел отворить.
Но у комнаты Валентины он остановился; у него не хватило мужества снова войти туда.
Оба доктора вошли одни.
Нуартье сидел у кровати, бледный, как сама покойница, недвижимый и безмолвный, как она.
Доктор мертвых подошел к постели с равнодушием человека, который полжизни проводит с трупами, откинул с лица девушки простыню и приоткрыл ей губы.
— Да, — сказал д’Авриньи со вздохом, — бедная девушка мертва, сомнений нет.
— Да, — коротко ответил доктор мертвых, снова закрывая простыней лицо Валентины.
Нуартье глухо захрипел.
Д’Авриньи обернулся: глаза старика сверкали.
Д’Авриньи понял, что Нуартье хочет видеть свою внучку; он подошел к кровати, и, пока второй врач полоскал в хлористой воде пальцы, которые коснулись губ умершей, он открыл это спокойное бледное лицо, подобное лицу спящего ангела.
Слезы, выступившие на глазах Нуартье, сказали д’Авриньи, как благодарен ему несчастный старик.
Доктор мертвых написал свидетельство тут же в комнате Валентины, на краю стола, и, совершив эту последнюю формальность, вышел, провожаемый д’Авриньи.
Вильфор услышал, как они спускались с лестницы, и вышел из своего кабинета.
Сказав несколько слов благодарности доктору, он обратился к д’Авриньи.
— Теперь нужен священник, — сказал он.
— Есть какой-нибудь священник, которого вы хотели бы пригласить? — спросил д’Авриньи.
— Нет, — отвечал Вильфор, — обратитесь к ближайшему.
— Ближайший, — сказал городской врач, — это итальянский аббат, поселившийся в доме рядом с вами. Хотите, проходя мимо, я его попрошу?
— Будьте добры, д’Авриньи, — сказал Вильфор, — пойдите с господином доктором. Вот ключ, чтобы вы могли входить и выходить, когда вам нужно. Приведите священника и устройте его в комнате моей бедной девочки.
— Вы хотите с ним поговорить, мой друг?
— Я хочу побыть один. Вы меня простите, правда?
Священник должен понимать все страдания, тем более страдания отца.
Вильфор вручил д’Авриньи ключ, поклонился еще раз городскому врачу и, вернувшись к себе в кабинет, принялся за работу.
Есть люди, для которых работа служит лекарством от всех страданий.
Выйдя на улицу, оба врача заметили человека в черной сутане, стоявшего на пороге соседнего дома.
— Вот тот, о ком я вам говорил, — сказал доктор мертвых.
Д’Авриньи подошел к священнику:
— Сударь, не согласитесь ли вы оказать услугу несчастному отцу, потерявшему только что дочь, королевскому прокурору де Вильфору?
— Да, сударь, — отвечал священник с сильным итальянским акцентом, — я знаю, смерть поселилась в его доме.
— Тогда мне незачем говорить вам, какого рода помощи он от вас ожидает.
— Я шел предложить свои услуги, сударь, — сказал священник, — наше назначение — идти навстречу нашим обязанностям.
— Это молодая девушка.
— Да, знаю, мне сказали слуги, я видел, как они бежали из дома. Я узнал, что ее имя Валентина, и я уже молился за нее.
— Благодарю вас, — сказал д’Авриньи, — и раз вы уже приступили к вашему святому служению, благоволите его продолжить. Будьте возле усопшей, и вам скажет спасибо безутешная семья.
— Иду, сударь, — отвечал аббат, — и смею сказать, что не будет молитвы горячей, чем моя.
Д’Авриньи взял аббата за руку и, не встретив Вильфора, затворившегося у себя в кабинете, проводил его к покойнице, которую должны были облечь в саван только ночью.
Когда они входили в комнату, глаза Нуартье встретились с глазами аббата; вероятно, Нуартье увидел в них что-то необычайное, потому что взгляд его больше не отрывался от лица священника.
Д’Авриньи поручил попечению аббата не только усопшую, но и живого, и тот обещал д’Авриньи помолиться о Валентине и позаботиться о Нуартье.
Обещание аббата звучало торжественно, и для того, должно быть, чтобы ему не мешали в его молитвах и не беспокоили Нуартье в его горе, он, едва д’Авриньи удалился, запер на задвижку не только дверь, в которую вышел доктор, но и ту, которая вела к г-же де Вильфор.
VII
ПОДПИСЬ ДАНГЛАРА
Утро настало пасмурное и унылое.
Ночью гробовщики исполнили свою печальную обязанность и зашили лежащее на кровати тело в саван — скорбную одежду усопших, которая, что бы ни говорили о всеобщем равенстве перед смертью, служит последним напоминанием о роскоши, любимой ими при жизни.
Этот саван был не что иное, как кусок тончайшего батиста, купленный Валентиной две недели тому назад.
Нуартье еще вечером перенесли из комнаты Валентины в его комнату. Против всяких ожиданий, старик не противился тому, что его разлучают с телом внучки.
Аббат Бузони пробыл до утра и на рассвете ушел, никому не сказав ни слова.
В восемь часов приехал д’Авриньи; он встретил Вильфора, который шел к Нуартье, и отправился вместе с ним, чтобы узнать, как старик провел ночь.
Они застали его в большом кресле, служившем ему кроватью; старик спал спокойным, почти безмятежным сном.
Удивленные, они остановились на пороге.
— Посмотрите, — сказал д’Авриньи Вильфору, смотревшему на спящего отца, — природа умеет успокоить самое сильное горе; конечно, никто не скажет, что господин Нуартье не любил своей внучки, и, однако, он спит.
— Да, вы правы, — с недоумением сказал Вильфор, — он спит, и это очень странно: ведь из-за малейшей неприятности он способен не спать целыми ночами.
— Горе сломило его, — отвечал д’Авриньи.
И оба, погруженные в раздумье, вернулись в кабинет королевского прокурора.
— А вот я не спал, — сказал Вильфор, указывая д’Авриньи на нетронутую постель, — меня горе не может сломить: уже две ночи я не ложился, но зато посмотрите на мой стол: сколько я написал в эти два дня и две ночи!.. Сколько рылся в этом деле, сколько заметок сделал на обвинительном акте убийцы Бенедетто!.. О работа, моя страсть, мое счастье, мое безумие, ты одна можешь победить все мои страдания!
И он судорожно сжал руку д’Авриньи.
— Я вам нужен? — спросил доктор.
— Нет, — сказал Вильфор, — только возвращайтесь, пожалуйста, к одиннадцати часам, в двенадцать часов состоится… вынос… Боже мой, моя девочка, моя бедная девочка!
И королевский прокурор, снова становясь человеком, поднял глаза к небу и вздохнул.
— Вы будете принимать соболезнования?
— Нет, один мой родственник берег на себя эту тягостную обязанность. Я буду работать, доктор; когда я работаю, все исчезает.
И не успел доктор дойти до дверей, как королевский прокурор снова принялся за свои бумаги.
На крыльце д’Авриньи встретил родственника, о котором ему говорил Вильфор, личность незначительную как в этой повести, так и в семье, одно из тех существ, которые от рождения предназначены играть в жизни роль статиста.
Весь в черном, с крепом на рукаве, он исправно явился в дом Вильфора с подобающим случаю выражением лица, намереваясь его сохранить, пока требуется, и немедленно сбросить после церемонии.
В одиннадцать часов траурные кареты застучали по мощеному двору и предместье Сент-Оноре огласилось гулом толпы, которая одинаково жадно смотрит и на радости и на печали богачей и бежит на пышные похороны с той же торопливостью, что и на свадьбу герцогини.
Понемногу гостиная, где стоял гроб, наполнилась посетителями. Сначала явились некоторые наши старые знакомые— Дебрэ, Шато-Рено, Бошан, потом — все знаменитости судебного, литературного и военного мира, ибо г-н де Вильфор, не столько даже по своему общественному положению, сколько в силу личных достоинств, занимал одно из первых мест в парижском свете.
Родственник стоял у дверей, встречая прибывающих, и для равнодушных людей, надо сознаться, было большим облегчением увидеть равнодушное лицо, не требовавшее от них лицемерной печали, притворных слез, как это полагалось бы в присутствии отца, брата или жениха.
Те, кто были знакомы между собой, подзывали друг друга взглядом и собирались группами. Одна такая группа состояла из Дебрэ, Шато-Рено и Бошана.
— Бедняжка, — сказал Дебрэ, невольно, как, впрочем, и все, платя дань печальному событию. — Бедняжка! Такая богатая! Такая красивая! Могли бы вы подумать об этом, Шато-Рено, когда мы пришли… давно ли?.. Да три недели, месяц тому назад самое большое… подписывать брачный договор, который так и не был подписан?
— Признаться, никак не подумал бы, — сказал Шато-Рено.
— Вы ее знали?
— Я говорил с ней раза два на балу у госпожи де Мор-сер; она мне показалась очаровательной, только немного меланхоличной. А где мачеха, вы не знаете?
— Она проведет весь день у жены этого почтенного господина, который нас встречал.
— Кто он такой?
— Это вы о ком?
— Да господин, который нас встречал. Он депутат?
— Нет, — сказал Бошан, — я осужден видеть наших законодателей каждый день, и эта физиономия мне незнакома.
— Вы упомянули об этой смерти в своей газете?
— Заметка не моя, но она наделала шуму, и я сомневаюсь, чтобы она была приятна Вильфору. Насколько я знаю, в ней сказано, что если бы четыре смерти последовали одна за другой в каком-нибудь другом доме, а не в доме королевского прокурора, то королевский прокурор был бы, наверное, более взволнован.
— Но доктор д’Авриньи, который лечит и мою мать, говорит, что Вильфор в большом горе, — заметил Шато-Рено.
— Кого вы ищете, Дебрэ?
— Господина де Монте-Кристо.
— Я встретил его на бульваре, когда шел сюда. Он, по-видимому, собирается уезжать; он ехал к своему банкиру, — сказал Бошан.
— К банкиру? Ведь его банкир — Данглар? — спросил Шато-Рено у Дебрэ.
— Как будто да, — отвечал личный секретарь с некоторым смущением, — но здесь не хватает не только де Монте-Кристо. Я не вижу Морреля.
— Морреля? А разве он с ними знаком? — спросил Шато-Рено.
— Мне кажется, он был представлен только госпоже де Вильфор.
— Все равно, ему бы следовало прийти, — сказал Дебрэ, — о чем он будет говорить вечером? Эти похороны— злоба дня. Но тише, помолчим; вот министр юстиции и культов; он почтет себя обязанным обратиться с маленьким спичем к опечаленному родственнику.
И молодые люди подошли к дверям, чтобы услышать "спич" министра.
Бошан сказал правду; идя на похороны, он встретил Монте-Кристо, который ехал к Данглару, на улицу Шоссе-д’Антен.
Банкир из окна увидел коляску графа, въезжавшую во двор, и вышел ему навстречу с грустным, но приветливым лицом.
— Я вижу, граф, — сказал он, протягивая руку Монте-Кристо, — вы заехали выразить мне сочувствие. Да, такое несчастье посетило мой дом, что, увидав вас, я даже задал себе вопрос, не пожелал ли я несчастья беднягам Морсерам, — это оправдало бы пословицу: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь". Но нет, честное слово, я не желал Морсеру зла; быть может, он был немного спесив для человека, начавшего с пустыми руками, как и я, обязанного всем самому себе, как и я; но у всякого свои недостатки. Будьте осторожны, граф: людям нашего поколения… впрочем, простите, вы не нашего поколения — вы человек молодой… Людям моего поколения не везет в этом году: свидетель тому — наш пуританин, королевский прокурор, который только что потерял дочь. Вы посмотрите, у Вильфора странным образом погибает вся семья, Морсер опозорен и кончает самоубийством, я стал посмешищем из-за этого негодяя Бенедетто и вдобавок…
— Что вдобавок? — спросил граф.
— Увы, разве вы не знаете?
— Какое-нибудь новое несчастье?
— Моя дочь…
— Мадемуазель Данглар?
— Эжени нас покидает.
— Да что вы!
— Да, дорогой граф. Ваше счастье, что у вас нет ни жены, ни детей!
— Вы находите?
— Еще бы!
— И вы говорите, что мадемуазель Эжени…
— Она не могла перенести позора, которым нас покрыл этот негодяй, и попросила меня отпустить ее путешествовать.
— И она уехала?
— Прошлой ночью.
— С госпожой Данглар?
— Нет, с одной нашей родственницей… Но как-никак мы потеряли нашу дорогую Эжени: сомневаюсь, чтобы с ее характером она согласилась когда-либо вернуться во Францию!
— Что поделаешь, дорогой барон, — сказал Монте-Кристо. — Все эти семейные горести — катастрофа для какого-нибудь бедняка, у которого ребенок — единственное богатство, но они не так страшны для миллионера. Что бы ни говорили философы, деловые люди всегда докажут им противное; деньги утешают во многих бедах, а вы должны утешиться скорее, чем кто бы то ни было, если вы верите в целительную силу этого бальзама; вы — король финансов, точка пересечения всех могущественных сил.
Данглар искоса взглянул на графа, стараясь понять, смеется ли он или говорит серьезно.
— Да, — сказал он, — если богатство утешает, я должен быть утешен: я богат.
— Так богаты, дорогой барон, что ваше богатство подобно пирамидам; если бы хотели их разрушить, то не посмели бы; а если бы посмели, то не смогли бы.
Данглар улыбнулся доверчивому простодушию графа.
— Кстати, когда вы вошли, я как раз выписывал пять бумажек; две из них я уже подписал; разрешите мне подписать три остальные?
— Пожалуйста, дорогой барон, пожалуйста.
Наступило молчание, слышно было, как скрипело перо банкира; Монте-Кристо разглядывал раззолоченную лепку потолка.
— Испанские бумаги? — сказал Монте-Кристо. — Или гаитянские, или неаполитанские?
— Нет, — отвечал Данглар, самодовольно посмеиваясь, — чеки на предъявителя, чеки на Французский банк. Вот, граф, — прибавил он, — вы император финансов, если я король; часто вам случалось видеть такие вот клочки бумаги стоимостью по миллиону?
Монте-Кристо взял в руку, словно желая их взвесить, пять клочков бумаги, горделиво переданных ему Дангларом, и прочел:
"Господин директор банка, благоволите уплатить предъявителю сего за мой счет один миллион франков.
Барон Данглар".
— Один, два, три, четыре, пять, — сказал Монте-Кристо, — пять миллионов! Черт возьми, вот так размах, господин Крёз!
— Вот как я делаю дела! — сказал Данглар.
— Это удивительно, особенно если эта сумма, в чем я, впрочем, не сомневаюсь, будет уплачена наличными.
— Так оно и будет, — сказал Данглар.
— Хорошо иметь такой кредит; в самом деле, только во Франции видишь такие вещи: пять клочков бумаги, которые стоят пять миллионов. Нужно видеть это, чтобы поверить.
— А вы сомневаетесь?
— Нет.
— Вы это говорите таким тоном… Хотите, доставьте себе удовольствие: пойдите с моим доверенным в банк, и вы увидите, как он выйдет оттуда с облигациями казначейства на ту же сумму.
— Нет, право, это слишком любопытно, — сказал Монте-Кристо, складывая все пять чеков, — я сам произведу опыт. Мой кредит у вас был на шесть миллионов; я взял девятьсот тысяч франков, за вами остается пять миллионов сто тысяч. Я беру ваши клочки бумаги, которые я принимаю за валюту при одном взгляде на вашу подпись, и вот вам общая расписка на шесть миллионов, которая уравнивает наши счеты. Я приготовил ее заранее, так как должен сознаться, что мне очень нужны деньги сегодня.
И, кладя чеки в карман, он другой рукой протянул банкиру расписку.
Молния, упавшая у ног Данглара, не поразила бы его большим ужасом.
— Как же так? — пролепетал он. — Вы береге эти деньги, граф? Но, простите, эти деньги я должен приютам, это вклад, и я обещал уплатить сегодня.
— А, это другое дело, — сказал Монте-Кристо. — Мне не нужны непременно эти чеки, заплатите мне какими-нибудь другими ценностями. Я их взял просто из любопытства, чтобы иметь возможность рассказывать повсюду, что без всякого предупреждения, не попросив у меня и пяти минут отсрочки, банк Данглара выплатил мне пять миллионов наличными. Эго было бы великолепно! Но вот ваши чеки; повторяю, дайте мне что-нибудь другое.
Он подал чеки Данглару, и тот, смертельно бледный, протянул было руку, как коршун протягивает когти сквозь прутья клетки, чтобы вцепиться в мясо, которое у него отнимают.
Но вдруг он спохватился, сделал над собой усилие и сдержался. Затем он улыбнулся, и его искаженное лицо смягчилось.
— Впрочем, — сказал он, — ваша расписка — это те же деньги.
— Ну, конечно! Будь вы в Риме, Томсон и Френч платили бы вам по моей расписке с той же легкостью, с какой вы сами сделали это сейчас.
— Извините меня, граф, извините.
— Так я могу оставить эти деньги себе?
— Да, да, оставьте, — сказал Данглар, отирая вспотевший лоб.
Монте-Кристо положил чеки обратно в карман, причем лицо его ясно говорило:
"Что ж, подумайте; если вы раскаиваетесь, еще не поздно".
— Нет, нет, — сказал Данглар, оставьте эти чеки себе. Но, вы знаете, мы, финансисты, очень щепетильны. Я предназначал эти деньги приютам, и мне казалось, что я их обкрадываю, если не плачу именно этими чеками, как будто деньги не все одинаковы. Простите меня!
И он громко, но нервически рассмеялся.
— Прощаю, — любезно отвечал Монте-Кристо, — и кладу деньги в карман.
И он вложил чеки в свой бумажник.
— Но у вас остается еще сто тысяч франков? — сказал Данглар.
— О, пустяки! — сказал Монте-Кристо. — Лаж, вероятно, составляет приблизительно ту же сумму; оставьте ее себе, и мы будем квиты.
— Вы говорите серьезно, граф?
— Я никогда не шучу с банкирами, — отвечал Монте-Кристо с серьезностью, граничащей с дерзостью.
И он направился к двери как раз в ту минуту, когда лакей докладывал:
— Господин де Бовиль, главный казначей Управления приютов.
— Вот видите, — сказал Монте-Кристо, — я пришел как раз вовремя, чтобы воспользоваться вашими чеками; их берут нарасхват.
Данглар снова побледнел и поспешил проститься с графом.
Монте-Кристо обменялся церемонным поклоном с г-ном де Бовилем, который дожидался в приемной и был тотчас же после ухода графа введен в кабинет Данглара.
На лице графа, всегда таком серьезном, мелькнула мимолетная улыбка, когда в руке у казначея приютов он увидел бумажник.
У дверей его ждала коляска, и он велел тотчас же ехать в банк.
Тем временем Данглар, подавляя волнение, шел навстречу посетителю.
Нечего и говорить, что на его губах застыла приветливая улыбка.
— Здравствуйте, дорогой кредитор, — сказал он, потому что я бьюсь о заклад, что ко мне является именно кредитор.
— Вы угадали, барон, — отвечал Бовиль, — в моем лице к вам являются приюты: вдовы и сироты моей рукой просят у вас подаяния в пять миллионов.
— А еще говорят, что сироты достойны сожаления! — сказал Данглар, продолжая шутку. — Бедные дети!
— Вот я и пришел от их имени, — сказал Бовиль. — Вы должны были получить мое письмо вчера…
— Да.
— Вот и я, с распиской в получении.
— Дорогой господин де Бовиль, — сказал Данглар, — ваши вдовы и сироты, если вы ничего не имеете против, будут добры подождать двадцать четыре часа, потому что граф де Монте-Кристо, который только что отсюда вышел… ведь вы с ним встретились, правда?
— Да, так что же?
— Так вот, господин де Монте-Кристо унес их пять миллионов!
— Как так!
— Граф имел у меня неограниченный кредит, открытый римским домом "Томсон и Френч". Он попросил у меня сразу пять миллионов, и я дал ему чек на банк; там я держу свои деньги; вы понимаете, я боюсь, что, если я потребую у управляющего банком десять миллионов в один день, это может ему показаться весьма странным. В два дня — другое дело, — добавил Данглар с улыбкой.
— Да что вы! — недоверчиво воскликнул Бовиль. — Пять миллионов этому господину, который только что вышел отсюда да еще раскланялся со мной, как будто я с ним знаком?
— Быть может, он вас знает, хотя вы с ним и не знакомы. Граф де Монте-Кристо знает всех.
— Пять миллионов!
— Вот его расписка. Поступите как апостол Фома: посмотрите и потрогайте.
Бовиль взял бумагу, которую ему протягивал Данглар, и прочел:
"Получил от барона Данглара пять миллионов сто тысяч франков, которые, по его желанию, будут ему возмещены банкирским домом "Томсон и Френч" в Риме".
— Все верно! — сказал он.
— Вам известен этот дом?
— Да, — сказал Бовиль, — у меня была с ним однажды сделка в двести тысяч франков, но с тех пор я больше ничего о нем не слышал.
— Это один из лучших банкирских домов в Европе, — сказал Данглар, небрежно бросая на стол взятую им из рук Бовиля расписку.
— И на его счету было пять миллионов только у вас? Да это какой-то набоб, этот граф де Монте-Кристо!
— Я уж, право, не знаю, кто он такой, но у него было три неограниченных кредита: один у меня, другой у Ротшильда, третий у Лаффита, и, как видите, — небрежно добавил Данглар, — он отдал предпочтение мне и оставил сто тысяч франков на лаж.
Бовиль выказал все признаки величайшего восхищения.
— Нужно будет его навестить, — сказал он. — Я постараюсь, чтобы он основал у нас какое-нибудь благотворительное заведение.
— И это дело верное: он одной милостыни раздает больше, чем на двадцать тысяч франков в месяц.
— Это замечательно! Притом, я ему поставлю в пример госпожу де Морсер и ее сына.
— В каком отношении?
— Они пожертвовали все свое состояние приютам.
— Какое состояние?
— Да их собственное, состояние покойного генерала де Морсер.
— Но почему?
— Потому, что они не хотели пользоваться имуществом, приобретенным такими низкими способами.
— Чем же они будут жить?
— Мать уезжает в провинцию, а сын поступает на военную службу.
— Скажите, какая щепетильность! — воскликнул Данглар.
— Я не далее как вчера зарегистрировал дарственный акт.
— И сколько у них было?
— Да не слишком много, миллион двести тысяч с чем-то. Но вернемся к нашим миллионам.
— Извольте, — сказал самым естественным тоном Данглар. — Так вам очень спешно нужны эти деньги?
— Очень, завтра у нас кассовая ревизия.
— Завтра! Почему вы это сразу не сказали? До завтра еще целая вечность! В котором часу ревизия?
— В два часа.
— Пришлите в полдень, — сказал с обычной улыбкой Данглар.
Бовиль в ответ только кивнул, теребя свой бумажник.
— Или вот что, — сказал Данглар, — можно сделать лучше.
— Что именно?
— Расписка графа Монте-Кристо — это те же деньги, предъявите эту расписку Ротшильду или Лаффиту — они тотчас же ее примут.
— Несмотря на то, что им придется рассчитываться с Римом?
— Разумеется, вы только потеряете тысяч пять-шесть на учете.
Казначей подскочил.
— Ну нет, знаете: я лучше подожду до завтра. Как вы это просто говорите!
— Прошу прощения, — сказал Данглар с удивительной наглостью, — я было подумал, что вам нужно покрыть небольшую недостачу.
— Что вы! — воскликнул казначей.
— Это бывает у нас, и тогда приходится идти на жертвы.
Слава Богу, нет, — сказал Бовиль.
— В таком случае до завтра; согласны, мой дорогой?
— Хорошо, до завтра; но уж наверное?
— Да вы шутите! Пришлите в полдень, банк будет предупрежден.
— Я приду сам.
— Тем лучше, я буду иметь удовольствие увидеться с вами.
Они пожали друг другу руки.
— Кстати, — сказал Бовиль, — разве вы не будете на похоронах бедной мадемуазель де Вильфор? Я встретил процессию на бульваре.
— Нет, — отвечал банкир, — я еще немного смешон после этой истории с Бенедетто и прячусь.
— Напрасно; чем вы виноваты?
— Знаете, мой дорогой, когда носишь незапятнанное имя, как мое, становишься щепетилен.
— Все сочувствуют вам, поверьте, и все особенно жалеют вашу дочь.
— Бедная Эжени! — произнес Данглар с глубоким вздохом. — Вы знаете, что она постригается?
— Нет.
— Увы, к несчастью, это так. На следующий день после скандала она решила уехать с подругой-монахиней; она хочет поискать какой-нибудь строгий монастырь в Италии или в Испании.
— Это ужасно!
И господин де Бовиль удалился, выражая свои соболезнования несчастному отцу.
Но едва он вышел, как Данглар с выразительным жестом, о котором могут составить себе представление только те, кто видел, как Фредерик играет Робера Макера, воскликнул:
— Болван!!!
И, пряча расписку Монте-Кристо в маленький бумажник, добавил:
— Приходи в полдень! В полдень я буду далеко!
Затем он запер двери на ключ, опорожнил все ящики своей кассы, собрал тысяч пятьдесят кредитными билетами, сжег кое-какие бумаги, другие положил на видное место и сел писать письмо; кончив его, он запечатал конверт и надписал:
"Баронессе Данглар".
— Вечером я сам положу его к ней на туалетный столик, — пробормотал он.
Затем достал из ящика стола паспорт.
— Отлично, — сказал он, — действителен еще на два месяца.
VIII
КЛАДБИЩЕ ПЕР-ЛАШЕЗ
Бовиль в самом деле встретил похоронную процессию, провожавшую Валентину к месту последнего упокоения.
Погода была хмурая и облачная: ветер, еще теплый, но уже гибельный для пожелтелых листьев, срывал их с оголяющихся ветвей и кружил над огромной толпой, заполнявшей бульвары.
Вильфор, истый парижанин, смотрел на кладбище Пер-Лашез как на единственное, достойное принять прах одного из членов парижской семьи; все остальные кладбища казались ему слишком провинциальными, какими-то меблированными комнатами смерти. Только на кладбище Пер-Лашез покойник из хорошего общества был у себя дома.
Здесь, как мы видели, он купил в вечное владение место, на котором возвышалась усыпальница, так быстро заселившаяся всеми членами его первой семьи.
Надпись на фронтоне мавзолея гласила: "Семья Сен-Меран и Вильфор" — такова была последняя воля бедной Рене, матери Валентины.
Итак, пышный кортеж от предместья Сент-Оноре продвигался к Пер-Лашез. Пересекли весь Париж, прошли по предместью Тампль, затем по наружным бульварам до кладбища. Более пятидесяти собственных экипажей следовало за двадцатью траурными каретами, а за этими пятьюдесятью экипажами более пятисот человек шло пешком.
Это были почти все молодые люди, которых как громом поразила смерть Валентины; несмотря на ледяное веяние века, на прозаичность эпохи, они поддавались поэтическому обаянию этой прекрасной, непорочной, пленительной девушки, погибшей в цвете лет.
Когда процессия приближалась к заставе, появился экипаж, запряженный четырьмя резвыми лошадьми, которые сразу остановились; их нервные ноги напряглись, как стальные пружины: приехал граф Монте-Кристо.
Граф вышел из коляски и смешался с толпой, провожавшей пешком похоронную колесницу.
Шато-Рено заметил его; он тотчас же оставил свою карету и присоединился к нему. Бошан также покинул свой наемный кабриолет.
Граф внимательно осматривал толпу: он, видимо, искал кого-то. Наконец он не выдержал.
— Где Моррель? — спросил он. — Кто-нибудь из вас, господа, знает, где он?
— Мы задавали себе этот вопрос еще в доме покойной, — сказал Шато-Рено, — никто из нас его не видел.
Граф замолчал, продолжая оглядываться.
Наконец пришли на кладбище.
Монте-Кристо зорко оглядел рощи тисов и сосен и вскоре перестал беспокоиться: среди темных грабов промелькнула тень, и Монте-Кристо, должно быть, узнал того, кого искал.
Все знают, что такое похороны в этом великолепном некрополе: черные группы людей, рассеянные по белым аллеям; безмолвие неба и земли, изредка нарушаемое треском ломающихся веток или живой изгороди вокруг какой-нибудь могилы; скорбные голоса священников, которым вторит то там, то здесь рыдание, вырвавшееся из-за груды цветов, где поникла женщина с молитвенно сложенными руками.
Тень, которую заметил Монте-Кристо, быстро пересекла рощу за могилой Элоизы и Абеляра, поравнялась с факельщиками, шедшими во главе процессии, и вместе с ними подошла к месту погребения.
Все взгляды скользили с предмета на предмет.
Но Монте-Кристо смотрел только на эту тень, почти не замеченную окружающими.
Два раза граф выходил из рядов, чтобы посмотреть, не ищет ли рука этого человека оружия, спрятанного в складках одежды.
Когда кортеж остановился, в этой тени узнали Морреля; бледный, со впалыми щеками, в наглухо застегнутом сюртуке, судорожно комкая шляпу в руках, он стоял, прислонясь к дереву, на холме, возвышавшемся над мавзолеем. так что мог видеть все подробности предстоящего печального обряда.
Все совершилось согласно обычаям. Несколько человек— как всегда, наименее опечаленные — произнесли речи. Одни оплакивали эту безвременную кончину; другие распространялись о скорби отца; нашлись и такие, которые уверяли, что Валентина не раз просила у г-на де Вильфор пощады виновным, над чьей головой он заносил меч правосудия; словом, не жалели цветистых метафор и прочувствованных оборотов, переиначивая на все лады стансы Малерба к Дюперье.
Монте-Кристо ничего не слышал, ничего не видел, вернее, он видел лишь Морреля, чье спокойствие и неподвижность представляли страшное зрелище для того, кто знал, что совершается в его душе.
— Посмотрите! — сказал вдруг Бошан, обращаясь к Дебрэ. — Вот Моррель! Куда это он залез?
И они показали на него Шато-Рено.
— Какой он бледный, — сказал тот, вздрогнув.
— Ему холодно, — возразил Дебрэ.
— Нет, — медленно произнес Шато-Рено, — по-моему, он потрясен. Максимилиан — человек очень впечатлительный.
— Да нет же! — сказал Дебрэ. — Ведь он почти не был знаком с мадемуазель де Вильфор. Вы сами говорили.
— Это верно. Все же, я помню, на балу у госпожи де Морсер он три раза танцевал с ней; знаете, граф, на том балу, где вы произвели такое впечатление.
— Нет, не знаю. — ответил Монте-Кристо, не замечая даже, на что и кому он отвечает, до того он был занят Моррелем, у которого покраснели щеки, как у человека, старающегося не дышать.
— Речи кончились, прощайте, господа, — вдруг сказал Монте-Кристо.
И он подал сигнал к разъезду, исчезнув сам, причем. никто не заметил, куда он направился.
Церемония похорон кончилась, присутствующие пустились в обратный путь.
Один Шато-Рено поискал Морреля глазами; но, пока он провожал взглядом удаляющегося графа, Моррель покинул свое место, и Шато-Рено, так и не найдя его, последовал за Дебрэ и Бошаном.
Монте-Кристо вошел в кусты и, спрятавшись за широкой могилой, следил за каждым движением Морреля, который приближался к мавзолею, покинутому любопытными, а потом и могильщиками.
Моррель медленно посмотрел вокруг себя; в то время как его взгляд был обращен в противоположную сторону, Монте-Кристо незаметно подошел еще на десять шагов.
Максимилиан опустился на колени.
Граф, пригнувшись, с расширенными, остановившимися глазами, весь в напряжении, готовый броситься по первому знаку, продолжал приближаться к нему.
Моррель коснулся лбом каменной ограды, обеими руками ухватился за решетку и прошептал:
— Валентина!
Сердце графа не выдержало звука его голоса; он сделал еще шаг и тронул Морреля за плечо:
— Вы здесь, мой друг, — сказал он. — Я вас искал.
Монте-Кристо ожидал бури жалоб, упреков, — он ошибался.
Моррель взглянул на него и, с наружным спокойствием, ответил:
— Вы видите, я молился!
Монте-Кристо испытующим взглядом окинул Максимилиана с ног до головы.
Этот осмотр, казалось, успокоил его.
— Хотите, я вас отвезу в город? — предложил он Моррелю.
— Нет, спасибо.
— Не нужно ли вам чего-нибудь?
— Дайте мне молиться.
Граф молча отошел, но лишь для того, чтобы укрыться в новом месте, откуда он по-прежнему не терял Морреля из виду. Наконец тот встал, отряхнул пыль с колен и пошел по дороге в Париж, ни разу не обернувшись.
Он медленно прошел улицу Ла-Рокет.
Граф, отослав свой экипаж, дожидавшийся у ворот кладбища, шел в ста шагах позади Максимилиана.
Максимилиан пересек канал и по бульварам достиг улицы Меле.
Через пять минут после того как калитка закрылась за Моррелем, она открылась для Монте-Кристо.
Жюли была в саду и внимательно наблюдала, как Пенелон, очень серьезно относившийся к своей профессии садовника, нарезал черенки бенгальских роз.
— Граф де Монте-Кристо! — воскликнула она с искренней радостью, которую выражал обычно каждый член семьи, когда Монте-Кристо появлялся на улице Меле.
— Максимилиан только что вернулся, правда? — спросил граф.
— Да, он, кажется, пришел, — сказала Жюли, — но, прошу вас, позовите Эмманюеля.
— Простите, сударыня, но мне необходимо сейчас же пройти к Максимилиану, — возразил Монте-Кристо, — у меня к нему чрезвычайно важное дело.
— Тогда идите, — сказала она, провожая его своей милой улыбкой, пока он не исчез на лестнице.
Монте-Кристо быстро поднялся на третий этаж, где жил Максимилиан; остановившись на площадке, он прислушался: все было тихо.
Как в большинстве старинных домов, занимаемых самим хозяином, на площадку выходила всего лишь одна застекленная дверь.
Но только в этой застекленной двери не было ключа.
Максимилиан заперся изнутри; а через дверь ничего нельзя было увидеть, потому что стекла были затянуты красной шелковой занавеской.
Беспокойство графа выразилось ярким румянцем, — признак необычайного волнения у этого бесстрастного человека.
— Что делать? — прошептал он.
На минуту он задумался.
— Позвонить? — продолжал он. — Нет! Иной раз звонок, чей-нибудь приход, ускоряет решение человека, который находился в таком состоянии, как Максимилиан, и тогда в ответ на звонок раздается другой звук.
Монте-Кристо вздрогнул с головы до ног, и так как его решения всегда бывали молниеносны, то он ударил локтем в дверное стекло, и оно разлетелось вдребезги; он поднял занавеску и увидел Морреля, который сидел у письменного стола с пером в руке и резко обернулся при звоне разбитого стекла.
— Это ничего, — сказал граф, — простите, ради Бога, дорогой друг: я поскользнулся и попал локтем в ваше стекло; раз уж оно разбилось, я этим воспользуюсь и войду к вам; не беспокойтесь, не беспокойтесь.
И, протянув руку в разбитое стекло, граф открыл дверь.
Моррель встал, явно раздосадованный, и пошел навстречу Монте-Кристо, не столько чтобы принять его, сколько чтобы загородить ему дорогу.
— Право же, в этом виноваты ваши слуги, — сказал Монте-Кристо, потирая локоть, — у вас в доме паркет натерт, как зеркало.
— Вы не поранили себя? — холодно спросил Моррель.
— Не знаю. Но что это вы делали? Писали?
— Я?
—,У вас пальцы в чернилах.
— Да, я писал, — отвечал Моррель, — это со мной иногда случается, хоть я и военный.
Монте-Кристо сделал несколько шагов по комнате. Максимилиан не мог не впустить его, но он шел за ним.
— Вы писали? — продолжал Монте-Кристо, глядя на него пытливо-пристальным взглядом.
— Я уже имел честь сказать вам, что да, — ответил Моррель.
Граф бросил взгляд кругом.
— Положив пистолеты возле чернильницы? — сказал он, указывая Моррелю на оружие, лежавшее на столе.
— Я отправляюсь путешествовать, — отвечал Максимилиан.
— Друг мой! — сказал Монте-Кристо с бесконечной нежностью.
— Сударь!
— Дорогой Максимилиан, не надо крайних решений, умоляю вас!
— У меня крайние решения? — сказал Моррель, пожимая плечами. — Почему путешествие — это крайнее решение, скажите, пожалуйста?
— Сбросим маски, Максимилиан, — сказал Монте-Кристо. — Вы меня не обманете своим деланным спокойствием, как я вас не обману моим поверхностным участием. Вы ведь сами понимаете, что, если я поступил так, как сейчас, если я разбил стекло и ворвался в запертую дверь к своему другу, — значит, у меня серьезные опасения, или, вернее, ужасная уверенность. Моррель, вы хотите убить себя.
— Что вы! — сказал Моррель, вздрогнув. — Откуда вы это взяли, граф?
— Я вам говорю, что вы хотите убить себя, — продолжал граф тем же тоном, — и вот доказательство.
И, подойдя к столу, он приподнял белый листок, положенный молодым человеком на начатое письмо, и взял письмо в руки.
Моррель бросился к нему, чтобы вырвать письмо.
Но Монте-Кристо предвидел это движение и предупредил его; схватив Максимилиана за кисть руки, он остановил его, как стальная цепь останавливает приведенную в действие пружину.
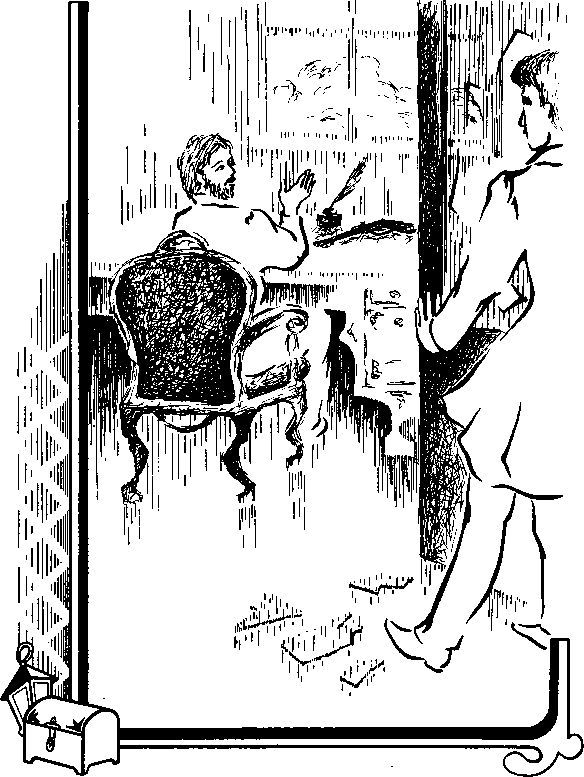
— Вы хотели убить себя, Моррель, — сказал он. — Это написано здесь черным по белому!
— Так что же! — воскликнул Моррель, разом отбросив свое показное спокойствие. — А если даже и так, если я решил направить на себя дуло этого пистолета, кто мне помешает? У кого хватит смелости мне помешать? Когда я скажу: все мои надежды рухнули, мое сердце разбито, моя жизнь погасла, вокруг меня только тьма и мерзость, земля превратилась в прах, слышать человеческие голоса для меня пытка; когда я скажу: дать мне умереть — эго милосердие, ибо если вы не дадите мне умереть, я потеряю рассудок, я сойду с ума; когда я это скажу, когда увидят, что я говорю это с отчаянием и слезами в сердце, кто мне ответит: "Вы не правы!"? Кто мне помешает перестать быть несчастнейшим из несчастных? Скажите, граф, уж не вы ли осмелитесь на это?
— Да, Моррель, — сказал твердым голосом Монте-Кристо, чье спокойствие странно контрастировало с волнением Максимилиана. — Да, я.
— Вы! — воскликнул Моррель, с возрастающим гневом и укоризной. — Вы обольщали меня нелепой надеждой, вы удерживали, убаюкивали, усыпляли меня пустыми обещаниями, когда я мог бы сделать что-нибудь решительное, отчаянное и спасти ее или хотя бы видеть ее умирающей в моих объятиях; вы хвалились, будто владеете всеми средствами разума, всеми силами природы; вы притворяетесь, что все можете, вы разыгрываете роль Провидения, и вы даже не сумели дать противоядия отравленной девушке! Нет, знаете, сударь, вы внушили бы мне жалость, если бы не внушали отвращения!
— Моррель!
— Да, вы предложили мне сбросить маску; так радуйтесь, что я ее сбросил. Да, когда вы последовали за мной на кладбище, я вам еще отвечал, по доброте душевной; когда вы вошли сюда, я дал вам войти… Но вы злоупотребляете моим терпением, вы преследуете меня в моей комнате, куда я скрылся, как в могилу, вы приносите мне новую муку — мне, который думал, что исчерпал их уже все… Так слушайте, граф Монте-Кристо, мой мнимый благодетель, всеобщий спаситель, вы можете быть довольны: ваш друг умрет на ваших глазах!..
И Моррель с безумным смехом вторично бросился к пистолетам.
Монте-Кристо, бледный как привидение, но с метавшим молнии взором, положил руку на оружие и сказал безумцу:
— А я повторяю: вы не убьете себя!
— Помешайте же мне! — воскликнул Моррель с последним порывом, который, как и первый, разбился о стальную руку графа.
— Помешаю!
— Да кто вы такой наконец? Откуда у вас право тиранически распоряжаться свободными и мыслящими людьми? — воскликнул Максимилиан.
— Кто я? — повторил Монте-Кристо. — Слушайте. Я единственный человек на свете, который имеет право сказать вам: Моррель, я не хочу, чтобы сын твоего отца сегодня умер!
И Монте-Кристо, величественный, преображенный, неодолимый, подошел, скрестив руки, к трепещущему Максимилиану, который, невольно покоренный почти божественной силой этого человека, отступил на шаг.
— Зачем вы говорите о моем отце! — пробормотал он. — Зачем память моего отца соединять с тем, что происходит сегодня?
— Потому что я тот, кто спас жизнь твоему отцу, когда он хотел убить себя, как ты сегодня; потому что я тот, кто послал кошелек твоей юной сестре и "Фараон" старику Моррелю; потому что я Эдмон Дантес, на коленях у которого ты играл ребенком.
Потрясенный Моррель, шатаясь, тяжело дыша, сделал еще шаг назад; потом силы ему изменили, и он с громким криком упал к ногам Монте-Кристо.
И вдруг в этой благородной душе совершалось внезапное и полное перерождение: Моррель вскочил, выбежал из комнаты и кинулся на лестницу, крича во весь голос:
— Жюли! Жюли! Эмманюель!
Монте-Кристо хотел броситься за ним вдогонку, но Максимилиан скорее дал бы себя убить, чем выпустил бы ручку двери, которую он закрывал перед графом.
На крики Максимилиана в испуге прибежали Жюли и Эмманюель в сопровождении Пенелона и слуг.
Моррель взял их за руки и открыл дверь.
— На колени! — воскликнул он голосом, сдавленным от слез. — Вот наш благодетель, спаситель нашего отца, вот…
Он хотел сказать:
— Вот Эдмон Дантес!
Граф остановил его, схватив за руку.
Жюли припала к руке графа, Эмманюель целовал его, как бога-покровителя; Моррель снова стал на колени и поклонился до земли.
Тогда этот железный человек почувствовал, что сердце его разрывается, пожирающее пламя хлынуло из его груди к глазам; он склонил голову и заплакал.
Несколько минут в этой комнате лились слезы и слышались вздохи, этот возвышенный хор показался бы сладостным даже возлюбленнейшим ангелам Божьим.
Жюли, едва придя в себя после испытанного потрясения, бросилась вон из комнаты, спустилась этажом ниже, с детской радостью вбежала в гостиную и приподняла стеклянный колпак, под которым лежал кошелек, подаренный незнакомцем с Мельянских аллей.
Тем временем Эмманюель прерывающимся голосом говорил Монте-Кристо:
— Ах, граф, ведь вы знаете, что мы так часто говорим о нашем неведомом благодетеле, знаете, какой благодарностью и каким обожанием мы окружаем память о нем. Как вы могли так долго ждать, чтобы открыться? Право, это было жестоко по отношению к нам и, я готов сказать, по отношению к вам самим!
— Поймите, друг мой, — сказал граф, — я могу называть вас так, потому что, сами того не зная, вы мне друг вот уже одиннадцать лет; важное событие заставило меня раскрыть эту тайну, я не могу сказать вам какое. Видит Бог, я хотел всю жизнь хранить эту тайну в глубине своей души; Максимилиан вырвал ее у меня угрозами, в которых, я уверен, он раскаивается.
Максимилиан все еще стоял на коленях, немного поодаль, припав лицом к креслу.
— Следите за ним, — тихо добавил Монте-Кристо, многозначительно пожимая Эмманюелю руку.
— Почему? — удивленно спросил тот.
— Не могу объяснить вам, но следите за ним.
Эмманюель обвел комнату взглядом и увидел пистолеты Морреля.
Глаза его с испугом остановились на оружии, и он указал на него Монте-Кристо, медленно подняв руку до уровня стола.
Монте-Кристо наклонил голову.
Эмманюель протянул было руку к пистолетам.
Но граф остановил его.
Затем, подойдя к Моррелю, он взял его за руку; бурные чувства, только что потрясавшие сердце Максимилиана, сменились глубоким оцепенением.
Вернулась Жюли, она держала в руке шелковый кошелек, и две сверкающие радостные слезинки катились по ее щекам, как две капли утренней росы.
— Вот наша реликвия, — сказала она, — не думайте, что я ею меньше дорожу с тех пор, как мы узнали, кто наш спаситель.
— Дитя мое, — сказал Монте-Кристо, краснея, — позвольте мне взять этот кошелек; теперь, когда вы узнали меня, я хочу, чтобы вам напоминало обо мне только дружеское расположение, которого вы меня удостаиваете.
— Нет, нет, умоляю вас, — воскликнула Жюли, прижимая кошелек к сердцу, — ведь вы можете уехать, ведь придет горестный день и вы нас покинете, правда?
— Вы угадали, сударыня, — отвечал, улыбаясь, Монте-Кристо, — через неделю я покину эту страну, где столько людей, заслуживающих небесной кары, жили счастливо, в то время как отец мой умирал от голода и горя.
Сообщая о своем отъезде, Монте-Кристо взглянул на Морреля и увидел, что слова "Я покину эту страну" не вывели Морреля из его летаргии; он понял, что ему предстоит выдержать еще последнюю битву с горем друга, и, взяв за руки Жюли и Эмманюеля, он сказал им отечески мягко и повелительно:
— Дорогие друзья, прошу вас, оставьте меня наедине с Максимилианом.
Жюли это давало возможность унести драгоценную реликвию, о которой забыл Монте-Кристо.
Она поторопила мужа.
— Оставим их, — сказал она.
Граф остался с Моррелем, недвижным, как изваяние.
— Послушай, Максимилиан, — сказал граф, властно касаясь его плеча, — станешь ли ты, наконец, опять человеком?
— Да, я опять начинаю страдать.
Граф нахмурился; казалось, он был во власти тяжкого сомнения.
— Максимилиан! — сказал он. — Такие мысли недостойны христианина.
— Успокойтесь, мой друг, — сказал Максимилиан, поднимая голову и улыбаясь графу, бесконечно печальной улыбкой, — я не стану искать смерти.
— Итак, — сказал Монте-Кристо, — нет больше пистолетов, нет больше отчаяния?
— Нет, ведь у меня есть нечто лучшее, чем дуло пистолета или острие ножа, чтобы излечиться от моей боли.
— Бедный безумец! Что же это такое?
— Моя боль, она сама убьет меня.
— Друг, выслушай меня, — сказал Монте-Кристо с такой же печалью. — Однажды, в минуту отчаяния, равного твоему, ибо оно привело к тому же решению, я, как и ты, хотел убить себя; однажды твой отец, в таком же отчаянии, тоже хотел убить себя.
Если бы твоему отцу, в тот миг, когда он приставлял дуло пистолета ко лбу, или мне, когда я отодвигал от своей койки тюремный хлеб, к которому не прикасался уже три дня, в тот роковой миг кто-нибудь сказал: "Живите! Настанет день, когда вы будете счастливы и благословите жизнь", — откуда бы ни исходил этот голос, мы бы встретили его с улыбкой сомнения, с тоской неверия. А между тем сколько раз, целуя тебя, твой отец благословлял жизнь, сколько раз я сам…
— Но вы потеряли только свободу, — воскликнул Моррель, прерывая его, — мой отец потерял только богатство; а я потерял Валентину!
— Посмотри на меня, Максимилиан, — сказал Монте-Кристо с той торжественностью, которая подчас делала его столь величавым и убедительным. — Посмотри, у меня нет ни слез на глазах, ни жара в крови, мое сердце не бьется уныло, а ведь я вижу, что ты страдаешь, Максимилиан, ты, которого я люблю как родного сына. Разве это не говорит тебе, что страдание — как жизнь: впереди всегда ждет неведомое. Я прошу тебя, и я приказываю тебе жить, ибо я знаю: будет день, когда ты поблагодаришь меня за то, что я сохранил тебе жизнь.
— Боже мой, — воскликнул молодой человек, — зачем вы это говорите, граф? Берегитесь! Быть может, вы никогда не любили!
— Дитя! — ответил граф.
— Не любили страстно, я хочу сказать, — продолжал Моррель. — Поймите, я с юных лет солдат; я дожил до двадцати девяти лет не любя, потому что те чувства, которые я прежде испытывал, нельзя назвать любовью, и вот в двадцать девять лет я увидел Валентину; почти два года я ее люблю, два года я читал в этом раскрытом для меня, как книга, сердце, начертанные рукой самого Бога, совершенства девушки и женщины. Граф, Валентина для меня была бесконечным счастьем, огромным, неведомым счастьем, слишком большим, слишком полным, слишком божественным для этого мира; и если в этом мире оно мне не было суждено, то без Валентины для меня на земле остается только отчаяние и скорбь.
— Я вам сказал: надейтесь, — повторил граф.
— Берегитесь, повторяю вам, — сказал Моррель, — вы стараетесь меня убедить, а если вы меня убедите, я сойду с ума, потому что я стану думать, что увижусь с Валентиной.
Граф улыбнулся.
— Мой друг, мой отец! — воскликнул Моррель в исступлении. — Берегитесь, повторяю вам в третий раз! Ваша власть надо мной меня пугает; берегитесь значения ваших слов: глаза мои оживают и сердце воскресает; берегитесь, ибо я готов поверить в сверхъестественное!
Я готов повиноваться, если вы мне велите отвалить камень от могилы дочери Иаира, я пойду по волнам, как апостол, если вы сделаете мне знак идти; берегитесь: я готов повиноваться.
— Надейся, друг мой, — повторил граф.
— Нет, — воскликнул Моррель, падая с высоты своей экзальтации в пропасть отчаяния, — вы играете мной, вы поступаете как добрая мать, вернее — как мать-эгоистка, которая слащавыми словами успокаивает больного ребенка, потому что его крик ей докучает. Нет, я был не прав, когда говорил, чтобы вы остерегались; не бойтесь, я так запрячу свое горе в глубине сердца, я сделаю его таким далеким, таким тайным, что вам даже не придется ему соболезновать. Прощайте, мой друг, прощайте.
— Напротив, Максимилиан, — сказал граф, — с нынешнего дня ты будешь жить подле меня, мы уже не расстанемся, и через неделю нас уже не будет во Франции.
— И вы по-прежнему говорите, чтобы я надеялся?
— Я говорю, чтобы ты надеялся, ибо знаю способ тебя исцелить.
— Граф, вы меня огорчаете еще больше, если это возможно. В постигшем меня несчастье вы видите только заурядное горе, и вы надеетесь меня утешить заурядным средством — путешествием.
И Моррель презрительно и недоверчиво покачал головой.
— Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? — отвечал Монте-Кристо. — Я верю в свои обещания, дай мне попытаться.
— Вы только затягиваете мою агонию.
— Итак, малодушный, — сказал граф, — тебе не хватает силы подарить твоему другу несколько дней, чтобы он мог сделать попытку? Да знаешь ли ты, на что способен граф де Монте-Кристо? Знаешь ли ты, какие земные силы мне подвластны? У меня довольно веры в Бога, чтобы добиться чуда от того, кто сказал, что вера движет горами!
Жди же чуда, на которое я надеюсь, или…
— Или… — повторил Моррель.
— Или, — берегись, Моррель, — я назову тебя неблагодарным.
— Сжальтесь надо мной!
— Максимилиан, слушай: мне очень жаль тебя. Так жаль, что, если я не исцелю тебя через месяц, день в день, час в час, — запомни мои слова, — я сам поставлю тебя перед этими заряженными пистолетами или перед чашей яда, самого верного яда Италии, более верного и быстрого, поверь мне, чем тот, который убил Валентину.
— Вы обещаете?
— Да, ибо я человек, ибо повторяю, я тоже хотел умереть, и часто, даже когда несчастье уже отошло от меня, я мечтал о блаженстве вечного сна.
— Так это верно, вы мне обещаете, граф? — воскликнул Максимилиан в упоении.
— Я не обещаю, я клянусь, — сказал Монте-Кристо, поднимая руку.
— Вы даете слово, что через месяц, если я не утешусь, вы предоставите мне право располагать моей жизнью, и, как бы я ни поступил, вы не назовете меня неблагодарным?
— Через месяц, день в день, Максимилиан; через месяц, час в час, и число это священно, — не знаю, подумал ли ты об этом? Сегодня пятое сентября. Сегодня десять лет, как я спас твоего отца, который хотел умереть.
Моррель схватил руку графа и поцеловал ее; тот не противился, словно понимая, что достоин такого поклонения.
— Через месяц, — продолжал Монте-Кристо, — ты найдешь на столе, за которым мы будем сидеть, хорошее оружие и легкую смерть, но взамен ты обещаешь мне ждать до этого дня и жить?
— Я тоже клянусь! — воскликнул Моррель.
Монте-Кристо привлек его к себе и крепко обнял.
— Отныне ты будешь жить у меня, — * сказал он, — ты займешь комнаты Гайде: по крайней мере сын заменит мне мою дочь.
— А где же Гайде? — спросил Моррель.
— Она уехала сегодня ночью.
— Она покинула вас?
— Нет, она ждет меня… Будь же готов переехать ко мне на Елисейские поля и дай мне выйти отсюда так, чтобы меня никто не видел.
Максимилиан склонил голову, послушный, как дитя или как апостол.
IX
ДЕЛЕЖ
В доме на улице Сен-Жермен-де-Пре, который Альбер де Морсер выбрал для своей матери и для себя, весь второй этаж, представляющий собой отдельную небольшую квартиру, был сдан весьма таинственной личности.
Это был мужчина, лица которого даже швейцар ни разу не мог разглядеть, когда тот входил или выходил: зимой он прятал подбородок в красный шейный платок, какие носят кучера из богатых домов, ожидающие своих господ у театрального подъезда, а летом сморкался как раз в ту минуту, когда проходил мимо швейцарской. Надо сказать, что, вопреки обыкновению, за этим жильцом никто не подглядывал: слух, будто под этим инкогнито скрывается весьма высокопоставленная особа с большими связями, заставлял уважать его тайну.
Являлся он обыкновенно в одно и то же время, изредка немного раньше или позже; но почти всегда, зимой и летом, он приходил в свою квартиру около четырех часов, и никогда в ней не ночевал.
Зимой, в половине четвертого, молчаливая служанка, смотревшая за квартирой, топила камин; летом, в половине четвертого, та же служанка подавала мороженое.
В четыре часа, как мы уже сказали, являлся таинственный жилец.
Через двадцать минут к дому подъезжала карета; из нее выходила женщина в черном или в темно-синем, с опущенной на лицо густой вуалью, она проскальзывала как тень мимо швейцарской и легкими, неслышными шагами подымалась по лестнице.
Ни разу не случилось, чтобы кто-нибудь спросил ее, куда она идет.
Таким образом, ее лицо, так же как и лицо незнакомца, было неизвестно обоим привратникам, этим примерным стражам, быть может единственным в огромном братстве столичных швейцаров, которые были способны на такую скромность.
Разумеется, она подымалась не выше второго этажа. Она негромко стучала условным стуком; дверь отворялась, затем плотно закрывалась — и все.
При выходе из дома — тот же маневр, что и при входе. Незнакомка выходила первая, все так же под вуалью, и садилась в карету, которая исчезала то в одном конце улицы, то в другом; спустя двадцать минут выходил незнакомец, зарывшись в шарф или прикрыв лицо платком, и тоже исчезал.
На другой день после визита Монте-Кристо к Данглару и похорон Валентины таинственный жилец пришел не в четыре часа, как всегда, а около десяти часов утра.
Почти тотчас же, без обычного перерыва, подъехала наемная карета, и дама под вуалью быстро поднялась по лестнице.
Дверь открылась и снова закрылась.
Но раньше чем дверь успела закрыться, дама воскликнула:
— Люсьен, друг мой!
Таким образом швейцар, поневоле услышав это восклицание, впервые узнал, что его жильца зовут Люсьеном; но так как это был примерный швейцар, то он дал себе слово не говорить этого даже своей жене.
— Что случилось, дорогая? — спросил тот, чье имя выдали смятение и поспешность дамы под вуалью. — Говорите скорее.
— Могу я положиться на вас?
— Конечно, вы же знаете. Но что случилось? Ваша записка сегодня утром повергла меня в полное недоумение. Такая поспешность, неровный почерк… Успокойте же меня или уж испугайте совсем!
— Случилось вот что! — сказала дама, устремив на Люсьена испытующий взгляд. — Данглар сегодня ночью уехал.
— Уехал? Данглар уехал? Куда?
— Не знаю.
— Как! Не знаете? Так он уехал совсем?
— Очевидно. В десять часов вечера он поехал на своих лошадях к Шарантонской заставе; там его ждала почтовая карета, он сел в нее со своим лакеем и сказал нашему кучеру, что едет в Фонтенбло.
— Ну так что ж? А вы говорите…
— Подождите, мой друг. Он оставил мне письмо.
— Письмо?
— Да. Прочтите.
И баронесса протянула Дебрэ распечатанное письмо.
Прежде чем начать читать, Дебрэ немного помедлил, словно старался отгадать, что окажется в письме, или, вернее, словно хотел, что бы в нем ни оказалось, заранее принять решение.
Через несколько секунд он, по-видимому, на чем-то остановился и начал читать.
Вот что было в этом письме, приведшем г-жу Данглар в такое смятение:
"Сударыня и верная наша супруга".
Дебрэ невольно остановился и посмотрел на баронессу, которая густо покраснела.
— Читайте! — сказала она.
Дебрэ продолжал:
"Когда Вы получите это письмо, у Вас уже не будет мужа! Не впадайте в чрезмерную тревогу; у Вас не будет мужа, как не будет дочери; другими словами, я буду на одной из тридцати или сорока дорог, по которым покидают Францию.
Вы ждете от меня объяснений, и так как Вы женщина, вполне способная их понять, то я Вам их и даю.
Слушайте же.
Сегодня от меня потребовали уплаты пяти миллионов, что я и выполнил; почти непосредственно вслед за этим потребовался еще один платеж, в той же сумме, и я отложил его на завтра; сегодня я уезжаю, чтобы избегнуть этого завтрашнего дня, который был бы для меня слишком неприятным.
Вы это понимаете, не правда ли, сударыня и драгоценнейшая супруга?
Я говорю: "Вы понимаете", потому что Вы знаете мои дела не хуже меня. Вы знаете их даже лучше, чем я, ибо, если бы потребовалось объяснить, куда девалась добрая половина моего состояния, еще недавно довольно приличного, то я не мог бы этого сделать, тогда как Вы, я уверен, прекрасно справились бы с этой задачей.
Женщины обладают безошибочным чутьем, у них имеется алгебра собственного изобретения, при помощи которой они могут объяснить любое чудо. А я знал только свои цифры и перестал понимать что бы то ни было, когда мои цифры меня обманули.
Случалось ли Вам восхищаться стремительностью моего падения, сударыня?
Изумлялись ли Вы сверкающему потоку моих расплавленных слитков?
Я, признаться, был ослеплен поразившей меня молнией; будем надеяться, что Вы нашли немного золота под пеплом.
С этой утешительной надеждой я и удаляюсь, сударыня и благоразумнейшая супруга, и моя совесть ничуть меня не укоряет за то, что я Вас покидаю; у Вас остаются друзья, упомянутый пепел и, в довершение блаженства, свобода, которую я спешу Вам вернуть.
Все же, сударыня, здесь будет уместно сказать несколько слов начистоту.
Пока я надеялся, что Вы действуете на пользу нашего дома, в интересах нашей дочери, я философски закрывал глаза, но, так как Вы в этот дом внесли полное разорение, я не желаю служить фундаментом чужому благополучию.
Я взял Вас богатой, но малоуважаемой.
Простите мне мою откровенность, но так как, по всей вероятности, я говорю только для нас двоих, то я не вижу оснований что-либо приукрашивать.
Я приумножал наше богатство, которое в течение пятнадцати с лишним лет непрерывно возрастало до того часа, пока неведомые и непонятные мне самому бедствия не обрушились на меня и не обратили его в прах, и притом, смело могу сказать, без всякой моей вины.
Вы, сударыня, старались приумножить только свое собственное состояние, в чем и преуспели, я в этом убежден.
Итак, я оставляю Вас такой, какой я Вас взял: богатой, но малоуважаемой.
Прощайте.
Я тоже, начиная с сегодняшнего дня, буду заботиться только о себе.
Верьте, я очень признателен Вам за пример и не премину ему последовать.
Ваш преданный муж барон Данглар".
Во время этого длинного и тягостного чтения баронесса внимательно следила за Дебрэ; она заметила, что он, несмотря на все свое самообладание, раза два менялся в лице.
Кончив, он медленно сложил письмо и снова задумался.
— Ну что? — спросила г-жа Данглар с легко понятной тревогой.
— Что, сударыня? — машинально повторил Дебрэ.
— Что вы думаете об этом?
— Очень просто, сударыня: я думаю, что у Данглара были подозрения.
— Да, конечно, но неужели вам больше нечего мне сказать?
— Я вас не понимаю,^ сказал Дебрэ с ледяной холодностью.
— Он уехал! Уехал совсем! Уехал, чтобы не возвращаться!
— Не верьте этому, баронесса, — сказал Дебрэ.
— Да нет же, он не вернется; я его знаю, этот человек непоколебим, когда затронуты его интересы. Если бы он считал, что я могу быть ему полезна, он увез бы меня с собой. Он оставляет меня в Париже, значит, наша разлука входит в его планы, а если так, она бесповоротна, и я свободна навсегда, — добавила г-жа Данглар с мольбой в голосе.
Но Дебрэ не ответил и оставил ее с тем же тревожным вопросом во взгляде и в душе.
— Что же это? — сказала она наконец. — Вы молчите?
— Я могу только задать вам один вопрос: что вы намерены делать?
— Я сама хотела спросить вас об этом, — сказала г-жа Данглар с сильно бьющимся сердцем.
— Так вы спрашиваете у меня совета?
— Да, совета, — упавшим голосом отвечала г-жа Данглар, и сердце ее сжалось.
— В таком случае, — холодно проговорил Дебрэ, — я вам советую отправиться путешествовать.
— Путешествовать! — прошептала г-жа Данглар.
— Разумеется. Как сказал Данглар, вы богаты и вполне свободны. Мне кажется, после двойного скандала — несостоявшейся свадьбы мадемуазель Эжени и исчезновения Данглара — вам совершенно необходимо уехать из Парижа. Нужно только, чтобы все знали, что вы покинуты, и чтобы вас считали бедной: жене банкрота никогда не простят богатства и широкого образа жизни. Чтобы достигнуть первого, вам достаточно остаться в Париже еще две недели, повторяя всем и каждому, что Данглар вас бросил, и рассказывая вашим близким подругам, как это произошло; а уж они разнесут это повсюду. Потом вы выедете из своего дома, оставите там свои брильянты, откажетесь от своей доли в имуществе, и все станут превозносить ваше бескорыстие и петь вам хвалы. Тогда все будут знать, что вы покинуты, и все будут считать, что вы остались без средств; я один знаю ваше финансовое положение и готов представить вам отчет, как честный компаньон.
Баронесса, бледная, сраженная, слушала эту речь с ужасом и отчаянием, тогда как Дебрэ был совершенно спокоен и равнодушен.
— Покинута! — повторила она. — Вы правы, сударь, покинута!.. Никто не усомнится в моем одиночестве!
Это были единственные слова, которыми эта женщина, такая гордая и так страстно любящая, могла ответить Дебрэ.
— Но зато вы богаты, даже очень богаты, — продолжал он, вынимая из бумажника какие-то бумаги и раскладывая их на столе.
Госпожа Данглар молча смотрела, стараясь унять бьющееся сердце и удержать слезы, которые выступили у нее на глазах. Но наконец чувство собственного достоинства взяло верх; и если ей и не удалось унять биение сердца, то она не пролила ни одной слезы.
— Сударыня, — сказал Дебрэ, — мы с вами стали компаньонами почти полгода тому назад. Вы внесли сто тысяч франков. Это было в апреле текущего года.
В мае начались наши операции. В мае мы реализовали четыреста пятьдесят тысяч франков. В июне прибыль достигла девятисот тысяч. В июле мы прибавили к этому еще миллион семьсот тысяч франков; вы помните, это был месяц испанских бумаг.
В августе, в начале месяца, мы потеряли триста тысяч франков; но к пятнадцатому числу мы отыгрались, а в конце месяца взяли реванш; я подвел итог нашим операциям с мая по вчерашний день. Мы имеем актив в два миллиона четыреста тысяч франков, то есть миллион двести тысяч на долю каждого.
— Затем, — продолжал Дебрэ, перелистывая свою записную книжку с методичностью и спокойствием биржевого маклера, — мы имеем восемьдесят тысяч франков сложных процентов на эту сумму, оставшуюся у меня на руках.
— Но откуда эти проценты? — перебила баронесса. — Ведь вы никогда не пускали эти деньги в оборот?
— Прошу прощения, сударыня, — холодно сказал Дебрэ, — я имел от вас полномочия пустить их в оборот, и воспользовался этим.
Итак, на вашу долю приходится сорок тысяч франков процентов, да еще первоначальный взнос в сто тысяч франков, — иначе говоря, миллион триста сорок тысяч франков. При этом, сударыня, всего лишь третьего дня я позаботился обратить вашу долю в деньги; видите, я словно предчувствовал, что мне придется неожиданно дать вам отчет.
Деньги ваши здесь: половина кредитными билетами, половина чеками на предъявителя. Они именно здесь: мой дом казался мне недостаточно надежным, и я считал, что нотариусы не умеют молчать, а недвижимость кричит еще громче, чем нотариусы; наконец, вы не имеете права ничего покупать сами и ничем владеть, помимо имущества, принадлежащего вам сообща с вашим супругом; вот почему я хранил эту сумму — отныне единственное ваше богатство — в тайнике, вделанном в этот шкаф; для большей верности я сделал его собственноручно.
— Итак, сударыня, — продолжал Дебрэ, отпирая сначала шкаф, затем тайник, вот восемьсот тысячефранковых билетов; видите, они переплетены, как толстый альбом; я присоединяю к нему купон ренты в двадцать пять тысяч франков; остается около ста десяти тысяч франков. Вот чек на предъявителя для моего банкира; а так как мой банкир не Данглар, то можете быть спокойны: чек будет оплачен.
Госпожа Данглар машинально взяла чек на предъявителя, купон ренты и пачку кредитных билетов.
Разложенное здесь, на столе, это огромное богатство казалось просто кучкой ничтожных бумажек.
Госпожа Данглар, с сухими глазами, подавляя рыдания, положила альбом в ридикюль, спрятала купон ренты и чек в свой кошелек и стояла бледная, безмолвная, ожидая ласкового слова, которое утешило бы ее в том, что она так богата.
Но она ждала напрасно.
— Теперь, сударыня, — сказал Дебрэ, — вы прекрасно обеспечены, у вас что-то около шестидесяти тысяч ливров годового дохода — сумма, огромная для женщины, которой нельзя будет жить открыто еще по меньшей мере год.
Вы можете позволить себе любую прихоть, какая придет вам в голову; к тому же, если ваша доля покажется вам недостаточной по сравнению с тем, чего вы лишились, вы можете обратиться к моей доле, сударыня, и я готов вам предложить — взаимообразно, разумеется, — все, что я имею, то есть миллион шестьдесят тысяч франков.
— Благодарю вас, сударь, — отвечала баронесса, — вы сами понимаете, что моя доля — это гораздо больше, чем нужно несчастной женщине, которая уже не рассчитывает— во всяком случае на долгое время — появиться в обществе.
Дебрэ удивился, но тотчас овладел собой и сделал жест, который можно было истолковать как наиболее вежливое выражение мысли:
"Как угодно!"
Госпожа Данглар, быть может, все еще на что-то надеялась, но когда она увидела этот беспечный жест и уклончивый взгляд Дебрэ, а также глубокий поклон и многозначительное молчание, которое затем последовало, она подняла голову, отворила дверь и без гнева, без содрогания, но и не колеблясь, бросилась на лестницу, даже не кивнув тому, кто давал ей так уйти.
— Пустяки! — сказал Дебрэ, когда она ушла. — Все это одни разговоры; она останется в своем доме, будет читать романы и играть в ландскнехт, раз уже не может играть на бирже.
И, взяв опять свою записную книжку, он принялся старательно вычеркивать суммы, которые он выплатил.
— Мне остается миллион шестьдесят тысяч франков, — сказал он. — Как жаль, что умерла мадемуазель де Вильфор! Это была бы для меня во всех отношениях подходящая жена.
И флегматично, как всегда, он стал ждать, пока после ухода г-жи Данглар пройдет двадцать минут, чтобы выйти самому.
В течение этих двадцати минут Дебрэ производил подсчеты, положив часы перед собой.
Любознательный бес, которого всякое безудержное воображение создало бы более или менее удачно, если бы Лесаж не завоевал первенства своим шедевром, — Асмодей, подымающий кровли домов, чтобы заглянуть внутрь, — увидел бы занимательное зрелище, если бы в ту минуту, когда Дебрэ производил свои подсчеты, он снял крышу скромного дома на улице Сен-Жермен-де-Пре.
Над той комнатой, где Дебрэ поделил с г-жой Данглар два с половиною миллиона, была другая комната, обитатели которой тоже нам знакомые, играют немаловажную роль в описываемых событиях и заслуживают нашего внимания.
В этой комнате находились Мерседес и Альбер.
Мерседес сильно изменилась за последние дни; не потому, чтобы во времена своего богатства она окружала себя кичливой пышностью и стала неузнаваема, как только приняла более скромный облик; и не потому, чтобы она дошла до такой бедности, когда приходится облекаться в наряд нищеты; нет, Мерседес изменилась потому, что взгляд ее померк, и губы больше не улыбались, потому что неотступная гнетущая мысль владела ее некогда столь живым умом и лишала ее речь былого блеска.
Не бедность притупила ум Мерседес; не потому, что она была малодушна, тяготила ее эта бедность. Покинув привычный круг, Мерседес затерялась в чужой среде, которую сама избрала, как человек, который, выйдя из ярко освещенного зала, вдруг попадает во мрак. Она казалась королевой, которая переселилась из дворца в хижину и не узнает самое себя, глядя на тюфяк, заменяющий ей пышное ложе, и на глиняный кувшин, который сама должна ставить на стол.
Прекрасная каталанка, или, если угодно, благородная графиня, утратила свой гордый взгляд и прелестную улыбку, потому что видела вокруг только унылые предметы: стены, оклеенные серыми обоями, которые обычно предпочитают расчетливые хозяева, как наименее маркие; голый каменный пол; аляповатую мебель, режущую глаз своей убогой претензией на роскошь, — словом, все то, что оскорбляет взор, привыкший к изяществу и гармонии.
Госпожа де Морсер жила здесь с тех пор, как покинула свой дом. У нее кружилась голова от этой вечной тишины, как у путника, подошедшего к краю пропасти. Она заметила, что Альбер то и дело украдкой смотрит на нее, стараясь прочесть ее мысли, и научилась улыбаться одними губами, и эта застывшая улыбка, не озаренная нежным сиянием глаз, походила на отраженный свет, лишенный живительного тепла.
Альбер тоже был подавлен и смущен; его тяготили остатки роскоши, которые мешали ему освоиться с его новым положением; он хотел бы выйти из дому без перчаток, но его руки были слишком белы; он хотел бы ходить пешком, но его башмаки слишком ярко блестели.
И все же эти два благородных и умных создания, неразрывно связанные узами материнской и сыновней любви, понимали друг друга без слов и могли обойтись без околичностей, неизбежных даже между близкими друзьями, когда речь идет о материальной основе нашей жизни.
Словом, Альбер мог сказать своей матери, не испугав ее: "Матушка, у нас нет больше денег".
Мерседес никогда не знала подлинной нищеты; в молодости она часто называла себя бедной; но нужда и нищета— это не одно и то же: это синонимы, между которыми целая пропасть.
В Каталанах Мерседес нуждалась в очень многом, но очень многое у нее было. Сети были целы — рыба ловилась, а ловилась рыба — были нитки, чтобы чинить сети.
Когда нет близких, а есть только любовь, которая никак не касается житейских мелочей, думаешь только о себе и отвечаешь только за себя.
Тем немногим, что у нее было, Мерседес делилась щедро со всеми, теперь у нее не было ничего, а приходилось думать о двоих.
Близилась зима. У графини де Морсер калорифер с сотнями труб согревал дом от передней до будуара — теперь Мерседес нечем было развести огонь в этой неуютной и уже холодной комнате; ее прежние покои утопали в редкостных цветах, ценившихся на вес золота, — а теперь у нее не было даже самого жалкого цветочка.
Но у нее был сын…
Пафос отречения, быть может, чрезмерный, до сих пор возвышал их над прозой жизни.
Пафос — это почти экзальтация, а экзальтация возносит душу над всем земным.
Но экзальтация первого порыва угасла, и мало-помалу пришлось спуститься из страны грез в мир действительности.
После многих бесед об идеальном настало время поговорить о житейском.
— Матушка, — говорил Альбер в ту самую минуту, когда г-жа Данглар спускалась по лестнице, — подсчитаем наши средства, я должен знать итог, чтобы составить план действий.
— Итог — нуль, — сказала Мерседес с горькой улыбкой.
— Нет, матушка. Итог — три тысячи франков, и на эти три тысячи я намерен прекрасно устроить нашу жизнь.
— Дитя! — вздохнула Мерседес.
— Дорогая матушка, — сказал Альбер, — к сожалению, я истратил достаточно ваших денег, чтобы знать им цену. Три тысячи франков — это огромная сумма, и я построил на ней волшебное здание вечного благополучия.
— Ты шутишь, мой друг. И разве мы принимаем эти три тысячи франков? — спросила Мерседес, краснея.
— Но ведь это уже решено, мне кажется, — сказал Альбер твердо, — мы их принимаем, тем более что у нас их нет, потому что, как вам известно, они зарыты в саду маленького дома, на Мельянских аллеях в Марселе. На двести франков мы с вами поедем в Марсель.
— На двести франков! — сказала Мерседес. — Что ты говоришь, Альбер!
— Да, я навел справки и на почтовой станции, и в пароходной конторе и произвел подсчет. Вы заказываете себе место до Шалона в почтовой карете; видите, матушка, вы будете путешествовать как королева.
Альбер взял перо и написал:
Карета………….. 35 фр.
Пароход от Шалона до Лиона….. 6"
Пароход от Лиона до Авиньона….. 16"
От Авиньона до Марселя……. 7"
Дорожные расходы………. 50"
Итого……… 114 фр.
— Положим, сто двадцать, — добавил Альбер, улыбаясь. — Какой я щедрый, правда, матушка?
500
— А ты, бедный мальчик?
— Я? Вы же видите, я оставил себе восемьдесят франков. Молодой человек не нуждается в стольких удобствах, к тому же я опытный путешественник.
— В собственной карете и с лакеем.
— Всеми способами, матушка.
— Хорошо, — сказала Мерседес, — но где взять двести франков?
— Вот они, а вот и еще двести. Я продал часы за сто франков и брелоки за триста. Подумайте только! Брелоки оказались втрое дороже часов. Старая история: излишества всегда стоят дороже всего! Теперь мы богаты: вместо ста четырнадцати франков, которые вам нужны на дорогу, у вас двести пятьдесят.
— Но здесь тоже нужно заплатить?
— Тридцать франков, но я их плачу из моих ста пятидесяти. Это решено. И так как мне в сущности нужно на дорогу только восемьдесят франков, то я просто утопаю в роскоши. Но это еще не все. Что вы на это скажете, матушка?
И Альбер вынул из записной книжечки с золотой застежкой — давняя прихоть, или, быть может, нежное воспоминание об одной из таинственных незнакомок под вуалью, что стучались у маленькой двери, — Альбер вынул из записной книжечки тысячефранковый билет.
— Что это? — спросила Мерседес.
— Тысяча франков, матушка. Банкнота совершенно квадратная.
— Но откуда они у тебя?
— Выслушайте меня, матушка, и не волнуйтесь.
И Альбер, подойдя к матери, поцеловал ее в обе щеки; потом отстранился и поглядел на нее.
— Вы даже не знаете, матушка, какая вы красавица! — произнес он с глубоким чувством сыновней любви. — Вы самая прекрасная, самая благородная женщина на свете!
— Дорогой мальчик! — сказала Мерседес, тщетно стараясь удержать слезу, повисшую у нее на ресницах.
— Честное слово, вам оставалось только стать несчастной, чтобы моя любовь превратилась в обожание.
— Я не несчастна, пока у меня есть сын, — сказала Мерседес, — и не буду несчастна, пока он со мной.
— Да, — сказал Альбер, — но в том-то и сложность. Вы помните, что мы решили?
— Разве мы решили что-нибудь? — спросила Мерседес.
— Да, мы решили, что вы поселитесь в Марселе, а я уеду в Африку, где вместо имени, от которого я отказался, я заслужу имя, которое я принял.
Мерседес вздохнула.
— Со вчерашнего дня я зачислен в спаги, — добавил Альбер, пристыженно опуская глаза, ибо он сам не знал, сколько доблести было в его унижении, — я решил, что мое тело принадлежит мне и я могу его продать; со вчерашнего дня я заменяю другого. Я, что называется, продался, и притом, — добавил он, пытаясь улыбнуться, — по-моему, дороже, чем я стою: за две тысячи франков.
— И эта тысяча?.. — сказала, вздрогнув, Мерседес.
— Это половина суммы; остальное я получу через год.
Мерседес подняла глаза к небу с выражением, которого никакие слова не могли бы передать, и две слезы медленно скатились по ее щекам.
— Цена его крови! — прошептала она.
— Да, если меня убьют, — сказал, смеясь, Альбер. — Но уверяю вас, матушка, что я намерен яростно защищать свою жизнь; никогда еще мне так не хотелось жить, как теперь.
— Боже мой! — вздохнула Мерседес.
— И потом, почему вы думаете, что я буду убит? Разве Ламорисьер, этот южный Ней, убит? Разве Шангарнье убит? Разве Бедо убит? Разве Моррель, которого мы знаем, убит? Подумайте, как вы обрадуетесь, матушка, когда я к вам явлюсь в расшитом мундире! Имейте в виду, я рассчитываю быть неотразимым в этой форме, я выбрал полк спаги из чистого щегольства.
Мерседес вздохнула, пытаясь все же улыбнуться: эта святая женщина терзалась тем, что ее сын принял на себя всю тяжесть жертвы.
— Итак, матушка, — продолжал Альбер, — у вас уже есть верных четыре с лишним тысячи франков; на эти четыре тысячи вы будете жить безбедно два года.
— Ты думаешь? — сказала Мерседес.
Эти слова вырвались у нее с такой неподдельной болью, что их истинный смысл не ускользнул от Альбера; сердце его сжалось, и он нежно взял руку матери в свои.
— Да, вы будете жить! — сказал он.
— Я буду жить, — воскликнула Мерседес, — но ты не уедешь, Альбер?
— Уеду, матушка, — сказал Альбер спокойным и твердым голосом, — вы слишком любите меня, чтобы заставить меня вести подле вас праздную и бесполезную жизнь. Притом я уже подписал контракт.
— Ты поступишь согласно своей воле, мой сын, а я — согласно воле Божией.
— Нет, не согласно моей воле, матушка, но согласно разуму и необходимости. Мы оба узнали, что такое отчаяние, не так ли? Что теперь для вас жизнь? Ничто. Что такое жизнь для меня? Поверьте, матушка, безделица, не будь вас, ибо, клянусь, не будь вас, эта жизнь оборвалась бы в тот день, когда я усомнился в своем отце и отрекся от его имени! И все же я буду жить, если вы обещаете мне надеяться, а если вы поручите мне заботу о вашем будущем счастье, то это удвоит мои силы. Тогда я пойду к алжирскому губернатору — это честный человек, настоящий солдат, — я расскажу ему свою печальную повесть, попрошу его время от времени посматривать в мою сторону, и если он сдержит слово, если он увидит, чего я стою, то либо я через полгода вернусь офицером, либо не вернусь вовсе. Если я вернусь офицером — ваше будущее обеспечено, матушка, потому что у меня хватит денег для нас обоих; к тому же мы оба будем гордиться моим новым именем, потому что это ваше настоящее имя. Если я не вернусь… тогда, матушка, вы расстанетесь с жизнью, если не захотите жить, и тогда наши несчастья кончатся сами собой.
— Хорошо, — отвечала Мерседес, в чьем красноречивом взгляде отразилось все благородство души, — ты прав, мой сын, докажем людям, которые смотрят на нас и подстерегают наши поступки, чтобы судить нас, докажем им, что мы достойны сожаления.
— Отгоните мрачные мысли, матушка! — воскликнул Альбер. — Поверьте, мы счастливы, во всяком случае, можем быть счастливы. Вы мудрая и кроткая; я стал неприхотлив и, надеюсь, благоразумен. Я на службе — значит, я богат; вы в доме господина Дантеса — значит, вы найдете покой. Попытаемся, матушка, прошу вас!
— Да, попытаемся, потому что ты должен жить, мой сын. Ты должен быть счастлив, — отвечала Мерседес.
— Итак, матушка, наш дележ окончен, — с напускной непринужденностью сказал Альбер. — Мы можем ехать. Я сегодня же закажу вам место.
— А себе?
— Мне еще нужно остаться на два-три дня; это начало разлуки, нам надо к ней привыкнуть. Мне необходимо получить рекомендации, навести справки относительно Алжира; я догоню вас в Марселе.
— Хорошо, едем! — сказала Мерседес, накинув на плечи единственную шаль, которую она взяла с собой и которая случайно оказалась очень дорогой, из черного кашемира. — Едем!
Альбер наскоро собрал свои бумаги, позвал хозяина, заплатил ему тридцать франков, подал матери руку и вышел с ней на лестницу.
Впереди них спускался какой-то человек; он услышал шуршание шелкового платья о перила и обернулся.
— Дебрэ! — прошептал Альбер.
— Морсер, вы? — сказал секретарь министра, останавливаясь.
Любопытство взяло у Дебрэ верх над желанием сохранить инкогнито; к тому же его и так узнали. В самом деле, забавно было встретить в этом никому не ведомом меблированном доме человека, чья несчастная участь наделала столько шума в Париже.
— Морсер! — повторил Дебрэ.
Но, заметив в полутьме лестницы еще стройную фигуру г-жи де Морсер, закутанную в черную шаль, он добавил с улыбкой:
— Ах, простите, Альбер! Не смею мешать вам.
Альбер понял мысль Дебрэ.
— Матушка, — сказал он, обращаясь к Мерседес, — это господин Дебрэ, секретарь министра внутренних дел, мой бывший друг.
— Почему бывший? — пролепетал Дебрэ. — Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, господин Дебрэ, — продолжал Альбер, — что у меня больше нет друзей, и я не должен их иметь. Я вам очень благодарен за то, что вы были так любезны и узнали меня, сударь.
Дебрэ поднялся на две ступени и крепко пожал руку Альбера.
— Поверьте, дорогой, — сказал он со всей теплотой, на какую был способен, — я глубоко сочувствую постигшему вас горю и я всегда в вашем распоряжении.
— Благодарю вас, сударь, — сказал, улыбаясь, Альбер, — но в нашем несчастье мы еще достаточно богаты, чтобы ни к кому не обращаться за помощью; мы покидаем Париж, и после всех дорожных расходов у нас еще останется пять тысяч франков.
Дебрэ покраснел, потому что у него в бумажнике лежал миллион; и, как ни был чужд поэзии его трезвый ум, он невольно подумал, что в одном и том же доме, еще недавно, находились две женщины, из которых одна, заслуженно опозоренная, уходила нищей, унося под своей накидкой полтора миллиона, тогда как другая, несправедливо униженная, но величественная в своем несчастье, обладая жалкими грошами, чувствовала себя богатой.
Это сравнение заставило его забыть о своих рыцарских побуждениях — наглядность примера сразила его; он пробормотал несколько общих фраз и быстро спустился по лестнице.
В этот день чиновники министерства, его подчиненные, немало натерпелись из-за его дурного настроения.
Но зато вечером он стал владельцем прекрасного дома на бульваре Мадлен, приносящего пятьдесят тысяч ливров дохода.
На другой день, в пять часов вечера, когда Дебрэ подписывал купчую, г-жа де Морсер, обменявшись нежным поцелуем с сыном, села в почтовый дилижанс.
На антресолях почтового двора Лаффит, за одним из полукруглых окон, стоял человек; он видел, как Мерседес садилась в карету, видел, как отъехал дилижанс, видел, как удалялся Альбер.
Тогда он провел рукой по отягченному сомнениями челу и сказал:
— Как мне возвратить этим двум невинным то счастье, которое я у них отнял? Бог мне поможет!
X
ЛЬВИНЫЙ РОВ
Одно из отделений тюрьмы Форс, то, где содержатся наиболее тяжкие и наиболее опасные преступники, называется двором святого Бернара.
Обитатели тюрьмы на своем образном языке прозвали его Львиным рвом, вероятно, потому, что у тамошних заключенных имеются зубы, которыми они подчас грызут решетку, а иногда и сторожей.
Это тюрьма в тюрьме. Стены здесь двойной толщины; каждый день тюремщик тщательно осматривает массивные решетки, а по геркулесову сложению, по холодному, проницательному взгляду сторожей видно, что здесь подбирали людей, способных управлять своими подданными, держа их в страхе и повиновении.
Двор окружен высокими стенами, по которым скользят косые лучи солнца, когда оно решается заглянуть в эту бездну нравственного и физического уродства. Здесь с утра бродят вечно озабоченные, угрюмые, бледные как тени люди, над которыми занесен меч правосудия.
По двое, по трое, а чаще в одиночестве стоят они или сидят на корточках у той стены, которую больше всего согревает солнце, и то и дело поглядывают на ворота, которые открываются только тогда, когда вызывают кого-либо из жителей этого мрачного обиталища или же когда швыряют в эту яму новый кусок окалины, извергнутый горнилом, именуемым обществом.
Двор святого Бернара имеет свою особую приемную. Это длинное помещение, разделенное пополам двумя решетками, которые расположены параллельно в трех футах одна от другой, чтобы посетитель не мог пожать заключенному руку или что-нибудь ему передать. Эта приемная темна, сыра и во всех отношениях отвратительна — особенно если подумать о тех страшных признаниях, которые просачивались сквозь эти решетки и покрыли ржавчиной их железные прутья.
А между тем это место, как оно ни ужасно, — это рай, где могут снова насладиться желанным обществом своих близких люди, чьи дни сочтены, ибо из Львиного рва выходят лишь для того, чтобы отправиться к заставе Сен-Жак, или на каторгу, или в одиночную камеру.
По описанному нами сырому, холодному двору прогуливался, засунув руки в карманы, молодой человек, на которого обитатели Рва поглядывали с большим любопытством.
Его можно было бы назвать элегантным, если бы его платье не было в лохмотьях; тонкое, шелковистое сукно, совершенно новое, легко принимало прежний блеск под рукой арестанта, когда он его разглаживал, чтобы придать ему свежий вид.
С таким же старанием застегивал он батистовую рубашку, значительно изменившую свой цвет за то время, что он сидел в тюрьме, и проводил по лакированным башмакам уголком носового платка, на котором были вышиты инициалы, увенчанные короной.
Несколько обитателей Львиного рва следили с видимым интересом за тем, как этот арестант приводил в порядок свой туалет.
— Смотри, князь прихорашивается, — сказал один из воров.
— Он и без того очень хорош, — отвечал другой, — будь у него гребень и помада, он затмил бы всех господ в белых перчатках.
— Его фрак был, как видно, новехонек, а башмаки так и блестят. Даже лестно, что к нам такая птица залетела, а наши жандармы — сущие разбойники. Изорвать такой наряд!
— Говорят, он прожженный, — сказал третий. — Пустяками не занимался… Такой молодой и уже из Тулона! Не шутка!
А предмет этого чудовищного восхищения, казалось, упивался отзвуками этих похвал, хотя самих слов он разобрать не мог.
Закончив свой туалет, он подошел к окошку тюремной лавочки, возле которого стоял, прислонясь к стене, сторож.
— Послушайте, сударь, — сказал он, — ссудите меня двадцатью франками, я вам их скоро верну; вы ничем не рискуете — ведь у моих родных больше миллионов, чем у вас грошей… Ну, пожалуйста. С двадцатью франками я смогу перейти на платную половину и купить себе халат. Мне страшно неудобно быть все время во фраке. И что это за фрак для князя Кавальканти!
Сторож пожал плечами и повернулся к нему спиной. Он даже не засмеялся на эти слова, которые бы многих развеселили; этот человек и не того наслушался, — вернее, он слышал всегда одно и то же.
— Вы бездушный человек, — сказал Андреа, — погодите, вы у меня дождетесь, что вас выгонят.
Сторож обернулся и на этот раз громко расхохотался.
Арестанты подошли и обступили их.
— Говорю вам, — продолжал Андреа, — на эту ничтожную сумму я смогу одеться и перейти в отдельную комнату; мне надо принять достойным образом важного посетителя, которого я жду со дня на день.
— Верно! верно! — заговорили заключенные. — Черт возьми! Сразу видно, что он из благородных.
— Вот и дайте ему двадцать франков, — сказал сторож, прислонясь к стене другим своим широчайшим плечом. — Разве вы не обязаны сделать это для товарища?
— Я не товарищ этим людям, — гордо сказал Андреа, — вы не имеете права оскорблять меня.
Арестанты переглянулись и глухо заворчали; буря, вызванная не столько словами Андреа, сколько замечанием сторожа, начала собираться над головой аристократа.
Сторож, уверенный, что сумеет усмирить ее, когда она чересчур разыграется, давал ей пока волю, желая проучить назойливого просителя и скрасить каким-нибудь развлечением свое долгое дежурство.
Арестанты уже подступали к Андреа; иные говорили:
— Дать ему башмака!
Эта жестокая шутка заключается в том, что товарища, впавшего в немилость, избивают не башмаком, а подкованным сапогом.
Другие предлагали "вьюн". Это еще одна забава, состоящая в том, что платок наполняют песком, камешками, медяками, когда таковые имеются, скручивают его и колотят им жертву, как цепом, по плечам и по голове.
— Выпорем этого франта! — раздавались голоса. — Покажем господину порядочному человеку. Выпорем его благородие!
Но Андреа повернулся к ним, подмигнул, надул щеку и прищелкнул языком — знак, по которому узнают друг друга разбойники, вынужденные молчать.
Это был масонский знак, которому его научил Кадрусс.
Арестанты признали своего.
Тотчас же платки опустились; подкованный сапог вернулся на ногу к главному палачу. Раздались голоса, заявившие, что этот господин прав, что он может держать себя как ему заблагорассудится и что заключенные хотят показать пример свободы совести.
Волнение улеглось. Сторож был этим так удивлен, что тотчас же схватил Андреа за руки и начал его обыскивать, приписывая эту внезапную перемену в настроении обитателей Львиного рва чему-то, наверное, более существенному, чем личное обаяние.
Андреа ворчал, но не сопротивлялся.
Вдруг за решетчатой дверью раздался голос надзирателя:
— Бенедетто!
Сторож выпустил свою добычу.
— Меня зовут! — сказал Андреа.
— В приемную! — крикнул надзиратель.
— Вот видите, ко мне пришли. Вы еще узнаете, милейший, можно ли обращаться с Кавальканти как с простым смертным!
И Андреа, промелькнув по двору, как черная тень, бросился в полуоткрытую дверь, оставив своих товарищей и даже сторожа в восхищении.
Его в самом деле звали в приемную, и этому нельзя не удивляться, как удивлялся и сам Андреа, потому что из осторожности, попав в тюрьму Форс, он вместо того чтобы писать письма и просить помощи, как делают все, хранил стоическое молчание.
"У меня, несомненно, есть могущественный покровитель, — рассуждал он. — Все говорит за это: внезапное счастье, легкость, с которой я преодолел все препятствия, неожиданно найденный отец, громкое имя, золотой дождь, блестящая партия, которая меня ожидала. Случайная неудача, отлучка моего покровителя погубили меня, но не бесповоротно. Благодетельная рука отстранилась на минуту, она снова протянется и подхватит меня на краю пропасти. Зачем мне предпринимать неосторожные попытки? Мой покровитель может от меня отвернуться.
У него есть два способа прийти мне на помощь: тайный побег, купленный ценою золота, и воздействие на судей, чтобы добиться моего оправдания. Подождем говорить, подождем действовать, пока не будет доказано, что я всеми покинут, а тогда…"
У Андреа уже готов был хитроумный план: негодяй умел бесстрашно нападать и стойко защищаться.
Невзгоды тюрьмы, лишения всякого рода были ему знакомы. Однако мало-помалу природа, или, вернее, привычка, взяла верх. Андреа страдал оттого, что он голый, грязный, голодный; его терпение истощалось.
Таково было его настроение, когда голос надзирателя позвал его в приемную.
У Андреа радостно забилось сердце. Для прихода следователя час был слишком ранний, а для начальника тюрьмы или доктора — слишком поздний, значит, это был долгожданный посетитель.
За решеткой приемной, куда ввели Андреа, он увидел своими расширенными от жадного любопытства глазами умное, суровое лицо Бертуччо, который с печальным удивлением смотрел на решетки, на дверные замки и на тень, движущуюся за железными прутьями.
— Кто это? — с испугом воскликнул Андреа.
— Здравствуй, Бенедетто, — сказал Бертуччо своим звучным грудным голосом.
— Вы, вы! — отвечал молодой человек, в ужасе озираясь.
— Ты меня не узнаешь, несчастный? — спросил Бертуччо.
— Молчите! Да молчите же! — сказал Андреа, который знал, какой тонкий слух у этих стен. — Ради Бога, не говорите так громко!
— Ты бы хотел поговорить со мной с глазу на глаз? — спросил Бертуччо.
— Да, да, — сказал Андреа.
— Хорошо.
И Бертуччо, порывшись в кармане, сделал знак сторожу, который стоял за стеклянной дверью.
— Прочтите! — сказал он.
— Что это? — спросил Андреа.
— Приказ отвести тебе отдельную комнату и разрешение мне видеться с тобой.
Андреа вскрикнул от радости, но тут же сдержался и сказал себе:
"Опять загадочный покровитель! Меня не забывают! Тут хранят какую-то тайну, раз хотят говорить со мной в отдельной комнате. Они у меня в руках… Бертуччо послан моим покровителем!"
Сторож поговорил со старшим, потом открыл решетчатые двери и провел Андреа, который от радости был сам не свой, в комнату второго этажа, выходившую окнами во двор.
Комната, выбеленная, как это принято в тюрьмах, выглядела довольно веселой и показалась узнику ослепительной; печь, кровать, стул и стол составляли пышное ее убранство.
Бертуччо сел на стул, Андреа бросился на кровать.
Сторож удалился.
— Что ты мне хотел сказать? — спросил управляющий графа Монте-Кристо.
— А вы? — спросил Андреа.
— Говори сначала ты.
— Нет уж, начинайте вы, раз вы пришли ко мне.
— Пусть так. Ты продолжал идти по пути преступления: ты украл, ты убил.
— Если вы меня привели в отдельную комнату только для того, чтобы сообщить мне это, то не стоило трудиться. Все это я знаю. Но есть кое-что, чего я не знаю. Об этом и поговорим, если позволите. Кто вас прислал?
— Однако вы торопитесь, господин Бенедетто!
— Да, я иду прямо к цели. Главное — без лишних слов. Кто вас прислал?
— Никто.
— Как вы узнали, что я в тюрьме?
— Я давно тебя узнал в блестящем наглеце, который так ловко правил тильбюри на Елисейских полях.
— На Елисейских полях!.. Ага, "горячо", как говорят в детской игре!.. На Елисейских полях!.. Так-так, поговорим о моем отце, хотите?
— А я кто же?
— Вы, почтеннейший, вы мой приемный отец… Но не вы же, я полагаю, предоставили в мое распоряжение сто тысяч франков, которые я промотал в пять месяцев, не вы смастерили мне знатного итальянского родителя; не вы ввели меня в свет и пригласили на некое пиршество, от которого у меня и сейчас слюнки текут. Помните, в Отее, где было лучшее общество Парижа и даже королевский прокурор, с которым я, к сожалению, не поддерживал знакомства, а мне оно было бы теперь весьма полезно; не вы ручались за меня на два миллиона, перед тем как я имел несчастье быть выведенным на чистую воду… Говорите, уважаемый корсиканец, говорите…
— Что ты хочешь, чтобы я сказал?
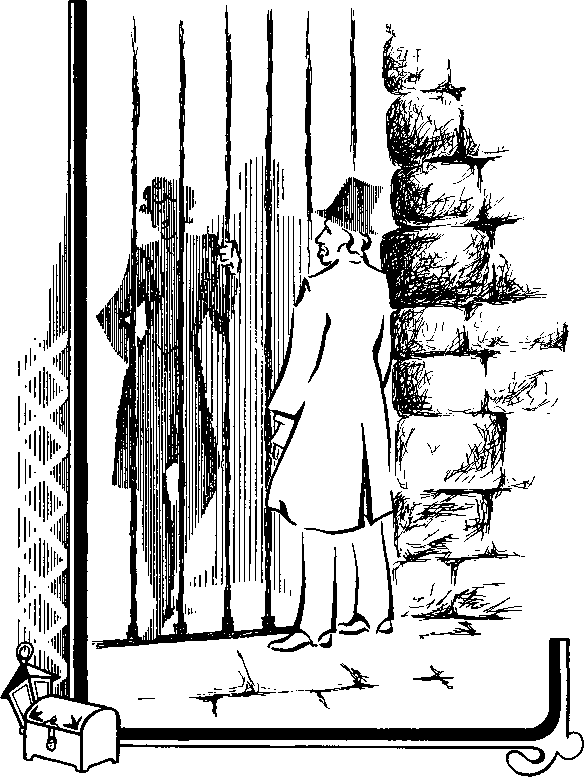
— Я тебе помогу. Ты только что говорил об Елисейских полях, мой почтенный отец-кормилец.
— Ну и что же?
— А то, что на Елисейских полях живет один господин, очень и очень богатый.
— В доме которого ты украл и убил?
— Кажется, да.
— Граф де Монте-Кристо?
— Ты сам его назвал, как говорит Расин… Так что же, должен ли я броситься в его объятия, прижать его к сердцу и воскликнуть, как Пиксерекур: "Отец! Отец!"
— Не шути, — строго ответил Бертуччо, — пусть это имя не произносится здесь так, как ты дерзнул его произнести.
— Вот оно что! — сказал Андреа, несколько озадаченный торжественным тоном Бертуччо. — А почему бы и нет?
— Потому что тот, кто носит это имя, благословен Небом и не может быть отцом такого негодяя, как ты.
— Какие грозные слова…
— И грозные последствия, если ты не поостережешься.
— Запугиваете? Я не боюсь… Я скажу.
— Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с мелюзгой вроде тебя? — сказал Бертуччо так спокойно и уверенно, что Андреа внутренне вздрогнул. — Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с каторжниками или с доверчивыми светскими простаками?.. Бенедетто, ты в могущественной руке; рука эта согласна отпустить тебя, воспользуйся этим. Не играй с молниями, которые она на миг отложила, но может снова схватить, если ты сделаешь попытку помешать ее намерениям.
— Кто мой отец?.. Я хочу знать, кто мой отец?.. — упрямо повторил Андреа. — Я погибну, но узнаю. Что для меня скандал? Только выгода… известность… реклама, как говорит журналист Бошан. А вам, людям большого света, вам скандал всегда опасен, несмотря на ваши миллионы и гербы… Итак, кто мой отец?
— Я пришел, чтобы назвать тебе его.
— Наконец-то! — воскликнул Бенедетто, и глаза его засверкали от радости.
Но тут дверь отворилась и вошел тюремщик.
— Простите, сударь, — сказал он, обращаясь к Бертуччо, — но заключенного ждет следователь.
— Сегодня последний допрос, — сказал Андреа управляющему. — Вот досада.
— Я приду завтра, — отвечал Бертуччо.
— Хорошо, — сказал Андреа. — Господа жандармы, я в вашем распоряжении… Пожалуйста, сударь, оставьте десяток экю в конторе, чтобы мне выдали все, в чем я тут нуждаюсь.
— Будет сделано, — отвечал Бертуччо.
Андреа протянул ему руку, но Бертуччо не вынул руки из кармана и только позвенел в нем монетами.
— Я это и имел в виду, — с кривой улыбкой заметил Андреа, совершенно подавленный странным спокойствием Бертуччо.
"Неужели я ошибся? — подумал он, садясь в большую карету с решетками, которую называют "корзинкой для салата". — У видим!"
— Итак, до завтра! — сказал он, обращаясь к Бертуччо.
— До завтра! — ответил управляющий.
Назад: Часть шестая
Дальше: XI СУДЬЯ

