Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 41. Полина. Паскуале Бруно. Капитан Поль. Приключения Джона Дэвиса
Назад: XIII
Дальше: XV
XIV
Эти два дня мы шли между Азией, лежащей справа, и Европой, виднеющейся по левому борту. Перед нами развертывалась такая роскошная панорама, что мы, достигнув мыса Сераль, спрашивали себя, каков же должен быть сам великолепный Константинополь, дружно прославляемый путешественниками и оспаривающий у Неаполитанского залива право называться живописнейшим местом в мире. Мы сошли с корабля в шлюпку, чтобы проводить капитана в английское посольство, расположенное в предместье Галата, обогнули мыс, пересекли бухту Золотой Рог, и наконец нашим взорам открылся царственный город. На холме амфитеатром раскинулись дома, золоченые дворцы, кладбища, где гробницы покоились в тени кипарисов, — короче, во всей своей красе нам явилась эта столица — прекрасная куртизанка Востока, заставившая Константина изменить Риму, удерживая его, как нереида, лазурным шарфом своих вод.
В ту пору по улицам Галаты было опасно ходить без провожатых, поэтому наш посол мистер Эдер, зная о нашем прибытии, выслал навстречу нам янычара, присутствие которого означало, что мы находимся под покровительством султана. В этой стране, где все, вплоть до детей, вооружены до зубов, стычки между жителями стали весьма обычным явлением; правосудие, как правило, вмешивалось слишком поздно и было способно лишь отомстить за гибель жертвы, поэтому в момент вражды турок с русскими и греками было важно показать, что мы принадлежим к дружественной нации.
Матросы под командованием Джеймса остались в шлюпке, а мистер Стэнбоу, лорд Байрон и я направились к посольству. Примерно на полдороге нам попалась улица, настолько запруженная народом, что мы не знали, как пройти, и нашему янычару, державшему в руке палку, пришлось изо всех сил непрерывно бить ею по этой человеческой стене, чтобы открыть нам проход. Люди столпились поглазеть, как ведут грека, осужденного на казнь. Мы приблизились. По широкой улице между двумя палачами размеренной твердой походкой шел красивый старик с белой бородой, кротко и бесстрашно смотревший на всю эту чернь, которая преследовала его криками и проклятиями. Эта сцена произвела на нас, и особенно на лорда Байрона, сильное впечатление; он тотчас спросил переводчика, нельзя ли, прибегнув к ходатайству посла или уплатив крупную сумму, спасти несчастному жизнь. Но переводчик с испуганным видом приложил палец к губам, умоляя благородного поэта молчать; однако как ни выразителен был этот знак, он не помешал лорду Байрону крикнуть старику по-новогречески, когда тот проходил мимо него: «Мужайся, мученик!» Услышав этот сочувственный возглас, грек обернулся и, не имея возможности шевелить руками, поднял глаза к небу, показывая, что он приготовился к смерти. В тот же миг из-за решетчатых ставень, закрывавших окно дома, что стоял напротив, раздался другой крик и сквозь щель просунулись чьи-то пальцы. Старик, казалось, узнал голос; он вздрогнул и остановился, но один из палачей ткнул его сзади кончиком ятагана. При виде заструившейся крови лорд Байрон сделал резкое движение, да и я сам потянулся к кортику. Мгновенно поняв наше намерение, мистер Стэнбоу схватил нас обоих за руки.
— Ни слова, или вас прикончат, — сказал он нам по-английски и кивнул в сторону янычара, начинавшего бросать на нас косые взгляды. Так, удерживая меня и лорда Байрона за руки, капитан дождался, пока прошло скорбное шествие.
Вскоре улица опустела и мы продолжили наш путь к посольству, куда прибыли через десять минут, все еще бледные и взволнованные. Повода, заставившего нас явиться в Константинополь, больше не было. Требования, которые мы должны были поддержать своим присутствием, были удовлетворены как раз накануне нашего прибытия, и наш посол как представитель английского правительства получил все необходимые извинения. Таким образом, политическая беседа мистера Стэнбоу и посла Эдера была краткой; через минуту пригласили нас, и капитан представил лорда Байрона. Тот после обычных приветствий поспешил спросить, какое преступление совершил старик, которого, как мы видели, вели на казнь. Мистер Эдер печально улыбнулся. Старик повинен в трех тягчайших преступлениях, и каждое из них, по мнению турок, заслуживало смерти: он был богат; он мечтал видеть свою родину свободной и, наконец, его звали Атанас Дука, то есть он был одним из последних потомков династии, царствовавшей в тринадцатом веке. Вняв советам друзей, старик покинул Константинополь, но через несколько месяцев, не в силах противиться желанию вновь увидеть семью, дерзнул возвратиться. Тем же вечером его арестовали в Галате; его дочь, по общему мнению перл красоты, схватили и продали за двадцать тысяч пиастров богатому турку, а жену вышвырнули из дворца, конфискованного в пользу султана, и ей не позволили разделить ни заточение с дочерью, ни смерть с мужем. Тщетно молила она некоторые греческие семьи о приюте: двери их домов захлопывались перед нею. Тогда мистер Эдер послал сообщить несчастной, что английское посольство предоставляет ей убежище и защиту. Бедная женщина с благодарностью приняла это великодушное предложение. Но вчера вечером она исчезла, и никто не знал ее теперешнего местонахождения.
Мистер Эдер пригласил лорда Байрона поселиться в посольстве на все время его пребывания в Галате, но тот, опасаясь стеснить свою свободу, отказался и попросил найти ему какой-нибудь турецкий домик, чтобы жить там следуя обычаям страны. Впрочем, он согласился принять дипломатическую должность, чтобы, если посол получит аудиенцию у султана, в качестве атташе посольства увидеть того вблизи: наше прибытие в Константинополь делало это более чем вероятным.
После часа интересной и сердечной беседы мы покинули мистера Эдера и, сопровождаемые тем же янычаром, опять отправились в путь по улицам Галаты. Однако вскоре нам стало ясно, что наш страж избрал новую дорогу. Пожелав узнать причину этого, мы обратились было к переводчику, но тот молча указал нам пальцем на нечто бесформенное посреди площади. Еще не понимая, что это такое, мы невольно вздрогнули, но вот, чем ближе мы подходили, тем предмет все больше принимал очертания человеческой фигуры, и вскоре уже можно было различить стоявшее на коленях обезглавленное тело, между ног которого лежала голова — голова старца, виденного нами час назад. Рядом, опустив голову на руки, подобная статуе Скорби, сидела женщина. Время от времени она оживала, протягивала руку к лежащей рядом палке и отгоняла собак, прибегавших лизать кровь. Это была вдова мученика, скрывшаяся вчера из посольства. Удивившее нас изменение маршрута было намеренным: наш янычар, видимо, возжелал продемонстрировать великодушие своего милостивого повелителя, показав нам эту ужасную сцену.
Мы прибыли в Константинополь в подходящее время и вступили на подмостки, словно герои «Тысячи и одной ночи». Отрубленная голова, дочь-рабыня, скорбная вдова, казалось, явились мне во сне, а необычайные одеяния окружавших нас людей лишь поддерживали эту иллюзию. В Константинополе не встретишь нищих в лохмотьях: все одежды походят на наряды принцев. Платье турецкого крестьянина так же элегантно, как мундир французского гусарского офицера; жена самого мелкого торговца носит горностаевую шубу и надевает дома больше драгоценностей, чем супруга члена палаты общин, отправляющаяся на вечерний прием к лорду. В каждой семье имеется передаваемый по наследству от отца к сыну, как в Германии бриллианты, костюм, называемый «кайрам» и надеваемый лишь по торжественным дням. После праздника его убирают, и он вновь появляется на свет лишь на ближайшем торжестве. Он являет собой точную копию того, что носили еще при Мехмеде II или Орхане, ибо мода в Константинополе не меняется. Впрочем, если основному покрою следуют строго, то детали бесконечно варьируются. Опытный глаз тотчас отличит в толпе турецкого денди, для которого туалет столь же серьезное дело, как для франта с Сент-Джеймса в Лондоне или завсегдатая Гентского бульвара в Париже. Османский щёголь не меньше заботится о форме своей бороды, складках тюрбана, изгибе носков желтых бабушей, полутонах своего г и бета, арабесках на пистолетах и украшениях на канджарах, чем наши самые блестящие обольстители. Тюрбан — часть костюма, наиболее подверженная капризам моды: турок занимается им так же, как парижанин своим галстуком. Есть тюрбаны кандиотские, египетские, стамбульские; сирийца узнают по полосатому тюрбану, эмира Алеппо — по зеленому, мамлюка — по белому. Вообще Константинополь, подобно всем крупным городам, являет собой настоящую человеческую мозаику, где жители Запада с их неприхотливой и строгой одеждой казались отнюдь не самыми драгоценными камнями.
Не знаю, какое впечатление произвело все это на моих спутников, но я вернулся на корабль в лихорадочном состоянии. Сам лорд Байрон, при всем старании казаться невозмутимым, был сильно взволнован. Думаю, что если бы он отбросил взятую на себя роль великого человека, то, подобно мне, не сдерживал бы своих эмоций. Правда, благородный путешественник уже почти год как покинул Англию и провел последние шесть месяцев в Греции, что подготовило его к разворачивавшемуся перед нашим взором зрелищу. Мое же восприятие было совсем иным: я уехал из дому каких-нибудь два месяца назад, и судьба единым мановением руки перебросила меня из обыденной жизни в этот диковинный мир, где я то и дело ожидал всевозможных необычайных событий.
Однако день прошел относительно спокойно, если не считать визита на корабль нескольких праздных гуляк-ту-рок, составляющих в Константинополе ту почтенную прослойку общества, что в Париже многозначительно называют «мухоловками»; они бродили без дела по палубе, попыхивая длинными трубками. Не зная по выходе из Лондона, в каком настроении окажется Высокая Порта, мы запаслись значительным количеством пороха, так что пришлось вступить в длительные переговоры с гостями, убеждая их не курить на борту. Поняв, в чем дело, они страшно удивились этим мерам предосторожности, ведь если Магомет насылает напасть, то все предосторожности на свете будут против нее бессильны. Сочтя нашу просьбу плодом дурного воспитания, они недовольно уселись, поджав ноги, возле пушек, чем также нарушили корабельные правила, и канонир был вынужден попросить их удалиться. Такой недостаток гостеприимства окончательно обидел наших посетителей, и, не пожелав долее оставаться на судне, они важно сошли в шлюпку. Последний из них, ставя ногу на трап, презрительно обернулся и сплюнул на палубу, и этот поступок чуть было дорого не обошелся ему: стоявший рядом Боб схватил турка за руку и собрался заставить его вытереть плевок бородой, но, к счастью, я вовремя вмешался, с громадным трудом убедив доброго матроса разжать тиски, схватившие левую руку несчастного турка; правда, мне тут же пришлось вцепиться достойному сыну Магомета в правую руку, привычно потянувшуюся к кинжалу. Заметив это, Боб повел глазами вокруг, увидел железный ганшпуг и поднял его, что дало мне время посадить турка в шлюпку; гребцы резко оттолкнулись от борта, она отошла, и между противниками пролегла полоса воды.
На палубе остался лишь только еврей по имени Якоб, прибывший заняться своей коммерцией. Я никогда не встречал человека, более искушенного в торговом деле: карманы его были набиты образцами всевозможных товаров, а в коробе можно было найти что угодно. Он продавал все, начиная с кашемировых шалей и кончая трубками, и уже по его второй фразе я понял, что его деятельность не ограничивается лишь торговлей. Он владел лавкой в Галате и дал мне ее адрес, уверяя, что там я найду лучший во всем Константинополе табак, даже тот, что привозят для султана прямо из Латакии или с горы Синай. На всякий случай я записал, где находится его заведение, и пообещал вскоре нанести ему визит. Якоб достаточно свободно говорил по-английски, чтобы можно было легко понять его, и человек подобного рода был истинной находкой для искателя приключений, вроде лорда Байрона, или мечтателя, вроде меня. Для начала мы спросили, сумеет ли он отыскать нам на следующий день опытного проводника: лорд Байрон вознамерился осмотреть крепостные стены Константинополя и получил для меня у капитана разрешение, данное с обычной для мистера Стэнбоу добротой, сопровождать его. Наш еврей предложил в качестве гида себя: он прожил в Константинополе двадцать лет и знает город лучше, чем три четверти родившихся там турок. Поскольку он не страдал социальными и религиозными предрассудками, то взялся рассказать нам все, что было ему известно о людях, которых мы встретим по пути, и о местах, которые мы посетим. Мы согласились, решив, что если после первой поездки останемся недовольны, то возьмем потом другого провожатого.
И вот ясным утром мы сели в лодку (ибо часть крепостных стен отвесно погружалась в воды Босфора), доставившую нас к Семибашенному замку, и сошли на берег. Там нас уже ожидал наш гид с двумя нанятыми лошадьми; владельцы разрешили ему даже продать их, если они придутся нам по душе. Действительно, арабские кони настолько великолепны, что наши верховые животные, занимающие в лошадиной иерархии Константинополя такое же место, как во Франции или Англии упряжные для фиакров, показались нам резвыми и послушными. Они шли только шагом или галопом, ибо иноходь, как и рысь, совершенно не признаются на Востоке. Желая осмотреть все подробно, мы решили ехать шагом.
Вид на Константинополь с берега еще прекраснее, если это только возможно, чем с Босфора Фракийского или Золотого Рога. Вообразите: на протяжении четырех миль от Семибашенного замка до дворца Константина тянутся колоссальные тройные зубчатые стены, увитые плющом; над ними возвышаются двести восемнадцать башен. По другую сторону дороги раскинулись турецкие кладбища, усаженные огромными кипарисами и населенные горлицами, малиновками и соловьями. Все это отражается в лазурном море и тонет в небесах, которые боги античности, лучше всех умевшие ценить прекрасное, избрали для своего Олимпа.
У дворца Константина, являющего собой руины, похожие скорее на развалины бывших казарм, мы вместе с лошадями пересекли Золотой Рог и оказались в Азии. Еврей провел нас на холм — он назывался Бургулу и высился приблизительно в миле от стен; оттуда можно было видеть одновременно Мраморное море, гору Олимп, равнины Азии, Константинополь и Босфор, вьющийся среди садов; сквозь пышную листву тут и там проглядывали беседки и дворцы, окрашенные в самые разнообразные цвета.
Именно здесь Мехмед II, очарованный развернувшимися перед его взором чудесами, вонзил в землю древко своего штандарта, поклявшись Пророком, что возьмет Константинополь или расстанется с жизнью под его стенами, и, как истинный правоверный, после пятидесятипятидневной осады сдержал слово.
Неподалеку отсюда находятся ворота Топхане, через которые Константин Дракош в последний раз вышел живым: смертельно раненного, его перенесли под дерево, где он испустил дух. Одному дельцу-армянину пришла в голову счастливая мысль извлечь выгоду из исторических воспоминаний и открыть кофейню на том самом месте, где последний Палеолог потерял жизнь и империю. Изнуренные жарой и усталостью, мы сошли на землю под растущим возле дверей платаном, и тут уж нам пришлось, поступившись национальным самолюбием, признать, что лишь турки знают толк в прелестях жизни. Вместо того чтобы поместить нас в переполненную общую залу или оставить томиться в отдельном душном кабинете, как сделали бы во Франции или Англии, хозяин провел нас через прелестный сад к фонтану, где мы с наслаждением растянулись на траве, при виде которой покраснели бы от стыда газоны наших парков. Он принес нам трубки, шербет и кофе и предоставил свободно насладиться этим чисто восточным завтраком. Лорд Байрон уже пресытился подобными удовольствиями за время жизни в Греции, но я пребывал в совершенном упоении, ибо предавался им впервые.
Выкурив через наргиле, благоухающие розовой водой, по несколько трубок лучшего табака нашего еврея, мы вновь вскочили в седла и продолжали путь; через четверть часа он привел нас к маленькой греческой церкви, почитаемой во всей стране. Когда мы вошли туда, служитель, на чьей обязанности лежало давать объяснения посетителям, вместо того чтобы показать нам внутреннее убранство храма, повел нас к пруду, окруженному позолоченной балюстрадой. Там он кинул в воду кусок хлеба, и несколько рыб — я признал в них линей — тотчас вынырнули, чтобы схватить пищу, которую их покровитель услужливо бросал им, произнося при этом показавшиеся мне весьма необычными слова. Мне всегда думалось, что в подобных случаях признательность должна исходить от рыб, но на этот раз я ошибся — это были священные рыбы, и монахи с благодарностью делились с ними хлебом, который сами получали в виде милостыни. Событие, которое привело к их почитанию, относится ко взятию Константинополя турками, и я передаю его читателю во всей первозданной непритязательности.
Когда город пал, Мехмед, пожелавший сделать его столицей своей империи, во исполнение обычая отдавать захваченное во власть солдатни, но одновременно стремясь выказать почтение будущей столице, избрал золотую середину, а именно: позволил разграбить город, но запретил предавать его огню. Солдаты сочли первую часть приказа своей священной обязанностью и, поскольку им отвели всего три дня, ревностно предались ее исполнению, рыская даже по самым бедным и укромным святыням. Стена, на которую спиралась церковь монастыря, считалась неприступной. Полагаясь на это, настоятель, вверив себя святому Димитрию, под чьим покровительством обитала его братия, безмятежно отдался приготовлению рыб для ужина, когда с криком, что турки пробили брешь и проникли в священные стены обители, вбежал один из монахов. Эти слова, несмотря на испуганный вид вестника, показались доброму пастырю столь невероятными, что, пожав плечами и указав братьям на рыб, которые вот-вот должны были достичь той степени готовности, какая особо ценится знатоками и какой тщетно пытаются достичь посредственные повара, он возразил: «Я скорее поверю, что сии рыбы соскочат со сковороды и поплывут по полу, чем твоей немыслимой вести». Едва он вымолвил это, как рыбы уже трепетали на плитах пола. Устрашенный свершившимся чудом, преподобный отец собрал их в полы своей рясы и со всех ног бросился в сад, чтобы вернуть священную ношу обратно в пруд, откуда она была выловлена. У дверей он столкнулся с входившим в трапезную турком; тот, заподозрив настоятеля в желании бежать, нанес ему кинжалом удар в грудь. Смертельно раненный, достойный монах пробежал еще несколько шагов и упал на берегу возле воды. Рыбы выскочили из его рясы так же, как они выскочили из сковороды, и вновь погрузились в родную стихию; преподобный архимандрит же умер как мученик.
Потомство этих почтенных рыб привлекало к пруду местных паломников и любопытствующих иностранцев, и те, выходя отсюда, неизменно оставляли соответствующую их положению и степени веры мзду. Спешу сообщить, что, какими бы мы ни были еретиками в его глазах, добрый калойер, познакомивший нас со своим чудом, не имел оснований остаться нами недовольным.
Из монастыря, расположенного на полдороге от холма Перы, мы спустились к кладбищу; его темная зелень еще издалека манила к себе. Подобно древним римлянам, турки превыше жизни ценят наслаждения. В этом знойном климате более всего радуют тень и свежесть, столь редкие на Востоке. Жаждущие их всю жизнь, мусульмане хотели быть, по крайней мере, уверены, что обретут желаемое после смерти. Поэтому турецкие кладбища служат не только пленительным убежищем для отдохновения усопших, но и привлекательным местом прогулок для живых. Могилы там украшены розовыми или голубыми колоннами, увенчанными чалмой и инкрустированными золотой вязью букв; они напоминают скорее навеянное веселой прихотью украшение, чем надгробный памятник. В этих местах, поистине созданных для любовных свиданий, ловеласы Константинополя, небрежно развалившись на подушках, ожидают писем от своих красавиц, которые им приносят греческие рабыни или посланницы-еврейки. Правда, с наступлением темноты мирные прогулки завершаются и кладбище поступает в распоряжение грабителей или же становится ареной мести, и нередко по утрам там находят чей-нибудь труп, будто он, соблазненный местными красотами, прибыл испросить себе здесь могилу.
День клонился к вечеру. Мы уже осмотрели городские стены, то есть проделали около восемнадцати миль и поэтому предложили нашему провожатому побыстрее показать нам самое любопытное в городе, для чего пришлось зайти в английское посольство за янычаром, чтобы избежать оскорблений и даже прямых нападений на улицах святого города, хотя по его окрестностям местные власти, пусть и неохотно, разрешали прогуливаться гяурам. В резиденции мистера Эдера мы немного задержались, чтобы, согласно турецкому обычаю, отведать шербета и кофе и выкурить трубки, а затем снова отправились к бухте Золотой Рог, пересекая Галату по направлению к Валиде. Нас вели той же дорогой, что и при первом посещении посольства. Я узнал улицу, где нам встретился несчастный старик, шествовавший на смерть, и быстрым инстинктивным движением поднял глаза на окно, откуда прозвучал тогда женский крик. Мне показалось, что сквозь плотно закрытые решетчатые ставни блеснули горящие глаза. Я немного отстал; тонкие и длинные пальцы просунулись в щель и уронили какой-то предмет. Проехав пять-шесть шагов вперед и сделав вид, будто что-то потерял, я сошел с лошади, доверив ее стоявшему рядом носильщику, огляделся и обнаружил очень дорогой перстень с изумрудом — это и был предмет, который уронила прекрасная незнакомка. Не сомневаясь, что это было проделано нарочно, я поднял его и надел на палец в надежде, что этот талисман означает начало какого-нибудь любовного приключения. Для новичка в подобных делах я оказался довольно-таки ловок, и никто ничего не заметил, кроме разве нашего еврея. Он два или три раза бросал взгляды на мою руку, но тщетно: кольцо было спрятано под перчаткой.
Признаюсь, с этого мгновения мой разум, всецело поглощенный безумными мечтами, предоставил моему телу машинально посещать еще оставшиеся нам для обозрения достопримечательности: превращенный в мечеть собор святой Софии, осмотреть который можно было лишь снаружи (внутрь допускались только правоверные), Ипподром и обелиск, цистерну и благоговейно охраняемых его высочеством под специальным навесом трех-четырех тощих и запаршивевших львов, нескольких медведей и слона. Даже ворота сераля с их украшениями: китовыми позвонками, отрубленными головами и рядами ушей — с трудом оторвали меня от моих мыслей, и я возвратился на корабль, мечтая о всех приключениях «Тысячи и одной ночи». Моей первой заботой было спуститься в каюту, закрыть дверь и, не торопясь, осмотреть кольцо: быть может, какая-нибудь надпись внутри положит конец моему недоумению. Но сколько я ни разглядывал его, передо мною был просто золотой перстень со вставленным в него изумрудом, на мой взгляд очень дорогим, и все мои старания так и не удовлетворили моего любопытства, лишь открыв еще больший простор воображению.
Я поднялся на палубу полюбоваться последними лучами заходящего солнца: вскоре оно должно было скрыться за горами Европы. Каждый вечер мы наслаждались этим зрелищем, самым великолепным, какое только можно вообразить. Притихнувший экипаж, в отличие от меня, помнивший, что сегодня суббота, почистившись и принарядившись, тщательно соблюдал ритуал воскресного дня, столь чтимый матросами: кто спал на люке, кто читал, прислонившись к снастям, кто задумчиво прогуливался по носовой части судна; как вдруг с берега послышались крики, заставившие нас обернуться в ту сторону. Из ворот большого дворца на берег выбежал турок, преследуемый взбешенной толпой, и, бросившись в баркас, оттолкнул его с силой и ловкостью, порожденными отчаянием. Какое-то время беглец, казалось, колебался, куда ему плыть, но толпа кинулась к лодкам, стоявшим вдоль берега, и вся эта орущая флотилия пустилась вслед за ним. Тогда турок повернул железный клюв своего суденышка по направлению к «Трезубцу» и, не обращая внимания на враждебный жест часового, прицелившегося ему в голову, схватился за трап левого борта. Затем, вскочив на палубу, он подбежал к кабестану и, упав на колени, разорвал свой тюрбан, осенил себя крестным знамением и произнес какие-то слова, которых никто не понял. В эту минуту, привлеченные шумом, наверх поднялись Якоб с лордом Байроном, только что рассчитавшимся с нашим провожатым за дневные труды. Еврей объяснил, что турок, несомненно, совершил какое-то преступление и теперь, кощунствуя над магометанством, очевидно, стремится вызвать у нас симпатию и найти защиту, желая жестами и словами показать, что хочет принять христианство. Наш переводчик не ошибся: почти в то же мгновение со стороны моря раздались громкие крики с требованием выдать убийцу и «Трезубец» буквально осадили пятьдесят лодок, где сидело, по меньшей мере, полторы тысячи человек.
Невозможно представить себе это зрелище — нужно воочию видеть его. Как турецкие кони, признающие лишь два аллюра — шаг или галоп, их хозяева не признают середины. Они либо безмятежно-спокойны, либо стремятся к самому жестокому насилию и тогда превращаются в настоящих демонов: гнев лишает их рассудка, они действуют быстро и бессмысленно, сея вокруг смерть. Пророк запретил им вино, но они пьянеют от вида крови и, вкусив ее, перестают быть людьми, становятся дикими зверями; на них не действуют ни угрозы, ни увещевания. Просто чудом Якоб смог что-то расслышать среди гула голосов, гортанных выкриков, злобных воплей, налетавших на нас подобно вихрю. Было в этой сцене что-то от фантасмагории, но она носила столь грозный характер, что, не дожидаясь приказа, из чистого чувства самосохранения, матросы схватились за оружие, готовясь защитить корабль от абордажа. Однако, увидев приготовления к обороне, турки немного поостыли; поднявшийся на палубу мистер Бёрк воспользовался этим и попросил нашего еврея узнать у преследователей, чего они хотят. Едва Якоб сделал попытку заговорить, как крики и вопли усилились, сабли и канджары выскочили из ножен, вновь поднялся шум и зазвучали угрозы.
— Возьмите этого человека, — приказал мистер Бёрк, указывая на беглеца (тот со своей обритой головой и сверкавшими ужасом и гневом глазами казался прикованным к бизань-мачте, за которую он уцепился руками). — Хватайте его, швырните в море, и покончим с этим.
— Кто отдает приказы на моем корабле, когда я здесь? — раздался уверенный голос, перекрывающий, как всегда во время бурь и сражений, любой шум.
Мы обернулись и увидели капитана, незаметно поднявшегося на полуют. Мистер Бёрк умолк и побледнел. Сами турки несомненно поняли, что этот высокий седовласый человек в расшитом мундире — главный среди христиан, ибо на него устремились все взгляды. Мстительные крики зазвучали громче.
Капитан справился у Якоба, как по-турецки будет «молчать» и, поднеся рупор ко рту, с громовой силой повторил это слово. Тотчас, будто по волшебству, шум стих, сабли и канджары вернулись в ножны, весла неподвижно упали, а Якоб, стоя на носовом люке, как на трибуне, спросил, какое преступление совершил беглец. В ответ вспыхнул хор голосов:
— Он убил! Пусть он умрет!
Якоб знаком показал, что хочет продолжать. Все снова умолкли.
— Кого он убил, каким образом?
Поднялся какой-то человек.
— Я сын убитого, — сказал он. — На его кафтане — кровь моего отца. Клянусь этой кровью, я вырву сердце у него из груди и брошу его моим собакам.
— Как и почему было совершено убийство? — переспросил Якоб.
— Это убийство из мести. Сначала он убил моего брата, находившегося в доме, потом нашего отца, сидевшего на пороге у двери. Он подло расправился с ребенком и стариком, когда меня не было рядом, и ни тот ни другой не могли защитить себя! Он принес им смерть и сам заслуживает смерти!
— Передайте им, что, даже если это правда, приговор должно вынести правосудие, — сказал капитан.
Якобу, видимо, трудно давался перевод этой фразы на турецкий, но в конце концов он, похоже, справился, ибо в ответ раздался новый взрыв криков.
— Что такое правосудие? — голосили турки. — В Константинополе каждый сам вершит свое правосудие, другого нет! Нам нужен убийца! Мы требуем убийцу! Убийцу! Убийцу!
— Убийца будет доставлен в Константинополь и передан в руки кади.
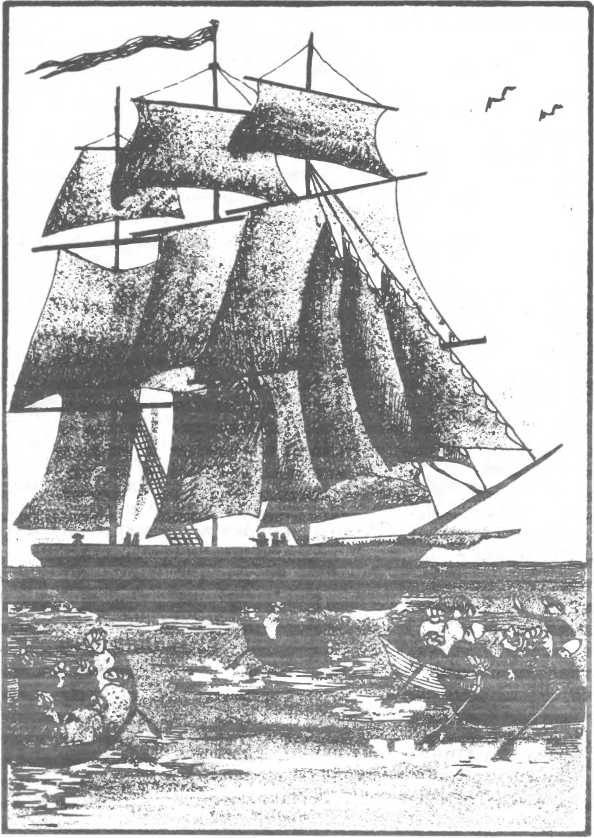
— Нет! Нет! — возражали преследователи. — Нам нужен убийца! Выдайте его, а не то, клянемся верблюдом Магомета, мы возьмем его сами!
— В Коране сказано: «Не клянись верблюдом Магомета», — парировал Якоб.
— Долой еврея! — завопили турки, снова выхватывая сабли и канджары. — Смерть христианам! Смерть!
— Поднять трапы правого и левого борта! — в рупор прокричал капитан, перекрывая шум. — Огонь по первому, кто подойдет!
Приказ был тотчас исполнен, и двадцать человек, вооруженных мушкетонами и тромблонами, полезли на марсы.
Трудно было ошибиться в смысле этих приготовлений, они изрядно охладили гнев осаждавших, и те подались назад шагов на тридцать, однако с их лодок прозвучали два выстрела, к счастью никого не задевших.
— Сделайте холостой выстрел по ним из пушки, если же это не поможет, потопите одну-две лодки, а там посмотрим.
На несколько секунд воцарилась тишина, затем корабль вздрогнул от выстрела тридцатишестифунтовой пушки; окутав полуют, к реям поднялось облако дыма, столбом потянулось к небесам и растаяло в недвижном воздухе. Когда дым рассеялся, мы увидели, что лодки отступают. Осталась лишь та, где находился сын убитого: он один, обнажив канджар, казалось, бросал вызов всему экипажу.
— Пусть тридцать хорошо вооруженных морских пехотинцев возьмут шлюпку, — прокричал капитан, — и доставят убийцу к кади!
Шлюпку тотчас спустили на воду; тридцать человек с заряженными ружьями и шестью зарядами в патронташах отвели в нее виновного, и, направляемая двенадцатью сильными гребцами, она заскользила по начинающей темнеть воде, разрывая предвечернее затишье всплесками своих весел.
Образуя нечто вроде флотилии, лодки подтянулись друг к другу и, описав большой круг, пошли к берегу, издали следя за убийцей, пролившим кровь и ставшим виновником всей этой суматохи.
«Трезубец» развернулся батареей к берегу, приготовившись защищать наших людей; впрочем, предосторожность оказалась излишней — нападавшие продолжали держаться на расстоянии, так что матросы спокойно высадились на землю и направились в город. Турки высыпали на берег, беззаботно бросив свои лодки качаться на воде, и тоже прошли через городские ворота, пропустившие наших моряков. Десять минут спустя наши люди возвратились и без всяких происшествий сели в шлюпку, оставив виновного в руках правосудия. Как и всегда, когда требовался здравый смысл и неколебимое мужество, мистер Стэнбоу поступил так, как ему и следовало.
Некоторое время еще были видны группы угрожающих и возбужденных людей, сновавших по берегу, но постепенно они растворились в сгустившейся темноте, крики затихли, и вскоре огромное водное пространство, над которым еще мгновение назад раздавались шум и вопли, погрузилось в глубокое безмолвие. Мы подождали около часа, затем, опасаясь какой-нибудь неожиданной выходки турок, капитан приказал дать залп; тотчас полоса огней взметнулась в небо, и в их свете, озарившем Константинополь от Семибашенного замка до дворца Константина, мы увидели только бездомных собак, бегающих по побережью в поисках ночной добычи.
На следующий день мистер Стэнбоу вместе со всеми офицерами «Трезубца» получил приглашение от посла Эдера сопровождать его высочество в мечеть, куда он направится возблагодарить Пророка, внушившего императору Наполеону мысль снова объявить войну России. По возвращении мы должны были отобедать во дворце, а затем нам предстояла честь быть принятыми его высочеством.
К приглашению было приложено письмо для лорда Байрона, где сообщалось, что его дом в квартале Пера готов и в него можно переселиться когда угодно. Наш прославленный спутник тотчас отдал необходимые распоряжения и в тот же день вместе с господами Хобхаузом, Икинхэдом и двумя слугами-греками покинул судно. Я испросил у капитана разрешения помочь лорду Байрону устроиться в новом жилище, и оно было мне дано при условии, что в девять часов вечера я вернусь на борт «Трезубца».
Лорд Байрон поселился в очаровательном маленьком особняке, стоящем, как это принято у турок, посреди красивого сада из кипарисов, платанов и сикоморов, с большими клумбами тюльпанов и роз, цветущих в этом чудесном климате круглый год. Обставлен он был так, как это принято у жителей Востока: циновки, диваны и несколько комодов, вернее сундуков, расписанных красками или инкрустированных перламутром либо слоновой костью. Мистер Эдер счел нужным добавить к этой мебели три кровати, полагая, что при всей увлеченности благородного поэта восточным образом жизни он все же не решится, как турки, спать одетым на подушках. Лорд Байрон был этим очень обижен и, несмотря на протесты своих друзей, в тот же вечер отослал кровати обратно в посольство.

