Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 33. Сальватор. Части 3,4
На главную: Предисловие
Дальше: IX РИМ
Александр Дюма
Сальватор
Части третья и четвертая
Часть третья
I
АБОРДАЖ
Оставшись один, капитан Берто по прозвищу Монтобан опустился на козетку, провел рукой по волосам и разгладил бакенбарды. Потом заложил ногу на ногу, облокотился на колено и, глубоко задумавшись, сидел так до тех пор, пока Петрус, приподняв портьеру, не появился на пороге.
Он увидел капитана, сидевшего в уже описанной нами позе, но, очевидно, бесшумное появление Петруса осталось незамеченным, так как капитан сидел по-прежнему, размышляя о чем-то своем.
Петрус с минуту смотрел на него, потом кашлянул, желая вывести посетителя из раздумья.
Капитан при этом звуке вздрогнул, поднял голову, широко раскрыл глаза, будто со сна, и посмотрел на Петруса, продолжая сидеть на козетке.
— Вы желаете со мной поговорить, сударь? — спросил Петрус.
— Голос! Голос точь-в-точь отцовский! — вскричал капитан, поднявшись и устремившись навстречу молодому человеку.
— Вы знали моего отца, сударь? — шагнув к нему, спросил Петрус.
— И походка, походка точь-в-точь отцовская! — снова заговорил капитан. — Знал ли я твоего отца… вашего отца… — прибавил он. — Еще бы, черт побери!
Капитан скрестил на груди руки.
— Ну-ка, посмотри на меня! — приказал он.
— Я и так на вас смотрю, сударь! — сказал Петрус.
— Вылитый отец в молодости, — продолжал капитан, с любовью разглядывая молодого человека или, пользуясь простонародным выражением, еще лучше передающим нашу мысль, поедая его глазами. — Да, да, и если кто-нибудь вздумает уверять меня в обратном, я скажу, что он лжец. Ты как две капли воды похож на отца. Обними же меня, мой мальчик!
— Но с кем я имею честь говорить? — спросил Петрус, все больше изумляясь виду, тону и фамильярным манерам незнакомца.
— С кем ты говоришь, Петрус?.. — продолжал капитан, распахнув объятия. — Ты на меня смотрел и так и не узнал? Правда, — меланхолически прибавил он, — когда мы виделись в последний раз, ты был вот такой!
И капитан показал рукой, каким должен был быть Петрус лет в пять или шесть.
— Признаюсь вам, сударь, — сказал молодой человек, все больше приходя в замешательство, — что понимаю не больше прежнего, несмотря на новые сведения, которые вы только что сообщили… нет… я вас не узнаю…
— Это простительно, — добродушно промолвил капитан. — Однако я бы предпочел, чтобы ты меня узнал, — прибавил он с грустью, — второго отца обычно не забывают.
— Что вы имеете в виду? — пристально глядя на моряка, вновь спросил Петрус, хотя уже начинал догадываться, с кем имеет дело.
— Я имею в виду, неблагодарный, — отвечал капитан, — что война и тропическое солнце, должно быть, здорово меня изменили, раз ты не узнаешь крестного отца.
— Вы друг моего отца, Берто по прозвищу Монтобан, которого он потерял из виду в Рошфоре и с тех пор никогда не видел?
— Ну да, черт возьми! Наконец-то догадались, тысяча чертей и преисподняя! Не сразу вы сообразили! Обними же меня, Пьер, мальчик мой! Тебя, как и меня, зовут Пьер, потому что имя тебе дал я.
Эта истина была неоспорима, хотя имя, полученное молодым человеком при крещении, со временем несколько видоизменилось.
— От всего сердца, крестный! — улыбнулся Петрус.
Капитан распахнул объятия, и Петрус с юношеским пылом бросился ему на грудь.
Капитан обнял его так крепко, что едва не задушил.
— Ах, черт побери, до чего хорошо! — воскликнул капитан.
Он отстранился, не выпуская, однако, Петруса из объятий.
— Вылитый отец! — повторил он, с восхищением разглядывая молодого человека. — Твоему отцу было столько же лет, сколько тебе сейчас, когда мы познакомились… Нет, нет, как бы я ни был пристрастен к нему, нет, черт побери, он не был так красив, как ты! Твоя мать тоже внесла свою лепту, милый Пьер, и этим ничуть тебе не напортила. Всматриваясь в твое юное лицо, я и сам чувствую себя лет на двадцать пять моложе, мальчик мой. Ну, садись, дай на тебя наглядеться.
Вытерев глаза рукавом, он усадил Петруса на канапе.
— Надеюсь, я тебя не стесняю, — сказал он, прежде чем сесть самому, — ты сможешь уделить мне несколько минут?
— Да хоть весь день, сударь, а если бы я даже был занят, то отложил бы все свои дела.
— «Сударь»!.. Что значит «сударь»? Да, культура, город, столица. В деревне ты звал бы меня просто крестным Берто. Вы caballero и называете меня «сударем».
Капитан вздохнул:
— Ах, если бы твой отец, мой бедный старый Эрбель знал, что его сын говорит мне «сударь»!..
— Обещайте, что не расскажете ему об этом, и я буду называть вас просто крестным Берто.
— Вот это разговор! Ты должен меня понять: я же старый моряк. И потом, я должен говорить тебе «ты» — так я обращался даже к твоему отцу, хоть он старше меня и был моим капитаном. Посуди сам, что будет, если такой мальчишка, как ты, — а ведь ты еще совсем мальчишка! — заставит меня говорить ему «вы»?
— Да я вас вовсе и не заставляю! — рассмеялся Петрус.
— И правильно делаешь. Кстати, если бы мне пришлось обращаться к тебе на «вы», я не знаю, как бы я мог выразить то, что должен сказать тебе.
— А вы должны мне что-то сказать?
— Разумеется, дражайший крестник!
— Ну, крестный, я вас слушаю.
Пьер Берто с минуту смотрел на Петруса в упор.
Сделав над собой видимое усилие, он выдавил из себя:
— Что, бедный мой мальчик, мы оказались на мели?
Петрус вздрогнул и залился краской.
— На мели? Что вы хотите этим сказать? — спросил молодой человек, никак не ожидавший ни подобного вопроса, ни той внезапности, с какой он был задан.
— Ну да, на мели, — повторил капитан. — Иными словами, англичане набросили абордажный крюк на нашу мебель?
— Увы, дорогой крестный, — приходя в себя и пытаясь улыбнуться, отозвался Петрус. — Сухопутные англичане еще пострашнее морских!
— Я слышал обратное, — возразил с притворным простодушием капитан, — похоже, меня обманули.
— Тем не менее, — выпалил Петрус, — вы должны все знать: я отнюдь не из нужды продаю все свои вещи.
Пьер Берто отрицательно помотал головой.
— Почему нет? — спросил Петрус.
— Нет, — повторил капитан.
— Однако же уверяю вас…
— Послушай, крестник! Не пытайся заставить меня поверить в то, что если молодой человек твоих лет собрал такую коллекцию, как у тебя, эти японские вазы, голландские сундуки, севрский фарфор, саксонские статуэтки — я тоже любитель антиквариата, — то он продает все это по доброй воле и от нечего делать!
— Я и не говорю вам, капитан, — возразил Петрус, избегая слова «крестный», казавшегося ему нелепым, — я и не говорю, что продаю все по доброй воле или от нечего делать, но никто меня не вынуждает, не заставляет, не обязывает это делать, во всяком случае — сейчас.
— Да, иными словами, мы еще не получили гербовой бумаги, суда еще не было. Это полюбовная распродажа во избежание распродажи по судебному приговору — меня не проведешь. Крестник Петрус — честный человек, готовый скорее переплатить своим кредиторам, нежели обогатить судебных исполнителей. Но я остаюсь при своем мнении: ты оказался на мели.
— Если смотреть с вашей позиции, признаюсь, в ваших словах есть доля истины, — согласился Петрус.
— В таком случае, — заметил Пьер Берто, — счастье, что меня занесло сюда попутным ветром. И вела меня Богоматерь Избавления.
— Не понимаю вас, сударь, — молвил Петрус.
— «Сударь»! Ну, на что это похоже?! — вскричал Пьер Берто, поднимаясь и оглядываясь по сторонам. — Где тут «сударь» и кто его зовет?
— Садитесь, садитесь, крестный! Это просто lapsus linguae.
— Ну вот, ты заговорил по-арабски, а я как раз этого-то языка и не знаю. Черт побери! Говори со мной по-французски, по-английски, по-испански, а также по-нижне-бретонски, и я тебе отвечу, но только без всяких lapse lingus: я не знаю, что это значит.
— Я вас всего-навсего просил сесть, крестный.
Петрус подчеркнул последнее слово.
— Я готов, но при одном условии.
— Каком?
— Ты должен меня выслушать.
— С благоговением!
— И ответить на мои вопросы.
— С твердостью.
— В таком случае, я начинаю.
— А я слушаю.
Что бы ни говорил Петрус, капитан сумел разбудить его любопытство, и теперь он приготовился внимательно слушать.
— Итак, — начал капитан, — у твоего славного отца, стало быть, ни гроша? Это и неудивительно. Когда мы с ним расстались, он был на грани разорения, а преданность может разорить быстрее, чем рулетка.
— Да, верно: именно из-за преданности императору он и лишился пяти шестых своего состояния.
— А последняя, шестая часть?
— Почти полностью ушла на мое образование.
— А ты, не желая окончательно разорять несчастного отца, но, мечтая жить как джентльмен, наделал долгов… Так? Отвечай!
— Увы!..
— Прибавим к тому какую-нибудь любовь, желание блеснуть в глазах любимой женщины, проехать перед ней в Булонском лесу на красивой лошади, явиться вслед за ней на бал в изящном экипаже?
— Невероятно, крестный, какой у вас искушенный для моряка взгляд!
— Можно быть моряком, друг мой, и, тем не менее, иметь сердце.
… Мы слабы — что скрывать!
И вот всегда любви даем себя терзать.
— Как, крестный, вы знаете наизусть стихи Шенье?
— Почему нет? В молодости я приехал в Париж, потому что хотел увидеть господина Тальма. Мне сказали: «Вы прибыли вовремя, он играет в трагедии господина Шенье „Карл Девятый“». Я сказал: «Посмотрим „Карла Девятого“». Во время представления возникает перепалка, потом ссора, потом драка; появляется полицейский, меня уводят в участок, где я остаюсь до следующего утра. Утром мне говорят, что произошла ошибка, и выставляют меня за дверь. В результате я уезжаю, чтобы вернуться в Париж лишь тридцать лет спустя. Я спрашиваю, как поживает господин Тальма, — «Умер!..» Я спрашиваю, как поживает господин Шенье, — «Умер!..» Я полюбопытствовал, где теперь идет «Карл Девятый», — «Запрещен властями!..» — «Ах, дьявольщина! — сказал я. — А мне так бы хотелось досмотреть конец „Карла Девятого“, ведь я успел увидеть только первый акт». — «Невозможно, — отвечают мне. — Однако если желаете прочесть, нет ничего проще». — «Что для этого необходимо?» — «Купите книгу!» И действительно, это оказалось несложно. Я вхожу к книготорговцу: «У вас есть сочинения господина Шенье?» — «Да, сударь, пожалуйста». — «Ладно, — думаю я, — прочту это у себя на корабле». Я возвращаюсь на борт, открываю книгу, ищу: нет трагедии! Одни стихи! Идиллии, мадригалы мадемуазель Камилле. Черт возьми, у меня на борту библиотеки нет, я и прочел моего Шенье, потом перечитал — вот как вышло, что у меня неосторожно вырвалась цитата. Только я оказался одурачен: я купил Шенье, чтобы прочесть «Карла Девятого», а у него такой пьесы, похоже, вообще не было. Ах, эти книготорговцы! Вот флибустьеры!
— Бедный крестный! — рассмеялся Петрус. — Книготорговцы не виноваты.
— Как так? А кто же виноват?
— Вы.
— Я?!
— Да.
— Объясни.
— Трагедию «Карл Девятый» написал Мари Жозеф Шенье, член Конвента.
— Ну?
— А вы купили книгу поэта Андре Шенье.
— Ага! Ага! Ага! — восклицал капитан на все лады.
Он глубоко задумался, потом продолжал:
— Вот все и разъяснилось; но книготорговцы все равно флибустьеры!
Видя, что крестный держится своего мнения о книготорговцах, и не имея никаких причин защищать эту почтенную гильдию, Петрус решил не упорствовать и стал с интересом ждать, когда Пьер Берто вернется к прежней теме разговора.
— Итак, мы остановились на том, — сказал моряк, — что ты наделал долгов. Так, крестник Петрус?
— Мы действительно остановились на этом, — подтвердил молодой человек.
II
АМЕРИКАНСКИЙ КРЕСТНЫЙ
На мгновение воцарилась тишина; Пьер Берто пристально посмотрел на крестника, словно хотел увидеть его насквозь.
— И какие у нас долги… хотя бы приблизительно?
— Приблизительно? — усмехнулся Петрус.
— Да. Долги, мой мальчик, все равно что грехи, — произнес капитан, — никогда не знаешь точной цифры.
— Я, тем не менее, знаю, сколько задолжал, — возразил Петрус.
— Знаешь?
— Да.
— Это доказывает, что ты человек аккуратный, крестник. Ну, и сколько?
Пьер Берто откинулся в кресле и, помаргивая, стал вертеть большими пальцами.
— Мои долги составляют тридцать три тысячи франков, — объявил Петрус.
— Тридцать три тысячи! — вскричал капитан.
— Да! — хмыкнул Петрус, которого начинали забавлять оригинальные выходки его второго отца, как величал себя моряк. — Вы полагаете, что сумма непомерно огромная?
— Огромная?! Да я не могу взять в толк, как ты до сих пор не умер с голоду, бедный мальчик!.. Тридцать три тысячи франков! Да если бы мне было столько же лет, сколько тебе, и я жил на суше, я задолжал бы в десять раз больше. И это была бы сущая безделица по сравнению с долгами Цезаря!
— Мы не Цезари, дорогой мой крестный. Так что, если позволите, я останусь при своем мнении: сумма огромная.
— Огромная! Да ведь у тебя по сотне тысяч франков в каждом волоске твоей кисти! Ведь я видел твои картины, да и разбираюсь в живописи: видал и фламандцев, и итальянцев, и испанцев. Ты — художник, у тебя отличная школа.
— Не надо громких слов, крестный! — скромно ответил Петрус.
— А я тебе говорю, что у тебя отличная школа, — настаивал моряк. — А когда человек имеет честь быть великим художником, у него не может быть меньше тридцати трех тысяч франков долга в год. Это точная цифра: талант, черт побери, представляет собой миллионный капитал, а с редукцией господина де Виллеля тридцать три тысячи франков составляют как раз ренту с миллиона.
— Ну, крестный, знаете… — перебил его Петрус.
— Что, крестник?
— Вы чертовски остроумны!
— Пф! — только и сказал Пьер Берто.
— Не морщитесь, я знаю весьма порядочных людей, которые были бы счастливы такой оценкой.
— Из литературной братии?
— Ого! Опять недурно!
— Ну, довольно пошутили! Вернемся к твоим долгам.
— Вы настаиваете?
— Да, потому что хочу сделать тебе предложение.
— Касательно моих долгов?
— Касательно твоих долгов.
— Слушаю вас. Вы настолько необыкновенный человек, крестный, что от вас всего можно ожидать.
— Вот мое предложение: я прямо сейчас становлюсь твоим единственным кредитором.
— Как, простите?!
— Ты задолжал тридцать три тысячи франков, потому и продаешь мебель, картины, дорогие безделушки, так?
— Увы! — смиренно ответил Петрус. — Это верно, как евангельская истина.
— Я плачу тридцать три тысячи, и ты оставляешь себе мебель, картины, безделушки.
Петрус с удивлением посмотрел на моряка.
— Что вы хотите этим сказать, сударь? — спросил он.
— Кажется, я погладил своего крестника против шерсти, — проворчал Пьер Берто. — Прошу прощения, господин граф де Куртене, я полагал, что разговариваю с сыном своего старого друга Эрбеля.
— Да, да, да, — поспешил загладить свою резкость Петрус. — Да, дорогой крестный, вы говорите с сыном своего доброго друга Эрбеля. А он вам отвечает: занять тридцать три тысячи — еще не вся забота, даже если берешь в долг у крестного; надо знать, чем будешь отдавать.
— Чем ты мне отдашь долг, крестник? Нет ничего проще: напишешь мне картину вот по этому эскизу.
И он указал Петрусу на эскиз сражения «Прекрасной Терезы» с «Калипсо».
— Картина должна быть тридцати трех футов в длину и шестнадцати с половиной футов в высоту, — продолжал он. — Ты изобразишь меня на палубе рядом с твоим отцом в ту минуту, когда я ему говорю: «Я буду крестным твоего первенца, Эрбель, и мы будем квиты».
— Да куда же вы повесите этакую громадину?
— У себя в гостиной.
— Да вы ни за что не найдете дом с гостиной в тридцать три фута длиной.
— Я прикажу выстроить такой дом нарочно для твоей картины.
— Вы, случайно, не миллионер, крестный?
— Если бы я был только миллионером, мальчик мой, — снисходительно отвечал Пьер Берто, — я купил бы трехпроцентные бумаги, получал бы сорок — пятьдесят тысяч ливров ренты и перебивался бы с хлеба на воду.
— Ох-ох-ох! — бросил Петрус.
— Дорогой друг! — продолжал капитан. — Разреши мне в двух словах рассказать о себе.
— Разумеется!
— Когда я расстался с твоим славным отцом в Рошфоре, я сказал себе: «Ну, Пьер Берто, честным пиратам во Франции больше делать нечего, займемся торговлей!» Я превратил пушки в балласт и стал торговать черным деревом.
— Иными словами, работорговлей, дорогой крестный.
— Это называется «работорговля»? — простодушно спросил капитан.
— Думаю, да, — отвечал Петрус.
— Эта торговля кормила меня три или четыре года, и, кроме того, я завязал отношения с Южной Америкой. Когда вспыхнуло восстание, губительное для Испании и ее трухлявой и дряхлой нации, я поступил на службу к Боливару. Я угадал в нем великого человека.
— Так вы, значит, один из освободителей Венесуэлы и Новой Гранады, один из основателей Колумбии? — изумился Петрус.
— И горжусь этим, крестник! Но после уничтожения рабства я решил разбогатеть другим способом. Мне показалось, что в окрестностях Кито я видел участок, богатый золотыми самородками. Я тщательно изучил местность, напал на жилу и попросил концессию. Учитывая мои заслуги перед Республикой, мне предоставили упомянутую концессию. Через шесть лет я заработал скромную сумму в четыре миллиона и уступил эту разработку за сто тысяч пиастров — иначе говоря, она приносит мне по пятьсот тысяч ливров ежегодно. После этого я вернулся во Францию, где намерен недурно устроиться со своими четырьмя миллионами и жить на пятьсот тысяч ливров ренты. Ты одобряешь мой план, крестник?
— Еще бы!
— Детей у меня нет, родственников — тоже… даже троюродных или четвероюродных, которых я бы хоть раз в глаза видел. Жениться я не намерен; что же, по-твоему, мне делать с таким состоянием? А тебе оно принадлежит по праву…
— Капитан!
— Ну вот, опять ты за свое! Тебе оно принадлежит по праву, а ты с самого начала отказываешься от тридцати трех тысяч франков?
— Надеюсь, вы понимаете мои чувства, дорогой крестный.
— Нет, признаться, не понимаю, что тебе не нравится. Я холостяк, я сказочно богат, я твой второй отец и предлагаю тебе сущую безделицу, а ты отказываешься! Знаешь ли ты, мой мальчик, что не успели мы встретиться, а ты уже нанес мне смертельную обиду?
— Я не хотел вас обидеть, крестный.
— Хотел ты или нет, — прочувствованно сказал капитан, — ты глубоко меня огорчил! Ранил в самое сердце!
— Простите меня, дорогой крестный, — не на шутку встревожился Петрус. — Я совсем не ожидал от вас такого предложения и растерялся, когда услышал его, а потому не проявил должной признательности. Приношу вам свои извинения.
— Так ты принимаешь мое предложение?
— Этого я не сказал.
— Если ты откажешься, знаешь, что я сделаю?
— Нет.
— Сейчас узнаешь.
Петрус ждал, что будет дальше.
Капитан вынул из внутреннего кармана туго набитый бумажник и раскрыл его.
В бумажнике лежали банковские билеты.
— Я возьму отсюда тридцать три билета — а здесь их две сотни, — скомкаю их, отворю окно и вышвырну на улицу.
— Зачем? — спросил Петрус.
— Чтобы показать тебе, что я делаю с этими бумажками.
И капитан выхватил из бумажника дюжину билетов и скомкал их, словно это была папиросная бумага.
После этого он решительнейшим образом направился к окну.
Петрус его остановил.
— Не надо глупостей, давайте попробуем найти общий язык.
— Тридцать три тысячи или смерть! — пригрозил капитан.
— Не тридцать три, учитывая, что все деньги мне не нужны.
— Тридцать три тысячи франков или…
— Да выслушайте же, черт побери, или я стану ругаться как матрос. Я вам докажу, что я сын корсара, тысяча чертей и преисподняя!
— Младенец сказал «папа»! — вскричал Пьер Берто. — Господь велик! Послушаем твои предложения.
— Да, послушайте. Я испытываю смущение, потому что, как вы сами сказали, дорогой крестный, я наделал долгов.
— На то она и молодость!
— Однако мне не было бы так стыдно, если бы, делая эти безумные траты, я вместе с тем не бездельничал.
— Нельзя же все время работать!
— И я решил снова взяться за дело.
— А как же любовь?
Петрус покраснел.
— Любовь и работа могут идти рука об руку. Словом, я решил усердно потрудиться, как принято говорить.
— Хорошо, давай потрудимся. Но англичан, или, иначе говоря, кредиторов, надо чуть сбрызнуть, как говорят садовники, на то время пока мы извлечем прибыль из нашей кисти.
— Вот именно!
— Пожалуйста, — предложил капитан, протянув Петрусу свой бумажник. — Вот тебе для этого лейка, мальчик мой. Я тебе ничего не навязываю, бери сколько хочешь.
— Отлично! — сказал Петрус. — Вы становитесь благоразумным. Я вижу, мы сумеем договориться.
Петрус взял десять тысяч франков и вернул бумажник Пьеру Берто, следившему краем глаза за действиями художника.
— Десять тысяч франков! — хмыкнул капитан. — Да любой кошатник ссудил бы тебя этой суммой под шесть процентов… Кстати, почему ты мне не предлагаешь процентов?
— Дорогой крестный! Я боялся вас обидеть.
— Отнюдь нет! Я, напротив, хочу выговорить проценты.
— Пожалуйста.
— Я прибыл вчера в Париж с намерением купить дом и обставить его как можно лучше.
— Понимаю.
— Но прежде чем я найду подходящую скорлупку, пройдет не меньше недели.
— Это самое меньшее.
— На меблировку уйдет еще около недели.
— А то и две.
— Пусть будет две, не хочу с тобой спорить; итого — три недели.
— А то и больше.
— Не придирайся к мелочам, не то я заберу свое предложение назад.
— Какое предложение?
— Которое я собирался тебе сделать.
— А почему вы хотите его забрать?
— Потому что у тебя характер задиристый, а у меня упрямый: мы не уживемся.
— А вы хотели поселиться у меня? — спросил Петрус.
— Знаешь, я со вчерашнего дня живу в гостинице «Гавр» и уже сыт ею выше головы, — промолвил капитан. — Я собирался тебе сказать: «Петрус, дорогой мой крестник, милый мальчик, не найдется ли у тебя комнаты, каморки, мансарды, какого-нибудь закуточка, где я мог бы подвесить свою койку? Можешь сделать это для бедного капитана Берто Монтобана?»
— Как?! — вскричал Петрус, приходя в восторг от того, что может хоть чем-нибудь быть полезен человеку, с такой простотой предоставившему свой кошелек в его распоряжение.
— Разумеется, если это тебя стеснит хоть в малейшей степени… — продолжал капитан, — ты только скажи!
— Как, черт побери, вы могли такое подумать?
— Видишь ли, со мной можно не церемониться: отвечай откровенно, положа руку на сердце. Да или нет?
— Положа руку на сердце, откровенно говорю вам, дорогой крестный: ничто не может мне доставить большего удовольствия, чем ваше предложение. Только вот…
— Что?
— В те дни, когда у меня будет модель… когда у меня сеанс…
— Понял… понял… Свобода! Libertas!
— Теперь вы заговорили на арабском.
— Я говорю по-арабски?! Видно, сам того не зная, как господин Журден говорил прозой.
— Ну вот, теперь вы цитируете Мольера. По правде говоря, дорогой крестный, вы иногда пугаете меня своей начитанностью. Уж не подменили ли вас в Колумбии? Впрочем, вернемся, если угодно, к вашему желанию.
— Да, к моему желанию, горячему желанию. Я не привык к одиночеству; вокруг меня всегда крутилась дюжина жизнерадостных шустрых парней, и меня вовсе не прельщает перспектива умереть от тоски в твоей гостинице «Гавр». Я люблю общество, особенно молодежь. Должно быть, ты здесь принимаешь людей искусства, науки. Я обожаю ученых и людей искусства: первых — за то, что я их не понимаю, вторых — потому что понимаю. Видишь ли, крестник, если только моряк не круглый дурак, он знает обо всем понемногу. Он изучал астрономию по Большой Медведице и Полярной звезде, музыку — по свисту ветра в снастях, живопись — по заходам солнца. Итак, мы поговорим об астрономии, музыке, живописи, и ты увидишь, что в этих достаточно разных областях я разбираюсь не хуже тех, кто избрал их своей профессией! О, не беспокойся, тебе не придется слишком за меня краснеть, если не считать случайно вырвавшихся морских выражений. Ну, а уж если я чересчур сильно разойдусь, ты поднимешь сигнальный флаг, и я закрою рот на замок.
— Да что вы такое говорите?!
— Правду. Ну, отвечай в последний раз: тебе подходит мое предложение?
— Я с радостью его принимаю.
— Браво! Я самый счастливый из смертных!.. А когда тебе будет нужно побыть одному, когда придут хорошенькие модели или великосветские дамы, я поверну на другой галс.
— Договорились.
— Ну и хорошо!
Капитан вынул часы.
— Ого! Уже половина седьмого! — заметил он.
— Да, — подтвердил Петрус.
— Где ты обычно ужинаешь, мой мальчик?
— Да где придется.
— Ты прав. Умирать с голоду нигде не нужно. В Пале-Рояле кормят по-прежнему прилично?
— Как в любом ресторане… вы же знаете.
— Вефур, Вери, «Провансальские братья» — это все и теперь существует?
— Еще как!
— Идем ужинать!
— Вы меня приглашаете поужинать?
— Ну да! Сегодня — я тебя, завтра — ты меня, и мы будем квиты, господин недотрога.
— Позвольте, я надену редингот и перчатки.
— И надень, мальчик, надень.
Петрус двинулся в свою комнату.
— Да, кстати…
Петрус обернулся.
— Дай мне адрес своего портного. Я хочу одеться по моде.
Он увидел через приотворенную дверь шляпу Петруса.
— Ага! Значит, широких шляп на манер Боливар больше не носят?
— Нет, теперь носят маленькие на манер Мурильо.
— А я свою оставлю в память о великом человеке, которому обязан своим состоянием.
— Это благородно и умно, дорогой крестный.
— Ты смеешься надо мной?
— Ничуть.
— Давай, давай! Я не обидчив, вали на меня, что хочешь. Впрочем, давай сначала обсудим, где ты меня поселишь.
— Этажом ниже, если не возражаете. У меня там отличная холостяцкая квартира, она вам понравится.
— Оставь свою холостяцкую квартиру для любовницы, которая захочет, чтобы ты устроил ей собственное гнездышко. Мне же нужна всего одна комната, лишь бы в ней были койка с твердой рамой, книги, четыре стула, карта мира — вот и все.
— Уверяю вас, дорогой крестный, что у меня нет любовницы, которую нужно брать на содержание, и вы ничем меня не стесните, если займете квартиру, в которой я не живу и которая служит лишь прибежищем Жану Роберу в дни его премьер.
— Ага! Жан Робер, модный поэт… Да, да, да, знаю!
— Как?! Вы знаете Жана Робера?
— Я видел его драму на испанском в Рио-де-Жанейро, так что знаю… Дорогой крестник, хоть я и морской волк, запомни: я знаю многих и многое. Это с виду я неотесанный моряк, но я тебя удивлю еще не раз. Итак, квартира этажом ниже?..
— В вашем распоряжении.
— Я тебя точно не стесню?
— Ни в малейшей степени.
— Хорошо, я согласен.
— А когда вы намерены вступить во владение?
— Завтра… нет, сегодня вечером.
— Вы хотите сегодня здесь ночевать?
— Ну, если это тебя не слишком побеспокоит, мой мальчик…
— Ура, крестный! — обрадовался Петрус и подергал за шнур.
— Что это ты делаешь?
— Зову лакея, чтобы он приготовил вашу квартиру.
Вошел лакей, и Петрус отдал ему необходимые распоряжения.
— Куда послать Жана за вашими вещами? — спросил Петрус капитана.
— Я сам этим займусь, — возразил моряк и вполголоса прибавил: — Мне нужно попрощаться с хозяйкой гостиницы.
И выразительно посмотрел на Петруса.
— Крестный! Вы можете принимать у себя кого хотите, — сказал Петрус. — Здесь не монастырь.
— Спасибо!
— Похоже, в Париже вы не теряли времени даром, — заметил Петрус.
— Я же еще не знал, что найду тебя, мой мальчик, — пояснил капитан, — мне нужно было создать себе домашнюю обстановку.
Лакей снова поднялся в мастерскую.
— Все готово, — доложил он, — осталось лишь застелить постель.
— Прекрасно! В таком случае вели запрягать.
Он обратился к капитану:
— Не угодно ли по дороге заглянуть в вашу квартиру?
— Ничего не имею против, хотя, повторяю, мы, старые пираты, неприхотливы.
Петрус пошел вперед, указывая дорогу гостю; распахнув дверь антресоли, он ввел его в комнату, похожую скорее на гнездышко щеголихи, чем на жилище студента или поэта.
Капитан замер в. восхищении перед неисчислимыми безделушками, которыми были уставлены этажерки.
— Да это апартаменты принца крови! — воскликнул он.
— Что такое королевские апартаменты для такого набоба, как вы! — парировал Петрус.
Через несколько минут, в продолжение которых капитан не переставал восхищаться, лакей доложил, что коляска готова.
Крестный и крестник спустились под руку.
У каморки привратника капитан остановился.
— Поди-ка сюда, парень! — приказал он.
— Чем могу служить, сударь? — спросил тот.
— Доставь мне удовольствие: сорви все объявления о воскресной распродаже и передай посетителям, которые придут завтра…
— Что я должен им сказать?
— Что мой крестник оставляет мебель себе. В путь!
Он вскочил в двухместную карету, просевшую под ним, и приказал:
— К «Провансальским братьям»!
Петрус сел вслед за капитаном, и экипаж покатил со двора.
— Клянусь «Калипсо», которую мы с твоим отцом продырявили, словно решето, у тебя отличная лошадь, Петрус! Жаль было бы ее продать!
III
ГЛАВА, В КОТОРОЙ КАПИТАН БЕРТО МОНТОБАН ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЫРАСТАЕТ В ГЛАЗАХ КРЕСТНИКА
Крестный и крестник заняли один из кабинетов «Провансальских братьев»; по просьбе капитана Монтобана, уверявшего, что он сам ничего в этом не понимает, ужин заказывал Петрус.
— Выбирай все самое лучшее, что есть в этом заведении, слышишь, мальчик мой? — сказал капитан крестнику. — Ты, должно быть, привык к изысканным ужинам, бездельник? Самые дорогие блюда, самые лучшие вина! Я слышал, здесь когда-то подавали сиракузское вино. Узнай, Петрус, существует ли оно еще. Мне надоела мадера: за пять лет я выпил ее столько, что она мне опротивела.
Петрус спросил сиракузского вина.
Мы не станем перечислять всего, что заказал Петрус в ответ на настойчивые просьбы крестного.
Скажем только, что это был настоящий ужин набоба, и капитан признался за десертом, что недурно поужинал.
Петрус не переставал ему удивляться. За всю свою жизнь он даже у генерала, знатока в этом деле, не сидел за таким роскошным столом.
Впрочем, капитан удивил его не только этим.
Он видел, как тот бросил пиастр уличному мальчишке, отворившему перед ним дверь в ресторан. Когда они проходили мимо Французского театра, моряк снял там ложу, а когда Петрус заметил капитану, что спектакль плохой, тот сказал просто:
— Мы можем и не ходить, но я люблю обеспечить себе заранее место, где смогу подремать после ужина.
Когда ужин был заказан, капитан подарил целый луидор лакею, чтобы тот подал бордо подогретым, шампанское — охлажденным, а блюда подносил одно за другим без перерыва.
Словом, с тех пор как моряк заговорил с Петрусом, тот не переставал изумляться.
Капитан Монтобан превращался на его глазах в античного Плутоса: золото лилось у него изо рта, из глаз, из рук, будто солнечные лучи.
Казалось, ему довольно тряхнуть своей одеждой, и из нее хлынет золотой дождь.
Словом, это был классический набоб.
К концу ужина в голове у Петруса зашумело от выпитых по настоянию крестного вин, ведь обычно он пил только воду. Молодой человек решил, что видит сон, и стал расспрашивать крестного, дабы убедиться, что события последних нескольких часов — не феерия, какие показывают в цирке или в театре Порт-Сен-Мартен.
Очарованный радужными видениями, Петрус отдался сладким грезам, а крестный, краем глаза наблюдавший за крестником, нарочно не стал ему мешать.
Хмурое, затянутое тучами небо, нависавшее над молодым человеком вот уже несколько дней, постепенно прояснялось и в конце концов, благодаря богатому воображению художника, оказалось ярко расцвечено. Роскошная жизнь, представлявшаяся ему необходимым условием его царственной любви, окутывала его своими сладчайшими ароматами, овевала самыми нежными ласками. Чего ему еще было желать? Разве, подобно французским дофинам, носившим закрытую корону из четырех диадем, он не обладал счетверенной короной, которую представляли молодость, талант, богатство и любовь?
Это было невероятно.
Упав столь низко накануне, вдруг взлететь к самым вершинам!..
Однако все обстояло именно так.
Необходимо было привыкать к счастью, каким бы непредвиденным и невероятным оно ни представлялось.
Но, возразят нам разборчивые и щепетильные натуры, счастье, талант, удача Петруса будут отныне зависеть от чьего-то каприза, и он готов принимать милостыню от щедрот чужого человека? Вы ведь совсем не таким представляли нам своего юного друга, господин поэт!
Ах, Боже мой, господа пуритане! Я представил вам сердце и темперамент двадцатишестилетнего молодого человека, талантливого и страстного; я сказал, что он похож на Ван Дейка в молодости. Вспомните о любовных похождениях Ван Дейка в Генуе, вспомните, как он искал философский камень в Лондоне.
Прежде чем согласиться на вторжение моряка в свою жизнь, Петрус и сам задавался теми же вопросами, которые вы ставите перед нами. Но он подумал, что этот человек ему не чужой и рука эта ему не чужая: он друг его отца, он окропил его святой водой, он же обязался заботиться о его счастье в этом мире, как и в ином.
Да и помощь от капитана Петрус принимал на время.
Петрус брал, но с условием все вернуть.
Как мы уже сказали, его картины стали особенно высоко цениться после того, как он забросил работу. Петрус мог, не слишком утруждаясь за полотном, зарабатывать по пятьдесят тысяч франков в год. А имея такую сумму, он очень скоро вернул бы крестному десять тысяч, а также своим кредиторам те двадцать — двадцать пять тысяч франков, которые еще оставался им должен.
Кроме того, вообразите на минуту, что этот нежданный крестный, о существовании которого, однако, было известно, умер где-нибудь в Калькутте, Вальпараисо, Боготе, на Сандвичевых островах. Представьте, что перед смертью он завещал свое состояние Петрусу. Неужели, по-вашему, Петрус должен был отказаться?
В подобных обстоятельствах, как бы строг ни был наш читатель, он сам не отказался бы от четырех миллионов капитала и полумиллионной ренты, которые ему оставил бы крестный, хотя бы даже совсем неизвестный, чужой, нежданный.
Нет, читатель, вы не отказались бы.
А раз вы готовы принять четыре миллиона капитала и полумиллионную ренту от мертвого крестного, почему бы не принять десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, пятьдесят, сто тысяч франков от живого крестного?
На том же основании пришлось бы считать неудачными все развязки античных пьес, когда с неба при помощи машины спускаются боги.
Вы мне возразите, что капитан Монтобан не бог.
Если золото и не бог, то все боги — из золота.
Прибавьте к тому страсть, то есть безумие, — все, что волнует сердце, все, что смущает разум.
О каком же будущем мечтал Петрус в эти несколько минут молчания? Какие золотые дали открывались его взору! Как нежно покачивался он на лазурных облаках надежды!
Наконец капитан вывел его из задумчивости.
— Ну что? — спросил он.
Петрус вздрогнул, сделал над собой усилие и спустился с небес на землю.
— Я к вашим услугам, крестный, — ответил он.
— Даже согласен пойти во Французский театр? — смеясь, спросил тот.
— Куда прикажете.
— Твоя преданность так велика, что заслуживает вознаграждения. Нет, во Французский театр мы не пойдем: трагические стихи после ужина, как, впрочем, и перед ним, заинтересовать не способны. Я отправлюсь за вещами, поблагодарю хозяйку гостиницы и через час буду у тебя.
— Вас проводить?
— Нет, я тебя отпускаю. Ступай по своим делам, если у тебя есть дела ночью — а ты обязан их иметь, парень: все женщины должны быть без ума от такого красавца!
— Ого! Как истинный крестный, то есть второй отец, вы ко мне небеспристрастны.
— Готов поспорить, — громко расхохотавшись, продолжал капитан чуть насмешливо, — что ты любишь их всех, или ты не сын своего отца. Кажется, у древних римлян был император, мечтавший, чтобы у всех людей была общая голова, дабы обезглавить все человечество одним ударом?
— Да, Калигула.
— А вот твой славный отец, в отличие от этого бандита, мечтавшего о конце света, хотел бы иметь сто ртов, чтобы целоваться разом с сотней женщин.
— Я не такой лакомка, как мой отец, — рассмеялся Петрус, — мне вполне хватает одного рта.
— Так мы влюблены?
— Увы! — признался Петрус.
— Браво! Я лишил бы тебя наследства, не будь ты влюблен… И нам, само собой разумеется, платят взаимностью?
— Да… Я любим и благодарю за то Небо!
— Все к лучшему… Она хороша?
— Как ангел!
— Ну что ж, мальчик мой, я, стало быть, явился как свежий улов к посту; я, дитя моря, говорю «как свежий улов к посту», а не «весьма кстати», как имеете обыкновение говорить вы, сухопутные люди. Что тебе мешает жениться? Деньги? Так я готов дать вдвое больше необходимого.
— Большое спасибо, крестный. Она замужем.
— Как?! Несчастный, ты влюблен в замужнюю даму? А как же мораль?
— Дорогой крестный! Обстоятельства сложились таким образом, что, хотя она и замужем, я могу ее любить и мораль при этом нимало не страдает.
— Ладно, как-нибудь расскажешь мне о своем романе. Нет? Ну, так и не будем об этом больше. Храни свою тайну, мой мальчик. Расскажешь, когда мы сойдемся ближе, и ты, может быть, не напрасно потеряешь время. Я человек находчивый. Мы, старые морские волки, изучаем на досуге все военные хитрости; я мог бы при случае оказать тебе помощь. А пока — молчание! «Лучше молчать всегда, чем открыть рот и ничего не сказать», как написано в «Подражании Иисусу Христу», книга первая, глава двадцатая.
После такой цитаты Петрус, вставший было из-за стола, едва не рухнул снова.
Решительно, крестный Пьер был кладезем премудрости, и если бы знаменитый Говорящий колодец в самом деле умел разговаривать, вряд ли он превзошел бы капитана Берто по прозвищу Монтобан.
Моряк мог поговорить обо всем, он, как Солитер, был знаком со всем на свете, разбирался в астрономии и гастрономии, живописи и медицине, философии и литературе. Знания его поражали энциклопедичностыо, и было нетрудно догадаться, что знал он еще больше, чем показывал это.
Петрус провел рукой по лбу, чтобы отереть выступивший пот, а другой — по глазам, пытаясь, насколько возможно, понять происходящее.
— Ого! — воскликнул моряк, вынув из жилетного кармана огромный хронометр. — Уже десять часов: пора сниматься с якоря, мой мальчик.
Крестный с крестником взяли шляпы и вышли.
Счет составил почти сто семьдесят франков.
Капитан отдал двести франков, оставив тридцать лакею в качестве чаевых.
Карета Петруса стояла у входа.
Петрус пригласил капитана сесть вместе с ним, однако тот отказался: он послал лакея за фиакром, чтобы не лишать Петруса его экипажа.
Напрасно Петрус его уговаривал — капитан оказался непоколебим.
Подъехал фиакр.
— Увидимся вечером, мой мальчик, — сказал Пьер Берто, прыгая в доставленный лакеем экипаж, — только не торопись ради меня: если я не пожелаю тебе спокойной ночи нынче, пожелаю доброго утра завтра. Кучер, Шоссе д’Антен, гостиница «Гавр»!
— До вечера! — отозвался Петрус, махнув капитану рукой на прощание.
Он наклонился к уху своего кучера и приказал:
— Сами знаете куда.
И два экипажа разъехались в противоположные стороны: капитан — вверх по правому берегу Сены, Петрус — по Тюильрийскому мосту и дальше по левому берегу до бульвара Инвалидов.
Даже самый непроницательный читатель уже догадался, как мы надеемся, куда направлялся молодой человек.
Карета остановилась на углу бульвара и улицы Севр, проходящей, как всем известно, параллельно улице Плюме.
Там Петрус сам распахнул дверцу и легко спрыгнул на землю. Предоставив кучеру притворить за ним дверцу, он стал, как всегда, прохаживаться под окнами Регины.
Все ставни были заперты, за исключением двух окон в спальне.
Регина любила оставлять ставни отворенными, чтобы просыпаться с первыми солнечными лучами.
Двойные шторы были опущены, но лампа, подвешенная к розетке на потолке, освещала занавески таким образом, что молодой человек мог видеть силуэт молодой женщины, как видят на белом экране персонажей волшебного фонаря.
Регина медленно прохаживалась по комнате, склонив голову, обхватив правый локоть левой рукой и опираясь подбородком на правую руку.
Это была грациознейшая поза мечтательной задумчивости.
О чем же мечтала Регина?
О, догадаться нетрудно.
О своей любви к Петрусу и о любви Петруса к ней.
Да и о чем еще может грезить молодая женщина, когда ангел, на которого она молилась, был возлюбленным, простиравшим над ней руки?
А что он сам сказал бы в этот поздний час прекрасной мечтательнице, даже не подозревавшей о его присутствии?
Он пришел рассказать ей о необыкновенных событиях этого вечера, о своей радости, поделиться — если не вслух, то хотя бы мысленно — своим счастьем, ведь он привык, живя ею и ради нее, передавать ей все новости, веселые и грустные, счастливые и не очень.
Он прогуливался так около часу и ушел лишь после того, как лампа в комнате Регины погасла.
В наступившей темноте он пожелал любимой приятных сновидений и отправился на Западную улицу. Сердце его переполняла радость.
Вернувшись к себе, он застал там капитана Пьера Берто. Тот уже по-хозяйски устроился в квартире.
IV
СНЫ ПЕТРУСА
Петрус решил проверить, как разместился, по собственному выражению капитана, его гость.
Он негромко постучал в дверь, не желая беспокоить крестного, если тот успел заснуть. Но тот не спал, или у него был чуткий сон: едва раздались три удара с равными промежутками, капитан отозвался мощным баритоном:
— Войдите!
Капитан уже лежал в постели; его голову обвивал платок, завязанный на шее.
Очевидно, таким образом капитан придавал волосам и бороде необходимую форму.
В руке он держал томик, взятый из книжного шкафа, и, похоже, наслаждался чтением.
Петрус украдкой взглянул на книгу, желая составить себе представление о литературных вкусах крестного и узнать, приверженцем какой школы он был: старой или новой.
Пьер Берто читал басни Лафонтена.
— А, вы уже легли, дорогой крестный? — спросил Петрус.
— Да, — отвечал тот. — Еще как лег, крестничек!
— Кровать удобная?
— Нет.
— Как нет?!
— Мы, старые морские волки, привыкли спать на жестком, и здесь для меня, признаться, пожалуй мягковато, но я привыкну! Ко всему человек привыкает, даже к хорошему.
Петрус отметил про себя, что его крестный слишком часто, может быть, повторяет: «Мы, старые морские волки».
Впрочем, в своей речи Пьер Берто был, как могли заметить читатели, весьма сдержан в других чисто морских выражениях, и Петрус решил — по правде говоря, вполне справедливо — не обращать внимания на это присловье, искупавшееся многими прекрасными качествами капитана.
Отогнав от себя эту мысль, он спросил:
— Вам ничего больше не нужно?
— Абсолютно ничего. Даже каюта на флагманском корабле вряд ли обставлена лучше, чем эта твоя холостяцкая квартира; я чувствую, что помолодел лет на двадцать.
— Желаю вам, дорогой крестный, — засмеялся Петрус, — молодеть хоть до конца своих дней!
— Теперь, вкусив новой жизни, я не откажусь от этого, хотя мы, старые морские волки, любим разнообразие.
Петрус не сдержался и слегка поморщился.
— A-а, мое присловье «мы, старые морские волки». Не волнуйся, я исправлюсь.
— Да что вы, крестный, вы вправе говорить как вам вздумается!
— Нет, нет, я знаю свои недостатки! Ты не первый упрекаешь меня за это.
— Напротив, я вас абсолютно ни в чем не упрекаю.
— Мальчик мой! Человек, привыкший за сутки определять по небу приближение бури, замечает малейшее облачко. Еще раз повторяю: не волнуйся, с этой минуты я за собой слежу, особенно при посторонних.
— Мне, право, неловко…
— Отчего же? Оттого что твой крестный, хоть он капитан и хвастается этим, остался всего-навсего неотесанным матросом? Впрочем, сердце у него доброе, у тебя еще будет случай в этом убедиться, слышишь, крестник?.. А теперь ступай спать. Завтра еще будет день, и мы поговорим о твоих делах… А признайся: ты никак не ожидал, что твой крестный явится к тебе сегодня утром на галионе?
— Как видите, я потрясен, ослеплен, очарован. Честно говоря, если бы я не видел вас сейчас перед собой, я бы решил, что мне все пригрезилось.
— Вот видишь! — без тени гордости сказал капитан.
Он понурился и задумчиво, тоном глубокой меланхолии произнес:
— Можешь мне не верить, крестник, но я предпочел бы иметь хоть какой-нибудь талант или — раз уж я разоткровенничался, позволю себе помечтать о невозможном — такой талант, как у тебя, чем владеть несметными богатствами. Когда я думаю об этом огромном состоянии, я непременно вспоминаю строки славного Лафонтена…
Указав на книгу, лежавшую на ночном столике, он процитировал:
В величье, в золоте счастливой нет судьбы!
Два эти божества ответят на мольбы
Лишь благом временным и радостью тревожной.
— Гм-гм! — обронил Петрус, давая понять, что готов поспорить с капитаном.
— Гм-гм! — повторил с той же интонацией Пьер Берто. — Да если бы я тебя не нашел, я бы точно запутался. Я не знал, что делать со своими деньгами. Учредил бы, несомненно, какое-нибудь богоугодное заведение, какой-нибудь приют для моряков-калек или королей-изгнанников, но, к счастью, обрел тебя и могу повторить вслед за Орестом:
Судьба моя теперь свое обличье сменит!Ну, теперь иди спать!
— Придется вам подчиниться, и даже от чистого сердца, потому что завтра мне надо встать пораньше: распродажа назначена на воскресенье, и мне необходимо предупредить оценщика, иначе в субботу он все отсюда вывезет.
— Что вывезет?
— Мебель.
— Мебель! — повторил капитан.
— О, не беспокойтесь, — рассмеялся Петрус, — ваши комнаты останутся в неприкосновенности.
— Это не имеет значения. Вывезти твою мебель, мальчик мой! — нахмурился капитан. — Хотел бы я посмотреть, осмелится ли кто-нибудь, пусть даже этот тупой оценщик, забрать что-либо без моего позволения! Тысяча чертей и преисподняя! Я сделаю хорошую парусину из его шкуры!
— Вам не придется брать на себя этот труд, крестный.
— Да это был бы не труд, а удовольствие. Ну, спокойной ночи, и до завтра! Не удивляйся, если я тебя разбужу: мы, старые морские… — Ну вот, опять это присловье! Моряки обычно поднимаются засветло. Обними меня и ступай к себе.
Петрус послушался. Он горячо обнял капитана и поднялся к себе.
Не стоит и говорить, что ему всю ночь снились Потоси, Голконда, Эльдорадо.
Во сне, или, точнее, в первой его половине, капитан представлялся Петрусу в сверкающем облаке как дух алмазных копей и золотых жил!
Так, в восхитительных, феерических видениях, прошла первая половина ночи, похожая на прихотливую арабскую сказку; но над всей этой фантасмагорией на ярком небе сияла звезда, это была Регина, и, перебирая ее волосы, Петрус играл, будто сияющими цветами, бриллиантами обеих Индий.
Отметим, однако, что любимое выражение его крестного «мы, старые морские волки», то забывалось, то бросалось в глаза, как пятно на бриллианте чистейшей воды.
Наутро после этого фантастического дня капитан Монтобан, как и обещал, проснулся на заре с первым лучом, пробивавшимся сквозь решетчатый ставень. Он взглянул на свой хронометр.
Было около четырех часов утра.
Ему, разумеется, не хотелось будить крестника в этот скорее еще ночной, чем утренний час. Он решил бороться с этим торжествующим солнечным лучом, ворвавшимся к нему без доклада: отвернулся к стене и закрыл глаза с ворчанием, свидетельствовавшим о твердой решимости продолжать сон.
Человек предполагает, а Бог располагает.
То ли сказывалась многолетняя привычка вставать засветло, то ли совесть капитана была не совсем чиста, но он так и не смог снова заснуть и спустя десять минут поднялся с постели, кляня все на свете.
Немало времени он провел за туалетом.
Он тщательно уложил волосы, расчесал бороду и оделся с ног до головы.
В половине пятого туалет был завершен.
Капитан снова оказался в затруднении.
Как скоротать время до менее необычного часа?
Немного походить!
За четверть часа капитан раз десять прошелся по комнате вдоль и поперек, подобно мнимому больному; наконец, вероятно устав от этого упражнения, отворил окно, выходившее на бульвар Монпарнас, и вдохнул свежего утреннего воздуха, прислушиваясь к громкому щебету птиц, расшумевшихся среди ветвей за своим утренним туалетом.
Однако очень скоро он пресытился и утренним ветерком и пением птиц.
Он снова заходил по комнате, но и это занятие ему надоело.
Он вздумал сесть верхом на дубовый стул с высокой спинкой и засвистал одну из морских песен, должно быть, восхищавших когда-то экипаж его корвета; птицы на бульваре, совсем как морские птицы, сейчас же умолкли, слушая его.
Завершив эту гимнастику для губ, капитан прищелкнул языком, словно после свиста у него пересохло во рту.
Повторив и это упражнение несколько раз подряд, он с печальным видом выговорил по слогам:
— Хочу-пить!
Он задумался, пытаясь отыскать способ, как помочь этому непредвиденному затруднению.
Вдруг он с силой хлопнул себя по лбу, так что даже сам удивился тому, какой получился удар, и воскликнул:
— Ах, глупая я скотина!.. Как, господин капитан, ты уже час стоишь на палубе и забыл, что трюм с вином или, иначе говоря, винный погреб находится у тебя под ногами!
Он неслышно отворил дверь и на цыпочках спустился по ступеням в погреб.
Для холостяцкого погреба он, право, был вполне хорош, изящно отделан, хотя и не отличался богатством выбора.
Там было три или четыре сорта бордоских и бургундских вин, но самых изысканных.
При свете вынутой из кармана витой свечи капитану хватило одного быстрого взгляда на ряды бутылок, чтобы по вытянутым горлышкам сейчас же определить бордоские вина.
Он осторожно взял одну из них, поднес к глазам, подсветил сзади свечой и признал белое вино.
— Прекрасно! В самый раз, чтобы выпить натощак! — решил довольный капитан.
Он прихватил еще одну бутылку, так же бесшумно притворил дверь и крадучись поднялся к себе.
— Если вино хорошее, — рассуждал капитан, закрывая за собой дверь спальни и с бесконечными предосторожностями ставя бутылки на стол, — мне будет легче дождаться, когда проснется мой крестник.
Он взял с туалетного столика стакан для полоскания рта, тщательнейшим образом его вытер, чтобы запах туалетной воды Бото не отбил аромат бордо, и, подвинув стул, сел за стол.
— Другой на моем месте, — сказал он, порывшись в кармане широких штанов на казачий манер и вынув оттуда нож с роговой рукояткой, бесчисленными лезвиями и приспособлениями, — растерялся бы, имея перед собой две бутылки и будучи не в силах, за неимением штопора, их испробовать, подобно античному Танталу. Но мы, старые морские волки, — с усмешкой продолжал капитан, — ни перед чем не спасуем, ведь мы привыкли быть во всеоружии.
С этими словами он осторожно и почтительно потянул на себя огромную пробку, потом поднес горлышко бутылки к носу и радостно воскликнул:
— Ах, черт возьми! Вот это аромат, клянусь честью! Ну, если его пенье под стать оперенью, нам предстоит очаровательная беседа!
Он налил полстакана вина и снова понюхал, прежде чем поднести к губам.
— Букет просто восхитительный! — пробормотал он, смакуя вино.
Поставив стакан на стол, он прибавил:
— Прекрасное начало!.. Да… Если красное вино похоже на белое, мне, действительно, не придется краснеть за племянника. Как только он проснется, поручу ему запасти для меня несколько корзин этого чудесного вина — я буду попивать его перед сном и просыпаясь: раз белое вино пьют с утра, чтобы заморить червячка, почему не выпить и вечером, чтобы окончательно разделаться с этим червячком?
Меньше чем за час капитан незаметно прикончил обе бутылки бордоского, останавливаясь лишь для того, чтобы изречь мудрое замечание по поводу особенно полюбившегося ему белого вина.
Этот монолог, а также это «монопитие» — да простится нам такое словотворчество для выражения действия человека, пьющего в одиночку, — помогли капитану скоротать время.
В шесть часов он почувствовал беспокойство и вновь зашагал по комнате.
Он взглянул на часы.
Они показывали половину седьмого.
В этот момент на колокольне Валь-де-Грас пробило шесть ударов.
Капитан покачал головой.
— Сейчас половина седьмого, — заметил он, — должно быть, на Валь-де-Грас часы отстают.
И философски прибавил:
— Да и чего можно ожидать от больничных часов?
Он подождал еще несколько минут.
— Крестник говорил, что хочет встать пораньше. Пойти к нему в спальню — значит поступить сообразно его намерениям. Я, несомненно, нарушу его золотой сон, но что делать?!
Насвистывая, он поднялся во второй этаж.
Ключ торчал и в двери, ведущей в мастерскую, и в той, что вела в спальню.
— Ого! Ах ты, молодость, беззаботная молодость! — нос клик пул капитан, видя такое равнодушие Петруса к собственной безопасности.
Он бесшумно открыл дверь в мастерскую и просунул голову в образовавшуюся щель.
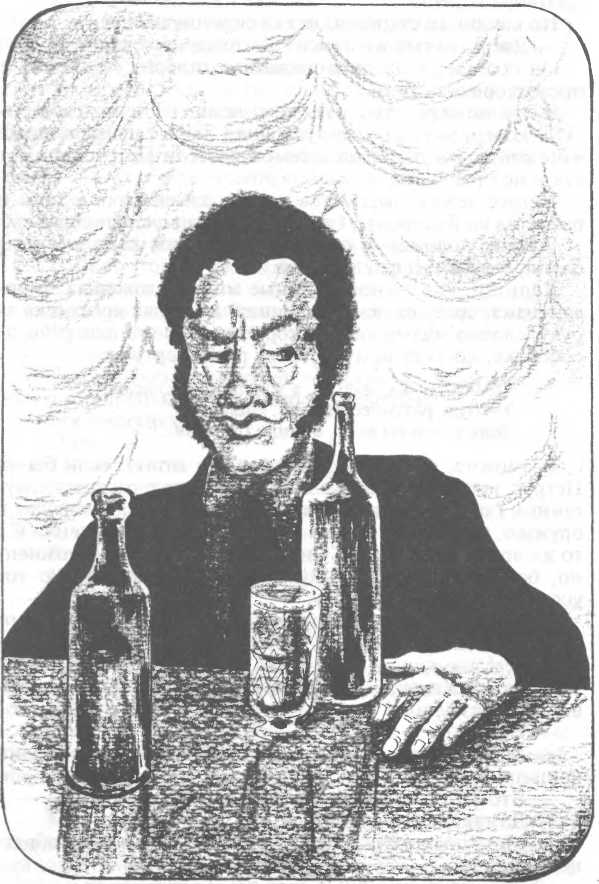
В мастерской никого не было.
Капитан с шумом выдохнул воздух и как можно тише притворил дверь.
Но как он ни старался, петли скрипнули.
— Дверь-то смазки просит! — прошептал капитан.
Он подошел к двери в спальню и отворил ее с теми же предосторожностями.
Дверь не скрипела, а на полу лежал отличный смирнский ковер, мягкий и заглушавший любые шаги; «старый морской волк» подошел к самой постели Петруса, но тот так и не проснулся.
Петрус лежал, выпростав из-под одеяла руки и ноги и разметав их в стороны, словно пытался во сне подняться.
В таком положении он был очень похож на мальчика из басни, спящего подле колодца.
Капитан, чья ученость в иные минуты доходила до педантизма, сразу овладел ситуацией и потряс крестника за руку, словно мальчика, о котором только что шла речь, за собой же, по-видимому, оставив роль Фортуны:
Послушай-ка, малыш, я жизнь твою спасаю,
Но будь разумнее отныне, умоляю!
Ведь упади ты вниз, винили бы меня…
Возможно, капитан продолжал бы цитату, если бы не Петрус: внезапно проснувшись, он широко раскрыл испуганные глаза и, увидев перед собой капитана, потянулся к оружию, висевшему у него в изголовье для украшения и в то же время для защиты. Он выхватил ятаган и, несомненно, без всяких объяснений поразил бы моряка, но тот успел перехватить его руку.
— Потише, мальчик, потише, как сказал господин Корнель. Вот дьявол! Похоже, тебе привиделся кошмар, признавайся!
— Ах, крестный! — вскричал Петрус. — Как я рад, что вы меня разбудили!
— Правда?
— Да, вы правы, мне снился страшный сон, настоящий кошмар!
— Что же ты видел во сне, мой мальчик?
— Да так, всякую чушь!
— Могу поспорить, тебе привиделось, что я уехал обратно в Индию.
— Нет, если бы так, я был бы, напротив, только доволен.
— Что?! Доволен? Знаешь, не очень-то ты любезен.
— Ах, если бы вы только знали, что я видел во сне! — продолжал Петрус, вытирая со лба пот.
— Рассказывай, пока будешь одеваться, это меня позабавит, — предложил капитан с добродушным видом, который он так хорошо умел принимать в нужных случаях.
— Нет, нет, все это слишком нелепо!
— Уж не думаешь ли ты, мальчик мой, что мы, старые морские волки, не доросли до того, чтобы понимать некоторые вещи?
— Ай! — едва слышно обронил Петрус поморщившись. — Опять этот чертов «морской волк»!
Вслух он прибавил:
— Вы непременно этого хотите?
— Конечно, хочу, раз прошу тебя об этом.
— Ну, как угодно, хотя я бы предпочел никому об этом не рассказывать.
— Я уверен, тебе приснилось, что я питаюсь человечиной, — рассмеялся моряк.
— Лучше бы уж так…
— Тысяча морских чертей! — вскричал капитан. — И такого хорошенького сна было бы довольно!
— Все гораздо хуже.
— Поди ты!
— Так вот: когда вы меня разбудили…
— Когда я тебя разбудил?..
— Мне снилось, что вы меня убиваете.
— Я — тебя?
— Вот именно.
— Слово чести?
— Клянусь!
— Считай, что тебе необычайно повезло, дружище.
— Почему?
— Как говорят индийцы, снится покойник — это к деньгам, а уж они-то разбираются и в смерти и в золоте. Тебе поистине везет, Петрус.
— Правда?
— Мне тоже приснился однажды такой сон, мой мальчик; а на следующий день знаешь, что случилось?
— Нет.
— Мне приснилось, что меня убивает твой отец, — видишь, что такое сны! — а на следующий день мы с ним захватили в плен «Святой Себастьян», португальское судно, которое шло из Суматры набитое рупиями. Твоему отцу досталось тогда шестьсот тысяч ливров, а мне — сто тысяч экю. Вот что бывает в трех случаях из четырех, дружище, когда повезет увидеть во сне, что тебя убивают.
V
ПЕТРУС И ЕГО ГОСТИ
Петрус встал и, прежде чем начать одеваться, позвонил.
Вошел лакей.
— Вели запрягать, — приказал Петрус, — сегодня я выезжаю до завтрака.
Потом молодой человек занялся туалетом.
В восемь часов лакей доложил, что карета готова.
— Будьте как дома, — сказал Петрус капитану, — спальня, мастерская, будуар к вашим услугам.
— Ого, мой мальчик! Даже мастерская? — удивился капитан.
— Мастерская — в первую очередь. Полюбуетесь там сундуками, японскими вазами и картинами, которые вы спасли.
— В таком случае прошу твоего разрешения бывать в мастерской, если это не будет тебе в тягость.
— Вы можете оставаться там, пока… ну, вы сами знаете…
— Да, пока к тебе не придет модель или у тебя не будет сеанса. Договорились!
— Договорились, спасибо. В воскресенье я приступаю к портрету, это займет сеансов двадцать.
— Ого! Какой-нибудь крупный сановник?
— Нет, маленькая девочка.
Потом, напустив на себя безразличный вид, прибавил:
— Младшая дочь маршала де Ламот-Удана.
— О!
— Сестра графини Рапт.
— Не знаю такой. А у тебя здесь есть книги?
— И здесь и внизу. Вчера вечером я видел у вас в руках томик Лафонтена?
— Верно. Лафонтен и Бернарден де Сен-Пьер — мои любимцы.
— Вы найдете там помимо этих авторов еще современные романы и довольно приличную коллекцию путевых заметок.
— Ты говоришь как раз о таких двух видах литературы, которые я терпеть не могу.
— Почему?
— Что касается путешествий, я побывал едва ли не во всех уголках четырех, даже пяти частей света и прихожу в бешенство, когда вижу, какие небылицы нам рассказывают путешественники. А романы, дорогой друг, я глубоко презираю, как и их сочинителей.
— Почему?
— Я довольно наблюдателен и заметил, что никогда воображение не заходит так далеко, как реальная жизнь. Читать выдумки, менее интересные, чем просто и естественно разворачивающиеся на наших глазах события?! Заявляю со всей решительностью, что это занятие не стоит труда и что я не намерен губить свое время на подобные глупости. Философия, дорогой племянник — с удовольствием! Платон, Эпиктет, Сократ — из древних; Мальбранш, Монтень, Декарт, Кант, Спиноза — из новых. Вот мое любимое чтение.
— Дорогой крестный! — рассмеялся Петрус. — Признаюсь, что я много слышал о ваших любимцах, но сам читал лишь Платона, Сократа и Монтеня. Однако у меня есть знакомый книгоиздатель, который покупает пьесы у моего друга Жана Робера, а мне продает «Оды и баллады» Гюго, «Раздумья» Ламартина и «Поэмы» Альфреда де Виньи. Я загляну к нему по дороге и передам, чтобы он прислал вам философские труды. Сам я их больше, чем сейчас, читать не стану, но закажу для них красивые переплеты, чтобы их имена сияли в моей библиотеке, словно звезды в тумане.
— Ступай, мальчик мой! Да передай от меня десять ливров посыльному, чтобы он разрезал страницы. У меня нервы не выдерживают, когда приходится этим заниматься.
Петрус в последний раз пожал крестному Пьеру руку и поспешно вышел из дома.
Крестный Пьер стоял не двигаясь и прислушивался до тех пор, пока до его слуха не донесся стук колес удалявшейся кареты.
Наконец он встал, покачал головой, сунул руки в карманы и перешел, напевая, из спальни в мастерскую.
Там он, как истинный ценитель, долго и тщательно осматривал каждую вещь.
Он отпер все ящики старинного секретера в стиле Людовика XV и проверил, нет ли в них двойного дна.
Комод розового дерева подвергся столь же тщательному осмотру. Похоже, капитан был особенно ловок в такого рода делах. Он надавил на комод или, вернее, потрогал его каким-то особым образом снизу, и вдруг сам собою выдвинулся невидимый ящичек. По всей видимости, ни торговец, продавший комод Петрусу, ни сам молодой человек не подозревали о существовании этого потайного ящичка.
В нем хранились бумаги и письма.
Бумаги представляли собой свернутые в трубку ассигнаты.
Всего их оказалось на сумму примерно в полмиллиона франков: весили они около полутора фунтов и стоили четыре су.
Письма были политической корреспонденцией и были датированы 1793–1798 годами.
Вероятно, капитан с презрением относился к бумагам и письмам периода Революции. Убедившись в том, что перед ним именно такие бумаги и письма, он с ловкостью толкнул ногой ящик, и тот захлопнулся, чтобы снова показать свое содержимое не раньше, чем лет через пятнадцать или тридцать, как это случилось только что.
Но особое внимание капитан уделил сундуку, в котором Петрус держал письма Регины.
Как мы уже говорили, письма эти хранились в небольшом металлическом ларце прекрасной работы времен Людовика XIII.
Этот ларец был вделан в сундук и не вынимался — хорошая мера предосторожности на тот случай, если бы какого-нибудь любителя соблазнил этот образец слесарного искусства.
Капитан, без сомнения, был ценителем такого рода редких вещиц. Он попытался вынуть ларец — наверняка, чтобы поднести его к свету, — но скоро убедился в том, что тот не вынимается, и осмотрел различные его части, а особенно тщательно — замок.
Сундук занимал капитана до тех пор, пока он не услышал, что карета Петруса остановилась перед домом.
Капитан поспешно захлопнул сундук, схватил первую попавшуюся книгу и бросился на козетку.
Петрус вошел в прекрасном расположении духа: он только что частично уплатил долг своим поставщикам и каждый из них был доволен тем, что господин барон Эрбель потрудился лично привезти ему деньги, за которыми кредитор и сам был готов явиться к нему, да в его слове, кстати сказать, никто и не сомневался.
Кто-то из них заикнулся о предстоящей распродаже, но Петрус, слегка покраснев, отвечал, что это ошибка: ему вздумалось было обновить мебель, но при мысли, что для этого придется расстаться с вещами, ставшими для него чем-то вроде старых друзей, он передумал и раскаялся в своем намерении.
Собеседник восхитился добрым сердцем господина барона и предложил свои услуги на случай, если тот все-таки передумает и откажется от намерения оставить себе прежнюю обстановку.
Петрус привез обратно около трех тысяч франков и получил новый кредит на четыре-пять месяцев.
Ну, уж за четыре-пять месяцев он заработает сорок тысяч франков!
Восхитительное всемогущество денег!
Благодаря пачке банкнот, которую видели у Петруса в руках, он мог теперь накупить мебели тысяч на сто и получить кредит хоть на три года! А с пустыми руками он не сумел бы добиться и двухнедельной отсрочки на оплату мебели, которую уже купил.
Молодой человек протянул капитану обе руки; его сердце было переполнено радостью, и последние сомнения улеглись.
Капитан, казалось, с трудом оторвался от книги и на восторженные слова крестника только и сказал:
— В котором часу ты завтракаешь?
— Да когда пожелаете, дорогой крестный, — отвечал тот.
— Тогда идем завтракать! — предложил Пьер Берто.
Но прежде Петрус хотел кое-что узнать.
Он позвонил.
Вошел Жан.
Петрус обменялся с ним многозначительным взглядом.
Жан утвердительно кивнул.
— Ну, так что же? — спросил Петрус.
Лакей указал глазами на моряка.
— Давай, давай! — поторопил его Петрус.
Жан подошел к хозяину и из небольшого бумажника русской кожи, будто специально предназначенного для такого дела, достал небольшое кокетливо сложенное письмо.
Петрус выхватил его у лакея, распечатал и пробежал глазами.
Потом вынул из кармана бумажник, взял оттуда письмо, полученное, очевидно, накануне, заменив его только что прочитанным. Петрус подошел к сундуку, отпер небольшим ключиком, который он носил на шее, железный ларец и положил туда письмо, украдкой поцеловав его на прощание.
Затем снова тщательно запер ларец, обернулся к капитану, пристально следившему за ним, и сказал:
— Теперь, если хотите, можно и позавтракать, крестный…
— Еще бы не хотеть! Уже десять часов!
— В таком случае, карета внизу, и теперь я приглашаю вас на студенческий завтрак в кафе Одеон.
— К Рибеку? — уточнил моряк.
— A-а! Вы его знаете?
— Дорогой мой! — проговорил моряк. — Рестораны и философы — вот что я изучил досконально и докажу это, сделав на сей раз заказ самостоятельно.
Крестник и крестный сели в экипаж и скоро вышли у кафе Рибека.
Моряк без колебаний взошел по лестнице во второй этаж и, отодвигая карту, которую протянул ему лакей, приказал:
— Двенадцать дюжин устриц, два бифштекса с картофелем, два тюрбо в масле, груши, виноград и шоколад без молока.
— Вы правы, крестный, — признал Петрус. — Вы великий философ и настоящий гурман.
Капитан отозвался с присущим ему хладнокровием:
— Лучший сотерн к устрицам, лучший бон к остальным блюдам.
— По бутылке каждого?
— Это будет зависеть от их марки.
Тем временем привратник Петруса отсылал назад многочисленных ценителей искусства, совершенно сбитых с толку: он говорил им, что его хозяин передумал и распродажа не состоится.
VI
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОИЗВЕЛ КАПИТАН НА ТРОИХ ДРУЗЕЙ
После завтрака капитан послал лакея за наемным экипажем, и Петрус спросил:
— Разве мы не возвращаемся вместе?
— Я же собирался купить особняк! — напомнил капитан.
— Верно, — кивнул Петрус. — Не желаете ли, чтобы я вам помог в поисках?
— У меня свои дела, у тебя — твои: вот, хотя бы, ответить на записочку, которую ты получил сегодня утром. А я, кстати, с причудами. Я даже не уверен, что особняк, построенный по моему плану, будет по-прежнему мне нравиться неделю спустя. Суди сам, что может статься с особняком, купленным на чужой вкус… Я даже не стал бы там распаковывать чемоданы.
Петрус уже начинал привыкать к крестному и понимал: чтобы оставаться с ним в приятельских отношениях, необходимо было предоставить ему полную свободу.
И он ответил:
— Поезжайте, крестный! Вы знаете, что в любое время вы желанный гость.
Капитан кивнул, что означало «Черт побери!», и прыгнул в экипаж.
Петрус вернулся к себе; на душе у него было легко как никогда.
По пути он встретил Людовика и по его расстроенному лицу понял, что случилось несчастье.
Людовик сообщил ему об исчезновении Рождественской Розы.
Выразив молодому доктору свое сочувствие, Петрус задал естественный вопрос:
— Ты видел Сальватора?
— Да, — подтвердил Людовик.
— И что?
— Я застал его как всегда спокойным и строгим. Он уже знал о случившемся.
— Что он сказал?
— Он сказал следующее: «Я найду Рождественскую Розу, Людовик, но сейчас же отправлю ее в монастырь, где вы сможете ее навещать только как врач или когда решитесь на ней жениться. Вы ее любите?»
— И что ты ответил? — спросил Петрус.
— Правду, друг мой: я люблю эту девочку всей душой! Я к ней привязался, и не как плющ к дубу, а как дуб к плющу. Поэтому я не колебался с ответом. «Сальватор! — сказал я. — Если вы вернете мне Рождественскую Розу, клянусь, как только ей исполнится пятнадцать лет, она станет моей женой». — «Будь она богата или бедна?» — прибавил Сальватор. Я запнулся. Меня смущало не слово «бедная», а слово «богатая». «Что значит „богата или бедна“»? — переспросил я. «Именно так, богата или бедна, — продолжал настаивать Сальватор. — Вы же знаете, что Рождественская Роза — потерянный ребенок или найденыш. Вам известно, что в прежней жизни она знала Ролана, а он пес аристократический. Вполне возможно, что Рождественская Роза однажды вспомнит, кто она такая, и может с одинаковой вероятностью оказаться как богатой, так и бедной. Готовы ли вы с закрытыми глазами жениться на ней?» — «А не воспротивятся ли нашему браку родители Рождественской Розы, если предположить, что они отыщутся?» — «Людовик! — сказал Сальватор. — Это мое дело. Возьмете ли вы в жены Рождественскую Розу богатой или бедной — такой, какой она будет в пятнадцать лет?» Я протянул Сальватору руку, и вот уж я обручен, дорогой мой. Но Бог знает, где теперь несчастная девочка!
— А где сам Сальватор?
— Не знаю. Покинул Париж, так я думаю. Он попросил меня неделю на поиски и назначил мне свидание у него дома на улице Макон в следующий четверг. А ты что поделываешь? Что произошло? Похоже, твои намерения изменились?
Петрус с воодушевлением рассказал Людовику во всех подробностях о том, что произошло накануне. Но тот, скептичный, как всякий врач, не поверил другу на слово и ждал доказательств.
Петрус показал ему два банковских билета из тех десяти, что он получил от капитана.
Людовик взял один из двух билетов и пристально осмотрел его с обеих сторон.
— Уж не поддельный ли он, случайно? — спросил Петрус. — Может, подпись Тара ненастоящая?
— Нет, — возразил Людовик. — Хотя мне за всю жизнь довелось увидеть и пощупать не много банковских билетов, этот, как мне кажется, настоящий.
— Так в чем дело?
— Я тебе скажу, дорогой друг, что не очень-то верю в американских дядюшек, а еще меньше — в крестных. Надо бы рассказать обо всем Сальватору.
— Но ты же сам сказал, — с живостью возразил Петрус, — что Сальватор уехал на несколько дней из Парижа и вернется только в следующий четверг!
— Да, верно, — ответил Людовик, — но ты познакомишь нас пока со своим набобом, договорились?
— Черт побери! Не вижу, что может этому помешать, согласился Петрус. — А кто из нас раньше увидится с Жаном Робером?
— Я, — ответил Людовик. — Я иду сейчас к нему на репетицию.
— Расскажи ему про капитана.
— Какого капитана?
— Капитана Пьера Берто Монтобана, моего крестного.
— А ты написал о нем своему отцу?
— О ком?
— О крестном.
— Как ты понимаешь, это первое, что пришло мне на ум. Но Пьер Берто хочет сделать ему сюрприз и умолял не сообщать ему о своем возвращении.
Людовик покачал головой.
— Ты продолжаешь сомневаться? — спросил Петрус.
— Все это представляется мне слишком невероятным.
— Мне тоже вначале так показалось, я и сейчас порой думаю, что все это мне пригрезилось. Ущипни меня, Людовик. Хотя, признаюсь, просыпаться мне страшно!
— Ничего, — успокоил его Людовик, более выдержанный, чем оба его приятеля. — Жаль только, что Сальватора сейчас нет с нами.
— Да, жаль, конечно, — согласился Петрус, положив Людовику руку на плечо, — но знаешь, дорогой мой, трудно себе представить беду страшнее той, на которую я был обречен. Не знаю, куда заведут меня новые обстоятельства, уверен лишь в одном: они помогут мне избежать падения. На дне пропасти меня ждало несчастье. Неужели я сейчас еще быстрее скатываюсь в другую пропасть? Не знаю. Но сейчас я, по крайней мере, качусь с закрытыми глазами и если, очнувшись, окажусь на дне, то хотя бы пережив перед тем надежду и счастье.
— Будь по-твоему! Помнишь, как Жан Робер вечером в последний день масленицы расспрашивал Сальватора о романе? Давай считать. Во-первых, Сальватор и Фрагола —. у обоих неизвестное прошлое, но роман продолжается и по сей день; Жюстен и Мина — роман; Кармелита и Коломбан — роман, правда, суровый и печальный, но роман; Жан Робер и госпожа де Маранд — самый веселый из всех, роман с сапфировыми глазами и розовыми губами, но роман; ты и…
— Людовик!
— Правильно… Роман таинственный, мрачный и в то же время сияющий — но роман, дорогой мой, настоящий роман! Наконец, я и Рождественская Роза — роман, в котором я жених найденной и вновь потерянной девочки, а Сальватор обещает ее отыскать, — чем не роман, дорогой мой! Даже принцесса Ванврская, прекрасная Шант-Лила, и та, верно, плетет свой роман.
— С чего ты взял?
— Я видел ее третьего дня на бульваре в коляске, запряженной четверкой лошадей; ими управляли на манер Домона два жокея в белых коротких штанах и бархатных куртках вишневого цвета. Я не сразу ее узнал, как ты понимаешь, и сначала решил, что обознался — очень уж велико было сходство. Но она помахала мне рукой, затянутой в перчатку от Прива или Буавена и сжимавшей трехсотфранковый платочек… это роман, Петрус, роман! Теперь скажи, какие из этих романов будут иметь счастливый или несчастливый конец? Бог знает! Прощай, Петрус. Мне пора на репетицию к Жану Роберу.
— Приезжайте ко мне вдвоем.
— Я постараюсь его привезти. А почему бы тебе не отправиться вместе со мной?
— Не могу! Мне нужно привести в порядок мастерскую. В воскресенье у меня сеанс.
— Значит, в воскресенье?..
— В воскресенье мои двери закрыты для всех, дорогой друг, от двенадцати до четырех пополудни. В остальное время дверь, сердце, рука — все открыто для всех.
Молодые люди еще раз простились и расстались.
Петрус стал приводить в порядок мастерскую.
Принять Регину — что могло быть важнее?
Она была у него всего однажды в сопровождении маркизы де Латурнель.
Правда, тот единственный раз решил судьбу Петруса.
Спустя час в мастерской все было готово.
Петрус не только поставил холст на мольберт, но и набросал портрет.
Пчелка сидела под банановым деревом против веерной пальмы среди тропической растительности оранжереи, так хорошо знакомой Петрусу, на зеленой травке и плела венок из необыкновенных цветов, какие дети собирают во сне, а наполовину скрытая в листьях мимозы голубая птичка развлекала ее своим пением.
Петрус так увлекся, что если бы взялся сейчас за палитру, то через неделю портрет был бы готов.
Но он понял, что торопиться нельзя, иначе счастье слишком быстро кончится, и все стер.
Потом он сел напротив белого полотна и представил себе уже законченный портрет, как бывает с поэтом, когда, не написав еще ни строчки, он видит всю свою драму от первой до последней сцены.
Это по праву можно назвать так: мираж таланта.
Капитан вернулся лишь в восемь часов вечера.
Он объехал все новые кварталы, подыскивая подходящий дом, и перечитал все объявления, но так ничего и не нашел.
Он намеревался продолжить поиски на следующий день.
С этой минуты капитан Монтобан расположился у крестника как у себя дома.
Петрус представил его Людовику и Жану Роберу.
Трое друзей провели в обществе капитана субботний вечер и сговорились непременно встречаться всем вместе раз в неделю по вечерам, пока капитан будет жить у крестника.
Что касается встреч в дневное время, то об этом не могло быть и речи.
Капитан исчезал с утра сразу после завтрака, а то и на рассвете под тем предлогом, что подыскивает квартиру или, вернее, дом.
Куда он ходил?
Бог или черт об этом, разумеется, знали, а Петрус даже не догадывался.
Впрочем, один или два раза он попытался выяснить это, расспрашивая крестного.
Но тот словно лишился дара речи, ограничившись таким ответом:
— Не спрашивай, мальчик мой, я не могу тебе сказать: это тайна. Однако можешь не сомневаться, здесь замешана любовь. Не волнуйся, если вдруг я исчезну на несколько дней кряду. Я могу не появляться день, ночь, несколько дней или несколько ночей. Как все старые морские волки, я остаюсь там, где мне хорошо. «Человек ищет где лучше», как гласит пословица. Я всего лишь хочу сказать, что если случайно окажусь в один из ближайших вечеров у какой-нибудь знакомой и мне там будет хорошо, то вернусь не раньше следующего утра.
— Отлично вас понимаю, — ответил на это Петрус. — Спасибо, что предупредили.
— Договорились, мальчик мой. Мы не будем друг другу в тягость. Но, напротив, вполне возможно, что я проведу дома несколько дней подряд. Мне иногда нужно собраться с мыслями и подумать. С твоей стороны было бы очень любезно передать мне с лакеем несколько книг по стратегии, если у тебя такие есть, или хотя бы по истории и философии, присовокупив к ним дюжину бутылок твоего белого бордоского.
— Все это будет у вас через час.
После того как все условия были обсуждены, дело пошло без затруднений.
Однако в мнении о капитане трое молодых друзей не сошлись.
Людовику он был глубоко неприятен, возможно, потому, что, будучи приверженцем системы Галля и Лафатера, молодой врач не обнаружил в чертах его лица и лобных буграх прямой связи с тем, что он говорил. А может быть душа доктора была переполнена чистыми чувствами, и разговор капитана, бывалого грубого моряка, заставлял его спускаться с небес на землю. Словом, он с первой же встречи с трудом выносил нового знакомого.
Жан Робер, предававшийся всякого рода фантазиям, страстный любитель всего живописного, заявил, что характер капитана не лишен своеобразия; поэт не воспылал к новому знакомому любовью, но относился к нему с некоторой долей интереса.
Петрус же был ему слишком многим обязан и не любить его не мог.
Читатели согласятся, что с его стороны было бы нелепо разбирать по косточкам, как это делал Людовик, человека, единственным желанием которого было облагодетельствовать крестника.
Отметим, однако, что некоторые любимые выражения капитана, особенно о морском волке, оскорбляли его слух.
В целом, как видит читатель, капитан не вызывал у молодых людей безусловной симпатии, и даже Жану Роберу и Петрусу, расположенным к нему всей душой, оказалось не под силу по-настоящему подружиться с таким необыкновенным, сложным человеком, как капитан Пьер Берто Монтобан, который, казалось, был таким простодушным, всем восхищался, все любил и искренне отдавался первым впечатлениям.
Однако по некоторым случайно вырывавшимся у него словам можно было судить о том, что человек он пресыщенный: ничего не любит и ни во что не верит. Временами жизнерадостный, он в иные минуты вдруг напоминал распорядителя на похоронах. Он весь как бы состоял из самых разнородных элементов, представляя собой необъяснимую смесь самых блестящих качеств и гнусных пороков, благороднейших чувств и низменнейших страстей; в чем-то он проявлял себя знатоком, как мы говорили, вплоть до педантизма, а в других вопросах демонстрировал крайнее невежество. Он прекрасно рассуждал о живописи, но не умел нарисовать даже ухо; великолепно говорил о музыке, хотя не знал ни единой ноты. Однажды утром он попросил, чтобы вечером ему прочли «Гвельфов и гибеллинов», и после чтения указал Жару Роберу на главный недостаток драмы; замечание его было настолько верно и точно, что тот спросил:
— Уж не с собратом ли по перу я имею честь говорить?
— Самое большее — с жаждущим им стать, — скромно ответил капитан, — хотя я мог бы претендовать на свою долю в авторстве нескольких трагедий, поставленных в конце прошлого века; например, трагедия «Женевьева Брабантская», впервые поставленная в, театре Одеон четырнадцатого брюмера шестого года Республики, написана мной в соавторстве с гражданином Сесилем.
Так прошла неделя. Капитана сводили во все театры Парижа, пригласили на прогулку в Булонский лес, где он показал себя умелым наездником, придумывали для него всевозможные развлечения, и капитан, тронутый до слез, намекнул Петрусу, что в ближайшее время двое его друзей получат кое-что в знак его признательности и дружбы.
VII
ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ
В воскресенье, когда должен был состояться первый сеанс с маленькой Пчелкой, Петрус был в мастерской в восемь часов утра, хотя посетительницы ожидались к полудню.
В десять часов он послал спросить у капитана, не хочет ли тот с ним позавтракать.
Но Жан с таинственным видом доложил, что капитан не возвращался со вчерашнего вечера.
Петрус принял это сообщение с облегчением.
Он боялся встречи Регины с капитаном.
Если такие натуры, как Людовик, Жан Робер и он сам, испытывали порой неприязнь к этому человеку, то как его восприняла бы аристократка Регина?
Теперь, казалось ему, он скорее признался бы в том, что разорен и вынужден продать свои вещи, чем рассказал бы о том, что может унаследовать четыре миллиона от крестного.
И он приказал Жану: если этот самый крестный вернется, когда Регина еще будет находиться в мастерской, сказать капитану, что у Петруса сеанс.
Приняв эти меры предосторожности, он начал завтрак, не сводя взгляда с часов.
В одиннадцать часов он как можно медленнее стал готовить палитру.
В половине двенадцатого стал набрасывать мелком композицию на полотне.
В полдень у дома остановилась карета.
Петрус отложил палитру на стул и выбежал на площадку лестницы.
С первого же дня ему сопутствовала удача.
Пчелка приехала в сопровождении одной Регины.
Как мы уже говорили, Регина решила начать сеансы в воскресенье.
Маркиза де Латурнель сочла невозможным пропустить мессу с певчими в своей приходской церкви Сен-Жермен-де-Пре.
Так что на этот раз Регина сопровождала Пчелку одна.
А Пчелка радостно бросилась навстречу своему другу Петрусу.
Она так давно его не видела!
Регина подала художнику руку.
Петрус взял ее руку, и, отогнув губами край перчатки, с нежностью припал к ней, в то же время шепча едва слышно слова любви, переполнявшие его душу.
Потом он показал гостьям свои приготовления.
Регина полностью одобрила композицию.
Пчелка была очарована цветами, которые она должна была держать в руках.
Накануне Петрус скупил редкие цветы, опустошив оранжереи Люксембургского дворца и Ботанического сада.
Сеанс начался.
Работа над портретом Регины была радостью.
Работа над портретом Пчелки пьянила его!
Тогда Регина была моделью.
Теперь она выступала в роли советчицы.
На этом основании она могла подходить к Петрусу, касаться его плеча, исчезать вместе с ним за полотном.
В эти короткие, но яркие, словно вспышки молнии, мгновения девушка касалась своими волосами лица Петруса; ее глаза говорили ему о чудесном мире любви; а ласковое дыхание ее губ, которое смогло бы вернуть жизнь даже умирающему Петрусу, сейчас возносило его до небес.
После того как Регина высказывала ему свой совет, Петрус вновь принимался за работу; рука его дрожала, он не сводил глаз с Регины.
Да и зачем ему было смотреть на Пчелку? Он мог бы нарисовать ее с закрытыми глазами.
Кроме того, надо было что-то говорить, не потому что влюбленные испытывали в этом необходимость: они могли бы хоть целую вечность смотреть друг на друга и улыбаться, их взгляды и улыбки были красноречивее слов.
Однако говорить надо было.
Петрус стал рассказывать об исчезновении Рождественской Розы, отчаянии Людовика, обещании Сальватора отыскать девочку, а также о странной клятве Людовика жениться на ней даже в том случае, если она окажется богата!
Регина рассказала, что Кармелиту прослушал в их особняке г-н Состен де Ларошфуко; она имела огромный успех и получила дебют в Опере.
Потом Петрус спросил, что нового у г-жи де Маранд.
Та по-прежнему была самой счастливой женщиной на земле.
Правда, г-н де Маранд пускался на всякого рода безумства ради новой любовницы, но в то же время с огромным почтением обходился с супругой, предоставляя ей полную свободу действий, и в данных обстоятельствах г-жа де Маранд могла ему быть только глубоко признательна.
Денежные и политические дела банкира шли прекрасно: он собирался в Лондон, чтобы договориться для Испании о займе в шестьдесят миллионов, и было очевидно, что при первом же повороте короля к либерализму г-н Маранд будет назначен министром.
Потом Регина спросила, что нового у Фраголы.
Сама она редко видела девушку; как ягода, чье имя носила Фрагола, прячется в траве, так и девушка прятала от всех свое счастье. Чтобы с ней повидаться, Регине приходилось ездить к ней домой. Зато возвращалась она неизменно со спокойной душой и улыбкой на лице, словно ундина, увидевшая свое отражение в озере, или ангел, увидевший свое отражение на небе.
Петрус через Сальватора знал об этих встречах.
Ничего удивительного не было и в том, что теперь Регина справлялась о Фраголе у Петруса.
Читатели понимают, как скоро за этими занятиями летело время.
Еще бы: писать восхитительное лицо девочки, любоваться прекрасным женским лицом, обмениваться с девочкой улыбками, а с молодой женщиной — взглядами, словами, чуть ли не поцелуями!
Бой часов привлек внимание Регины.
— Четыре! — вскричала она.
Молодые люди переглянулись.
Им казалось, что они пробыли рядом едва ли больше четверти часа.
Пора было расставаться.
Но через день был снова назначен сеанс, а уже на следующий вечер, то есть с понедельника на вторник, Регина надеялась увидеться с Петрусом в оранжерее на бульваре Инвалидов.
Регина вышла вместе с Пчелкой.
Свесившись с перил, Петрус провожал их взглядом до тех пор, пока они не исчезли за входной дверью.
Потом он подбежал к окну, чтобы еще раз увидеть их, перед тем как они сядут в карету.
Он не сводил с кареты глаз, пока она не скрылась за поворотом.
Потом Петрус запер дверь и затворил окно мастерской, словно боялся, как бы не улетучился аромат, оставленный обворожительными посетительницами.
Он погладил предметы, которых успела коснуться Регина, и, наткнувшись на ее батистовый платок с брюссельскими кружевами, который она то ли случайно, то ли нарочно оставила в мастерской, схватил его обеими руками и спрятал в него лицо, вдыхая аромат ее духов.
Он с головой ушел в сладкие грезы, как вдруг в мастерскую, шумно радуясь, ворвался капитан.
На улице Новых Афин он нашел, наконец, подходящий дом.
На следующий день или, может быть, через день капитан должен был подписать купчую у нотариуса, а на будущей неделе обещал устроить новоселье.
Петрус искренне поздравил капитана.
— Ах, крестник! Похоже, ты рад моему переезду? — заметил моряк.
— Я? Напротив! — возразил Петрус. — В доказательство предлагаю вам оставить за собой квартиру в моем доме в качестве загородной резиденции.
— По правде сказать, не откажусь! — воскликнул капитан. — Но при одном условии: я сам буду платить за эту квартиру и о цене тоже договорюсь сам.
Предложение было принято.
Трое друзей собирались вместе поужинать.
Жан Робер и Людовик пришли в пять часов.
Людовик был печален: о Рождественской Розе не было никаких новостей. Сальватор появлялся дома редко, на несколько минут, чтобы успокоить Фраголу; она ждала его лишь завтра к вечеру или даже послезавтра.
Чтобы развлечь Людовика, в котором капитан, казалось, принимал живейшее участие, решено было поужинать у Легриеля в Сен-Клу.
Людовик и Петрус поедут туда в двухместной карете, а Жан Робер и капитан — верхом.
В шесть часов они отправились в путь. Без четверти семь четверо посетителей заняли отдельный кабинет в заведении Легриеля.
В ресторане собралось много народу. В кабинете, соседнем с тем, где устроились наши герои, было особенно шумно: оттуда доносились громкая речь и веселый смех.
Сначала четверо приятелей не обращали на это внимания.
Они были голодны, и звон посуды почти заглушал голоса и смех.
Но вскоре Людовик стал внимательно прислушиваться.
Ведь он и в самом деле был самым невеселым среди своих товарищей.
Он улыбнулся через силу.
— Я узнаю голос, вернее, оба голоса! — сказал он.
— Уж не принадлежит ли один из них пленительной Рождественской Розе? — поинтересовался капитан.
— К сожалению, нет, — вздохнул Людовик. — Этот голос веселее, но не такой чистый.
— Кто же это? — спросил Петрус.
Взрыв хохота, подобный бурно сыгранной гамме, ворвался в кабинет наших героев.
Правда, стенки между кабинетами представляли собой не что иное, как затянутые холстом и оклеенные обоями ширмы, которые убирают в дни больших празднеств.
— Во всяком случае, смех искренний, в этом я уверен, — вставил Жан Робер.
— Ты вполне можешь за это поручиться, дорогой друг, потому что женщины, сидящие в соседнем кабинете, — это принцесса Ванврская и графиня дю Баттуар.
— Шант-Лила? — в один голос подхватили Жан Робер и Петрус.
— Шант-Лила собственной персоной. Да вы послушайте!
— Господа! — смутился Жан Робер. — Разве прилично подслушивать, что происходит в соседней комнате?
— Черт побери! — вскричал Петрус. — Раз там говорят достаточно громко, чтобы мы услышали, значит, у тех, кто говорит, секретов нет.
— Справедливо, крестник, — одобрил Пьер Берто, — у меня на этот счет существует теория, в точности совпадающая с твоей. Однако помимо двух женских голосов мне почудился еще мужской.
— Как известно, дорогой капитан, — сказал Жан Робер, — у каждого голоса есть эхо. Но, как правило, женскому голосу эхом вторит мужской, а мужскому — женский.
— Раз ты такой мастер распознавать голоса, может, ты знаешь, кто этот мужчина? — спросил Петрус у Людовика.
— Кажется, я смогу так же безошибочно определить кавалера, как и дам, да и у вас, если вы хорошенько прислушаетесь, не останется на этот счет сомнений, — отозвался Людовик.
Молодые люди насторожились.
«При всем моем почтении, принцесса, позволь тебе все же не поверить», — послышался один голос.
«Клянусь тебе, что это чистая правда, накажи меня Бог!»
«Какая мне разница, правда это или нет, если это совершенно неправдоподобно! Пусть лучше будет ложь, но правдоподобная, и я тебе поверю».
«Спроси лучше у Пакеретты, и сам увидишь».
«Подумаешь, ручательство! Софи Арну отвечает за госпожу Дюбарри! Графиня дю Баттуар отвечает за принцессу Ванврскую! Пакеретта — за Шант-Лила!»
— Слышите? — спросил Людовик.
«Мы по-прежнему любим хлопушки, господин Камилл?» — спросила Шант-Лила.
«Больше, чем когда-либо, принцесса! На сей раз у меня была причина: я устроил целый фейерверк в честь вашего особняка на улице Ла Брюйера, четверки рыжих лошадей с подпалинами, ваших вишневых жокеев, и все это получено даром».
«И не говори! У меня такое впечатление, что он ищет девушек, получивших розовый венок за добродетель, и намерен увенчать так и меня».
«Нет, он тебя приберегает, возможно, для брака».
«Дурак! Он женат!»
«Фи, принцесса! Жить с женатым мужчиной! Это безнравственно».
«А вы-то сами?»
«Ну, я почти и не женат! И потом, я с тобой не живу!»
«Конечно, вы со мной ужинаете, только и всего. Ах, господин Камилл, лучше бы вы женились на бедняжке Кармелите или написали ей вовремя, что больше не любите ее. Она вышла бы замуж за господина Коломбана и сегодня не ходила бы в трауре».
И Шант-Лила тяжело вздохнула.
«Какого черта! Как я мог это предвидеть? — воскликнул легкомысленный креол. — Мужчина ухаживает за женщиной, становится ее любовником, но не обязан же он на ней из-за этого жениться!»
«Чудовище!» — ужаснулась графиня дю Баттуар.
«Я не брал Кармелиту силой, — продолжал молодой человек, — как, впрочем, и тебя, Шант-Лила. Скажи откровенно, разве я взял тебя силой?»
«Ах, господин Камилл, не сравнивайте нас: мадемуазель Кармелита — порядочная девушка».
«А ты — нет?»
«Я просто добрая девушка».
«Да, ты права: добрая, превосходная!
— Да если бы я тогда не упала со своего осла на траву и не лишилась чувств, еще не известно, как все обернулось бы».
«А твой банкир?»
«С моим банкиром вообще ничего не было».
«Опять ты за свое… Знаешь, Соломон сказал, что только три вещи в мире не оставляют следов: птица в воздухе, змея на камне и…»
«Я знаю, — перебила его Шант-Лила, — что при всем вашем уме вы дурак, господин Камилл де Розан, и я гораздо больше люблю своего банкира, хотя он и дал мне сто тысяч франков, чем вас, ничего мне не давшего».
«Как это ничего, неблагодарная?! А мое сердце? Это, по-твоему, ничего не значит?»
«О, ваше сердце! — сказала Шант-Лила и вскочила, оттолкнув стул. — Оно похоже на картонного цыпленка, которого я как-то видела в театре Порт-Сен-Мартен: его подают на всех спектаклях, но никто никогда его не пробовал на вкус. Ну-ка, спросите, готов ли мой экипаж».
Камилл позвонил.
Прибежал лакей.
«Подайте счет, — приказал креол, — и узнайте, готова ли карета госпожи принцессы».
«Экипаж подан».
«Подвезешь меня в Париж, принцесса?»
«Почему же нет?»
«А как же твой банкир?»
«Он предоставляет мне полную свободу; кстати, сейчас он, должно быть, на пути в Англию».
«Может, воспользуешься этим, чтобы показать мне свой особняк на улице Ла Брюйера?»
«С удовольствием».
«Надеюсь, графиня дю Баттуар, что пример подруги подает тебе надежду?» — спросил Камилл.
«Да, как же! — хмыкнула Пакеретта. — Разве найдется во всем свете второй такой Маранд!»
— Как?! — вскричали в один голос Петрус и Людовик. — Так это господин де Маранд совершает безумства ради принцессы Ванврской? Это правда, Жан Робер?
— Честное слово, я не хотел называть его, — рассмеялся тот. — Но раз уж Пакеретта проболталась, мне остается лишь подтвердить, что я слышал о том же от одного весьма осведомленного человека.
В эту минуту принцесса Ванврская в ошеломительном туалете прошла мимо окна под руку с Камиллом де Розаном, Пакеретта следовала за ней: дорога была недостаточно широкой и на ней не могли поместиться обе женщины в пышных юбках.
VIII
КАТАСТРОФА
На следующий вечер в десять часов Петрус устроился в засаде за самым толстым деревом на бульваре Инвалидов неподалеку от садовой калитки особняка, принадлежавшего маршалу де Ламот-Удану. Он надеялся, что Регине удастся сдержать обещание.
В пять минут одиннадцатого калитка неслышно отворилась и появилась старая Нанон.
Петрус проскользнул в липовую аллею.
— Идите, идите! — крикнула кормилица.
— На круглую поляну, верно?.. Ведь она на круглой поляне?
— О, вы не успеете дойти туда, как ее встретите!
И действительно, не успел Петрус углубиться в аллею, как его схватила за руку Регина.
— Как вы добры, как прелестны, милая Регина! Благодарю вас: вы сдержали обещание! Я люблю вас! — воскликнул молодой человек.
— Надеюсь, вы не станете об этом кричать? — остановила его молодая женщина.
Она закрыла ему рот рукой. Петрус горячо припал к ней губами.
— Ах, Боже мой! Да что с вами сегодня такое? — спросила Регина.
— Я без ума от любви, Регина. Только и думаю о том, какое меня ждет счастье: целый месяц открыто видеться с вами через день у себя во время сеансов, а по вечерам — здесь…
— Но не через день.
— …как можно чаще, Регина… Неужели вы решитесь, когда мое счастье окажется в ваших руках, играть им?
— Боже мой! Ваше счастье, друг мой, это мое счастье, — заметила молодая женщина.
— Вы спрашивали, что со мной.
— Да.
— Мне страшно, я трепещу! Я то и дело подходил к калитке и прислушивался…
— Вам не пришлось слишком долго ждать.
— Нет, и я благодарю вас от всей души, Регина!.. Когда я вас ждал, меня охватывала дрожь.
— Бедный друг!
— Я говорил себе: «Застану ее в слезах, в отчаянии, она мне скажет: „Петрус, это невозможно! Я приняла вас сегодня вечером только затем, чтобы сообщить, что не увижу вас завтра!“»
— Однако, друг мой, я не в слезах, не в отчаянии, а весело улыбаюсь. Вместо того чтобы сказать: «Я не увижу вас завтра!» — я говорю вам: «Завтра ровно в полдень, Петрус, буду у вас». Правда, завтра мы приедем не вдвоем с Пчелкой, а еще и с тетей. Но она плохо видит без очков, зато так кокетлива, что надевает их лишь в случае крайней нужды. Время от времени она засыпает и тогда видит еще меньше. Мы будем обмениваться взглядами, касаться друг друга, вы будете слышать шелест моего платья, я склонюсь над вашим плечом, проверяя сходство портрета с оригиналом — не в этом ли радость, счастье, опьянение, Петрус, особенно если сравнивать с нашим страданием, когда мы не можем видеться?
— Не видеться, Регина! Не произносите этого слова! Это моя вечная душевная мука: мне кажется, в любую минуту может случиться так, что я вас больше не увижу.
Регина едва заметно пожала прекрасными плечами.
— Не увидите меня больше! — повторила она. — Да какая сила в мире может помешать мне с вами видеться? Этот человек? Но вы же знаете, что мне нечего его бояться. Вот если бы о нашей любви узнал маршал… Однако кто может ему донести? Никто! А если и донесут, я стану отрицать, я готова солгать, я скажу, что это неправда. А ведь мне было бы непросто заявить, что я вас не люблю, дорогой Петрус, не знаю, хватит ли у меня на это смелости.
— Дорогая Регина! Значит, с посольством все по-старому?
— Да.
— И он уезжает в конце этой недели?
— Сейчас он получает в Тюильри последние указания.
— Хоть бы ничего не изменилось!
— Не изменится. Кажется, решение уже принято на совете министров. О, если бы мне не было так скучно говорить о политике, я передала бы вам разговор моего отца с господином Рангом, что успокоило бы вас окончательно.
— О, расскажите, расскажите, дорогая Регина! С той минуты как политика может влиять на наши встречи, она становится для меня объектом самого пристального изучения, какому только может отдаваться человеческий разум.
— В настоящее время возможна смена кабинета.
— Ах, дьявольщина! Вот чем объясняется отсутствие моего друга Сальватора, — серьезно заметил Петрус. — Он в этом замешан.
— То есть?
— Нет, ничего; продолжайте, дорогая Регина.
— В новый кабинет министров войдут господин де Мартиньяк, господин Порталис, господин де Ко, господин Руа. Портфель министра финансов предложили господину де Маранду, но он отказался. Еще туда войдут господин де Ла Ферроне и, может быть, мой отец… Но отец не хочет входить в смешанный кабинет, в переходный кабинет, как он его называет.
— Ах, Регина, Регина, политика — прекрасная вещь, когда о ней говорите вы!.. Продолжайте, я вас слушаю.
— Господин де Шатобриан, впавший в немилость после того, как написал письмо королю за три дня до известного смотра национальной гвардии, на котором солдаты кричали «Долой министров!», и удалившийся к римским развалинам, получит свои верительные грамоты и станет послом; короче, происходит, как говорят, поворот в политике.
— А вы, дорогая Регина, какое назначение получили?
— Мне поручено охранять особняк на бульваре Инвалидов, в то время как мой отец будет, по-видимому, назначен комендантом дворца, а господин Рапт — чрезвычайным посланником к его величеству Николаю Первому.
— Именно этого я и боюсь: вдруг это посольство не состоится?
— Напротив, оно состоится наверняка: наши политики намерены выйти из союза с англичанами и войти в союз с русскими. Маршал содействует этому всеми силами. Тогда мы получили бы рейнские провинции и возместили бы потери Пруссии за счет Англии… Ну, все понятно?
— Я ошеломлен! Как все это помещается вот в этой прелестной головке, Бог мой! Позвольте мне поцеловать вас в лоб, прекрасная Регина, а то мне кажется, что его уже избороздили морщины.
Регина откинула голову назад, и Петрус мог убедиться, что со вчерашнего дня она не успела постареть на пятьдесят лет.
Петрус поцеловал ее в перламутровый лоб, потом в глаза.
У него вырвалось восклицание, похожее на стон.
Регина отпрянула.
Она почувствовала на своих губах горячее дыхание Петруса.
Петрус бросил на нее умоляющий взгляд, и она сама кинулась ему на шею.
— Значит, в конце недели он уедет и вы будете свободны? — прошептал Петрус.
— Да, милый.
— О, как долго еще до конца недели! Лишь бы только за эти дни, ночи, часы и минуты не случилось несчастья!
И молодой человек, словно подавленный страшным предчувствием, опустился на скамейку, увлекая за собой Регину.
Они нежно прильнули друг к другу, и голова Регины сама собой опустилась Петрусу на плечо.
Девушка хотела было ее поднять, но Петрус взмолился:
— О Регина!
И головка опустилась снова.
Им обоим было так хорошо вдвоем, что они не замечали времени.
Вдруг до их слуха донесся стук колес.
Регина подняла голову и прислушалась.
Кучер крикнул:
— Ворота!
Ворота распахнулись.
Грохот колес приближался.
Карета въезжала во двор.
— Вот они! — сказала Регина. — Я должна встретить отца. До завтра, дорогой Петрус!
— Боже мой! — прошептал Петрус. — Как бы я хотел остаться здесь до завтра!
— Да что с вами такое?
— Не знаю, но чувствую, что несчастье близко.
— Ребенок!
Регина снова подставила Петрусу лоб для поцелуя.
Молодой человек коснулся его губами, и девушка исчезла в темных аллеях, бросив на прощание тому, кого она покидала, два слова в утешение:
— До завтра!
— До завтра! — грустно вымолвил Петрус в ответ, будто эти слова были не любовным обещанием, а угрозой несчастья.
Несколько минут спустя Петрус услышал шаги, его тихо окликнули.
Это была Нанон.
— Калитка открыта, — сообщила она.
— Да, да, спасибо, добрая моя Нанон, — отозвался Петрус, сделав над собой усилие, прежде чем подняться на ноги.
Послав мысленно Регине поцелуй, в который молодой человек вложил душу, сердце, жизнь, он вышел через калитку незамеченным.
Карета ожидала его в сотне шагов.
Вернувшись домой, он спросил лакея, где капитан.
Капитан заходил около десяти часов, расспросил о Петрусе и, узнав, что молодой человек вышел, около часу провел в мастерской.
В половине двенадцатого капитан, не дождавшись Петруса, ушел к себе.
Охваченный смутным беспокойством, Петрус спустился и постучал.
Никто не отвечал.
Петрус поискал ключ. Ключа тоже не было.
Он снова постучал.
То же молчание в ответ.
Капитан либо спал, либо вышел.
Петрус снова поднялся к себе.
Он долго ходил из мастерской в спальню и обратно.
Капитан оставил гореть лампу в мастерской.
На столе лежал открытым томик Мальбранша.
Петрус решил наконец лечь спать.
Он задыхался. Отворив окно, он подышал холодным ночным воздухом.
Ночная свежесть подействовала на него успокаивающе.
Наконец он лег.
Сон долго не приходил, потом Петрус забылся то и дело прерывающейся, лихорадочной, беспокойной дремотой.
Однако к пяти часам усталость победила, Петрус уснул.
В семь часов раздался стук в дверь.
Вошел лакей.
Петрус вскочил.
— Что случилось, Жан? — спросил он.
— Дама под вуалью желает с вами поговорить, — испуганно отвечал тот.
— Дама под вуалью — у меня?
— Дама под вуалью у вас.
— Ты знаешь, кто это? — спросил Петрус.
— Она не представилась, сударь… но…
— Что?
— Мне кажется…
— Что тебе кажется? Договаривай!
— По-моему, это княжна.
— Регина?
— Уверен, что это она!
— Регина! — вскрикнул Петрус.
Он спрыгнул с кровати, поскорее натянул панталоны и накинул халат. Регина здесь! В такой час! Должно быть, случилось несчастье! Его предчувствия оправдываются. Петрус торопливо закончил туалет.
— Просите, — приказал он. — Я буду ждать в мастерской. Слуга сошел вниз.
— Боже мой! Боже мой! — почти потеряв голову от беспокойства, бормотал Петрус. — Я чувствовал: надвигается нечто страшное. Что же могло произойти?
В эту минуту на пороге появилась дама под вуалью. Лакей следовал за ней.
Он не ошибся.
Сквозь вуаль Петрус узнал Регину.
— Ступайте! — приказал он Жану.
Тот вышел и притворил за собой дверь.
— Регина! — вскричал Петрус, бросаясь к едва державшейся на ногах девушке. — Регина! Неужели это вы?!
Гостья подняла вуаль и сказала:
— Это я, Петрус.
Петрус отпрянул при виде застывшего, как мрамор, смертельно бледного лица графини Рапт.
Что же произошло?
Дальше: IX РИМ

