Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 25.Соратники Иегу.
Назад: Часть вторая
Дальше: XXXIX ПЕЩЕРА СЕЙЗЕРИА
XXXV
СВАТОВСТВО
По приезде в Париж Ролан прежде всего отправился к первому консулу. Он привез ему две важные новости: умиротворение в Вандее и разгоревшееся с небывалой силой восстание в Бретани.
Бонапарт хорошо знал Ролана: три его донесения — об убийстве Тома Мильера, о суде над епископом Одреном и о сражении при Гран-Шане — произвели на него глубокое впечатление. Молодой человек представлял события в мрачных красках, обнаружив при этом свое тяжелое душевное состояние.
Ролана был в отчаянии, что упустил еще одну возможность быть убитым.
Ему казалось, будто его охраняет некая неведомая сила, будто он всегда остается цел и невредим там, где другие расплачиваются жизнью; в монастыре, где сэра Джона ожидали двенадцать судей и смертный приговор, ему Ролану, повстречался только призрак, правда неуязвимый, но вполне безобидный.
Ролан с горечью упрекал себя за то, что искал поединка с Жоржем Кадудалем — поединка, который тот предвидел, — вместо того чтобы кинуться в гущу битвы, где мог бы, по крайней мере, убивать или пасть в бою.
Первый консул, слушая рассказ своего адъютанта, с тревогой смотрел на него: он видел, что тот по-прежнему одержим стремлением к смерти, что его не исцелили, как надеялся Бонапарт, ни возвращение на родину, ни свидание с родными.
Говоря о поражении, Ролан брал вину на себя, всячески оправдывая и превознося генерала Гатри; с прямотой и беспристрастием солдата он воздал должное храбрости и благородству роялистского генерала Кадудаля.
Бонапарт слушал его с серьезным, почти печальным лицом; насколько его привлекали войны с внешними врагами, блистательные победы, сияние славы, настолько ему внушала отвращение война междоусобная, когда страна проливает собственную кровь и сама раздирает себя на части.
Он считал, что в таких случаях война должна уступить место переговорам.
Но как вести переговоры с человеком, подобным Кадудалю?
Бонапарт прекрасно знал всю силу своего личного обаяния и, стоило ему захотеть, умел им пользоваться. Он принял решение встретиться с Кадудалем и намеревался, ничего пока не говоря Ролану, в свое время поручить ему устроить это свидание.
До тех пор он хотел выяснить, не будет ли Брюн, чей военный талант он ставил высоко, удачливее своих предшественников.
Сообщив Ролану о приезде его матери, поселившейся в особняке на улице Победы, первый консул отпустил его.
Ролан вскочил в коляску и поспешил туда.
Он застал г-жу де Монтревель дома, гордую и счастливую, как только может быть счастлива женщина и мать.
Эдуара еще накануне приняли во Французский пританей.
Госпожа де Монтревель собиралась покинуть Париж и вернуться домой к Амели, чье здоровье по-прежнему ее тревожило.
Что касается сэра Джона, он был не только вне опасности, но почти совсем здоров. Он находился в Париже, приезжал накануне навестить г-жу де Монтревель, не застал ее, так как она провожала Эдуара в училище, и оставил свою визитную карточку.
На карточке был указан адрес: сэр Джон остановился на улице Ришелье в гостинице "Мирабо".
Часы показывали одиннадцать утра — как раз время завтрака сэра Джона; Ролан был вполне уверен, что застанет его дома. Он вскочил в коляску и велел ехать к гостинице "Мирабо".
Он действительно нашел сэра Джона за обильным завтраком на английский манер, что было редкостью в ту эпоху: лорд ел отбивные котлеты с кровью и пил чай большими чашками.
При виде Ролана сэр Джон с радостным возгласом вскочил из-за стола и бросился навстречу гостю.
Ролан искренне привязался к этому удивительному человеку, в котором за эксцентричными выходками иностранца таилось редкое душевное благородство.
Сэр Джон осунулся и побледнел, однако чувствовал себя прекрасно.
Его рана зарубцевалась, и, за исключением удушья, которое с каждым днем шло на убыль и вскоре должно было пройти, он почти совсем выздоровел.
Он встретил Ролана с такой сердечностью, какую трудно было ожидать от столь сдержанного человека, и заявил, что радость свидания с другом принесет ему полное исцеление.
Прежде всего сэр Джон пригласил Ролана позавтракать вместе, обещая угостить его блюдами французской кухни.
Ролан согласился; однако, подобно всем солдатам суровых войн Революции, когда часто не хватало хлеба, он был нетребовательным гастрономом: привык к любой пище, предвидя трудные дни, когда есть будет нечего.
Поэтому старания сэра Джона угостить его по рецептам французской кухни, пожалуй, остались незамеченными.
Но что не осталось незамеченным для Ролана — это странная озабоченность сэра Джона.
Было ясно, что его друг хотел бы сообщить ему какую-то тайну, но никак не мог решиться.
Ролану подумалось, что надо облегчить ему этот шаг.
Поэтому, когда они закончили завтрак, Ролан, поставив локти на стол и подперев подбородок руками, спросил со свойственной ему откровенностью, доходящей порою чуть ли не до грубости:
— Не правда ли, дорогой милорд, вам хочется что-то сообщить вашему другу Ролану, но у вас не хватает духу?
Сэр Джон вздрогнул и из бледного стал пурпурным.
— Черт подери! — продолжал Ролан. — Я вижу, вам трудно решиться. Но знайте, если вы хотите меня о чем-то попросить, то я едва ли имею право вам отказать. Говорите же, я вас слушаю.
И Ролан закрыл глаза, чтобы как можно внимательнее выслушать сэра Джона.
Но, очевидно, лорду Тенли было не так легко затронуть эту тему, и он продолжал хранить молчание; подождав с минуту, Ролан открыл глаза.
Сэр Джон был бледен как полотно, гораздо бледнее, чем в начале их встречи.
Ролан протянул ему руку.
— Должно быть, — сказал он, — вы хотите мне пожаловаться, что с вами были недостаточно приветливы в замке Черных Ключей?
— Вот именно, мой друг, а ведь от обитателей вашего замка зависит счастье или горе всей моей жизни!
Ролан пристально посмотрел на сэра Джона.
— Ах ты черт! Неужели мне так повезло?..
Он осекся, сообразив, что чуть было не нарушил общепринятых правил.
— О, продолжайте, дорогой Ролан! — воскликнул сэр Джон.
— Вы этого хотите?
— Умоляю вас.
— А вдруг я ошибаюсь? Вдруг скажу глупость?
— Друг мой, друг мой, продолжайте!
— Так вот, милорд, я хотел сказать: неужели мне так повезло, что вы оказали честь моей сестре, полюбив ее?
Сэр Джон радостно вскрикнул и в бурном порыве, какого нельзя было ожидать от столь флегматичного человека, крепко обнял Ролана.
— Ваше сестра просто ангел, дорогой Ролан, и я люблю ее всем сердцем!
— Вы совершенно свободны, милорд?
— Свободен и независим; как я вам уже говорил, я с двенадцати лет владею крупным состоянием, и оно приносит мне двадцать пять тысяч фунтов стерлингов годового дохода.
— Милый мой, это чересчур много для девушки, которая получит в приданое всего каких-нибудь пятьдесят тысяч франков.
— Оу! — воскликнул сэр Джон, у которого в минуты сильного волнения заметно проступал английский акцент. — Если богатство служит препятствием, я откажусь от него.
— Да нет, не стоит! — засмеялся Ролан. — Вы богаты, это большое несчастье, но что поделаешь!.. Вопрос не в этом. Вы любите мою сестру?
— Оу! Я обожаю она!
— Ну, а она? — подхватил Ролан, передразнивая англицизм своего друга. — Моя сестра любит вас?
— Вы сами понимаете, что я ее не спрашивал, — отвечал сэр Джон. — Я был обязан прежде всего обратиться к вам, дорогой Ролан, и в случае успеха просить вас замолвить слово перед вашей матушкой. Только тогда, заручившись согласием вас обоих, я бы сделал предложение или скорее вы бы сделали это за меня, Ролан, — сам я никогда не осмелюсь…
— Значит, я первый услышал ваше признание?
— Это естественно: вы мой лучший друг.
— Так вот, дорогой мой, что касается меня, вы выиграли дело — я согласен.
— Остается уговорить вашу матушку и вашу сестру.
— Это одно и то же. Поверьте, моя мать предоставит Амели полную свободу выбора, и, разумеется, если выбор падет на вас, она будет счастлива. Но есть человек, который может воспротивиться.
— Кто же это? — удивился сэр Джон; он так долго взвешивал все шансы "за" и "против", все предусмотрел и вдруг натолкнулся на совершенно неожиданное препятствие.
— Первый консул! — ответил Ролан.
— God… — вырвалось у лорда, но он тут же спохватился, не закончив английского ругательства.
— Как раз перед моим отъездом в Вандею, — продолжал Ролан, — он говорил со мной о замужестве моей сестры и заявил, что это не касается ни меня, ни матери, что он сам этим займется.
— Если так, я пропал! — ужаснулся сэр Джон.
— Почему?
— Первый консул не любит англичан.
— Скажите лучше, что англичане не любят первого консула.
— Но кто же осмелится сообщить первому консулу о моем предложении?
— Я.
— И вы скажете ему, что вам лично это по душе?
— Вы у меня станете голубем мира между двумя враждующими нациями! — заявил Ролан, поднимаясь с места.
— О, благодарю вас! — воскликнул сэр Джон, горячо пожимая ему руку, и прибавил с огорчением: — Как? Вы меня покидаете?
— Милый друг, меня отпустили на несколько часов. Один час я провел с матушкой, два часа с вами, теперь следует уделить часок вашему любимцу Эдуару… Поеду навестить его и посоветую учителям дать ему волю: пусть себе дерется с товарищами сколько угодно. После этого я вернусь в Люксембургский дворец.
— В таком случае поклонитесь от меня Эдуару и передайте, что я заказал ему пару пистолетов; теперь ему не придется при нападении разбойников брать пистолеты у кондуктора.
Ролан уставился на сэра Джона.
— Это еще что за история? — спросил он.
— Как? Вы ничего не знаете?
— Нет, а что? Что-нибудь случилось?
— Случилось то, что наша бедняжка Амели чуть не умерла от ужаса.
— Что же произошло?
— Нападение на дилижанс.
— Какой дилижанс?
— Тот, в котором ехала ваша мать.
— Дилижанс, где была матушка?
— Да.
— На него напали?
— Вы же видели госпожу де Монтревель; разве она вам ничего не сказала?
— Об этом ни слова.
— Так знайте, мой дружок Эдуар — настоящий герой! Никто из пассажиров не защищался, кроме него. Он схватил пистолеты кондуктора и выстрелил.
— Храбрый мальчишка! — восхитился Ролан.
— Еще бы! Но, к сожалению или к счастью, кондуктор из предосторожности вынул пули. Господа Соратники Негу обласкали Эдуара как храбрейшего из храбрых, но он никого не убил и не ранил.
— Неужели это правда?
— Говорю же вам, что ваша сестра чуть не умерла от страха.
— Ну хорошо же! — пробормотал Ролан.
— Что хорошо? — удивился сэр Джон.
— Ладно… тем более важно поскорее повидать Эдуара.
— Что вы задумали?
— Есть один план.
— Вы сообщите его мне?
— Пожалуй, нет: для вас мои планы плохо кончаются.
— Однако, дорогой Ролан, если представится случай отомстить?
— Я отомщу за нас обоих. Вы влюблены, дорогой милорд, предавайтесь же любовным мечтам.
— Вы обещаете оказать мне поддержку?
— Это решено: я горячо желаю назвать вас братом.
— Вам надоело называть меня другом?
— Да, черт возьми: мне этого мало.
— Благодарю.
После крепкого рукопожатия друзья расстались.
Через четверть часа Ролан приехал во Французский пританей, который находился там, где теперь лицей Людовика Великого, то есть в начале улицы Сен-Жак, позади Сорбонны.
С первых же слов директора училища Ролан понял, что его брат пользуется здесь особым покровительством.
За мальчиком тут же послали.
Эдуар в порыве радости бросился в объятия обожаемого старшего брата.
После первых приветствий Ролан завел разговор о нападении на дилижанс.
Если г-жа де Монтревель вообще умолчала о дорожном происшествии, а лорд Тенли был скуп на подробности, то Эдуар выложил все без утайки.
Нападение на дилижанс было его Илиадой.
Он рассказал Ролану с мельчайшими подробностями о сговоре Жерома с бандитами, о пистолетах, заряженных холостыми зарядами, о внезапном обмороке матери, о том, как заботливо приводили ее в чувство напугавшие ее негодяи, которые почему-то звали Эдуара по имени, наконец, о том, как у одного из них упала маска, так что матушка, вероятно, успела разглядеть лицо этого человека, оказавшего ей помощь.
Это последнее обстоятельство особенно заинтересовало Ролана.
Потом мальчик дал отчет об аудиенции у первого консула: как тот его обнял, расхвалил, обласкал и, наконец, направил с особой рекомендацией во Французский пританей. Ролан узнал от брата все, что хотел знать, и, так как от улицы Сен-Жак до Люксембургского дворца было рукой подать, через пять минут явился во дворец.
XXXVI
СКУЛЬПТУРА И ЖИВОПИСЬ
Когда Ролан возвратился в Люксембургский дворец, стенные часы показывали четверть второго пополудни.
Первый консул работал с Бурьенном.
Если бы мы писали обыкновенный роман, то стремились бы к развязке и, чтобы поскорей добраться до нее, несомненно опустили бы кое-какие подробности, без которых, как нас уверяют, можно обойтись, изображая великих исторических деятелей.
Однако мы придерживаемся другого мнения.
С того дня, когда мы впервые взяли в руки перо — а было это почти тридцать лет назад, — замыкались ли мы в тесных рамках драмы или охватывали мыслью пространный роман, мы неизменно преследовали двоякую цель: просвещать и развлекать.
Просвещение стоит у нас на первом месте, ибо занимательность всегда была для нас лишь средством просвещать.
Удалось ли это нам? Полагаем, что удалось.
Наши произведения, посвященные различным эпохам, в обшей сложности объемлют огромный исторический период: события, рассказанные в романах "Графиня Солсбери" и "Граф де Монте-Кристо", разделяют пять с половиной столетий.
Так вот, мы утверждаем, что ознакомили читателей с историей Франции, развертывавшейся на протяжении пяти с половиной веков, глубже и полней, чем любой из наших историков.
Более того, хотя наши убеждения хорошо известны и в правление Бурбонов старшей и младшей ветви, при республике и при нынешнем режиме мы высказывали их открыто, смеем думать, что всякий раз в своих романах и драмах мы считались с духом времени.
Нас восхищает маркиз Поза в "Дон Карлосе" Шиллера, но на месте поэта мы не допустили бы вопиющего анахронизма, введя философа XVIII века в число исторических лиц XVI столетия, изобразив энциклопедиста при дворе Филиппа II.
Мы же в лице своих героев — в зависимости от эпохи — становились монархистами при монархии, республиканцами при республике, а теперь занимаемся преобразованиями при консулате.
Но при всем том наша мысль всегда парила над людьми и над эпохой, и мы старались каждому историческому лицу воздать должное, рисуя его как с положительной, так и с отрицательной стороны.
А между тем, кроме всеведущего Бога, никто не способен от своего лица по всей справедливости оценить человека. Вот почему в Египте фараонам, перед их переходом в вечность, на пороге гробницы выносил приговор не отдельный человек, но весь народ.
Недаром существует пословица: "Глас народа — глас Божий".
Итак, будучи историком, романистом, поэтом и драматургом, мы оказываемся всего лишь в роли председателя суда присяжных, который беспристрастно подводит итог прениям, предоставляя присяжным заседателям вынести приговор.
Книга это и есть такой итог. Читатели — это и есть присяжные.
Сейчас мы попытаемся нарисовать портрет одного из величайших исторических лиц не только нашего времени, но и всех веков, изобразив его в переходную пору, когда Бонапарт становился Наполеоном, генерал — императором. Естественно, опасаясь быть несправедливыми, мы отказываемся от всякого рода оценок и будем приводить одни факты.
Мы не согласны с теми, кто повторяет слова Вольтера: "Для лакея не существует героя".
Возможно, так и бывает, когда лакей близорук или завистлив (печальные свойства, имеющие между собою больше общего, чем принято думать).
Мы утверждаем, что герой может по временам становиться добрым малым, но этот добрый малый все же остается героем.
Что такое герой для широкой публики?
Человек, чей гений в какой-то момент берет верх над велениями сердца.
Что такое герой для его близких?
Человек, у которого веления сердца на какой-то миг берут верх над гением.
Историки, судите о гении по его деяниям!
Народ, суди о его сердце!
Кто судил о Карле Великом? Историки.
Кто судил о Генрихе Четвертом? Народ.
Как вы полагаете, который из двух монархов получил более справедливую оценку?
Так вот, чтобы вынести справедливое суждение, чтобы апелляционный суд, каким является потомство, подтвердил приговор современников, не следует освещать героя лишь с одной стороны, необходимо показать его с разных сторон и в те глубины, куда не проникает луч солнца, внести пылающий факел или простую свечу.
Но вернемся к Бонапарту.
Мы уже сказали, что он работал с Бурьенном.
Как же распределял свое время первый консул, пребывая в Люксембургском дворце?
Он вставал между семью и восемью часами утра и, призвав одного из своих секретарей, чаще всего Бурьенна, работал с ним до десяти. В десять часов ему докладывали, что завтрак подан. Обычно его уже ожидали Жозефина, Гортензия и Эжен. За стол садились всей семьей, включая дежурных адъютантов и Бурьенна. После завтрака Бонапарт беседовал со своими близкими и приглашенными. Этой беседе он посвящал ровно час; по обыкновению, в ней принимали участие его братья Люсьен и Жозеф, Реньо де Сен-Жан д’Анжели, Буле де ла Мёрт, Монж, Бертоле, Лаплас и Арно. Около полудня появлялся Камбасерес.
Как правило, Бонапарт уделял полчаса своему коллеге. Потом, внезапно поднявшись, он говорил без всякого перехода:
— До свидания, Жозефина! До свидания, Гортензия!.. Бурьенн, идем работать!
Всякий день в один и тот же час, произнеся эти слова, он выходил из гостиной и направлялся к себе в кабинет.
В своей работе Бонапарт не придерживался никакой системы: он рассматривал срочные дела или те, какие считал наиболее важными. Порой он диктовал, порой Бурьенн читал ему вслух. После этого первый консул отправлялся в Совет.
Первые месяцы, когда он пересекал двор Малого Люксембургского дворца, дождливая погода портила ему настроение. Но в конце декабря он велел построить навес над двором, и с тех пор почти всегда возвращался в свой кабинет, что-то тихонько напевая.
Бонапарт пел почти так же фальшиво, как Людовик XV.
Вернувшись к себе, он просматривал работу, исполненную по его приказу секретарем, подписывал несколько писем, затем растягивался в своем кресле. Разговаривая, он строгал перочинным ножом ручку кресла. Иногда принимался перечитывать полученные накануне письма или просматривать только что вышедшие в свет брошюры. По временам он добродушно смеялся, словно большой ребенок. Но вдруг, точно пробудившись от сна, он вскакивал на ноги и бросал секретарю:
— Пиши, Бурьенн!
И он развивал в общих чертах замысел монумента, который собирался воздвигнуть, или же диктовал какой-нибудь грандиозный проект из тех, что вызывали изумление, вернее сказать, потрясали его современников.
В пять часов садились за обед. После обеда Бонапарт поднимался в покои Жозефины и обычно принимал там министров, в частности министра иностранных дел г-на де Талейрана.
В полночь, иногда немного раньше, но никак не позже, он внезапно предлагал присутствующим разойтись:
— Идемте спать!
На другой день, часов с семи утра, жизнь текла по-прежнему, лишь временами ее ритм нарушали непредвиденные события.
Поведав о привычках и причудах великого гения в его молодые годы, мы находим нужным дать описание его внешности.
До нас дошло гораздо меньше портретов первого консула Бонапарта, чем императора Наполеона. Но, зная, что трудно найти сходство между императором 1812 года и первым консулом 1800-го, попытаемся описать словами черты, которые невозможно было передать ни кистью, ни в бронзе, ни в мраморе.
Большинство художников и скульпторов, блиставших в период замечательного расцвета искусства начала XIX века, таких, как Гро, Давид, Прюдон, Жироде и Бозио, старались в различные периоды сохранить для потомства черты избранника судьбы, призванного осуществлять великие предначертания Провидения. Так, имеются бюсты и портреты Бонапарта-генерала, Бонапарта — первого консула и императора Наполеона, и, хотя живописцы и скульпторы более или менее удачно схватили тип его лица, можно утверждать, что ни один портрет или бюст генерала, первого консула, императора не достигает полного сходства.
Дело в том, что существуют трудности, которые не дано превозмочь даже гениальному художнику. Правда, в первый период удавалось изобразить кистью или резцом массивную голову Бонапарта, лоб, пересеченный продольной складкой, говорившей о глубоких размышлениях, бледное продолговатое лицо гранитного оттенка, передать задумчивое его выражение; правда, во второй период удавалось запечатлеть в красках или в мраморе его объемистый лоб, брови изумительного рисунка, прямой нос, сжатые губы, подбородок безупречной формы, его профиль, классически величавый, как профиль Августа, вырезанный на медали. Однако и для скульптора и для живописца оставалась неуловимой беспримерная подвижность его взгляда (а взор для человека, так же как молния для Господа, — свидетельство его божественной сущности).
Взгляд Бонапарта подчинялся его воле молниеносно; за одну минуту он несколько раз менял выражение, становился то острым, ослепительным, как блеск кинжала, выхваченного из ножен, то нежным, ласкающим, словно солнечный луч, то суровым, как вопрос, требующий ответа, то яростным, как смертельная угроза.
В нем отражалась каждая мысль, волновавшая душу Бонапарта.
А взгляд Наполеона обретал изменчивость лишь в чрезвычайных жизненных обстоятельствах, с годами он становился все более пристальным. Все же эту пристальность было нелегко запечатлеть; подобно мечу, взгляд его вонзался в сердце находившегося перед ним человека, самые сокровенные помыслы которого, казалось, он старался уловить.
Хотя скульптору и художнику случалось отобразить эту пристальность, ни тот ни другой не могли передать живости, проницательности, магнетической силы взора Наполеона.
У людей слабодушных обычно тусклые глаза.
Руки молодого Бонапарта даже при своей худобе были изящны, и он не без кокетства выставлял их напоказ. Когда он пополнел, руки его стали на редкость красивы. Он всегда ухаживал за ними и, разговаривая, с удовольствием их разглядывал.
Столь же высокого мнения он был и о своих зубах: в самом деле, они были хороши, но их красота не так бросалась в глаза, как изящество его рук.
Когда он прогуливался — один или с кем-нибудь вдвоем, то ли в своих покоях, то ли в саду, — он обыкновенно шагал чуть согнувшись, как будто под тяжестью головы, и заложив руки за спину. При этом время от времени он непроизвольно шевелил правым плечом, словно по плечу пробегала нервная дрожь, и тут же у него подергивался рот слева направо — движение, казалось, связанное с первым. Что бы там ни говорили, это нельзя было назвать судорогами: то был обыкновенный тик, доказывающий, что Бонапарт чем-то поглощен, испытывает крайнее умственное напряжение. Этот тик чаще всего появлялся в периоды, когда генерал, первый консул или император обдумывал свои грандиозные замыслы. После таких прогулок, сопровождающихся подергиванием плеча и рта, он диктовал свои самые замечательные приказы. В походе, в армии, верхом на коне он был неутомим и почти столь же неутомим в мирное время; он мог прошагать пять-шесть часов подряд, сам того не замечая.
Прогуливаясь с кем-нибудь из близких, он обычно опирался на руку своего собеседника.
Хотя в описываемую нами эпоху он был худощавым и стройным, его уже беспокоило предстоящее ему в будущем ожирение, и он не раз делал своему секретарю такое признание:
— Вы видите, Бурьенн, как я умерен в еде и какой я поджарый, а между тем у меня не выходит из головы мысль, что к сорока годам я стану прожорлив и растолстею. Да, я предвижу, что моя конституция изменится, хотя я постоянно нахожусь в движении. Но что поделаешь! У меня такое предчувствие, и оно непременно сбудется.
Мы знаем, каким болезненным ожирением страдал пленник острова Святой Елены.
Бонапарт до страсти любил принимать ванну, и, без сомнения, это содействовало его ожирению; у него была неодолимая потребность в купанье. Он принимал ванну через день и просиживал в ней добрых два часа. В это время он заставлял читать себе вслух различные газеты или брошюры, причем то и дело открывал кран и пускал горячую воду. Под конец вода в ванне становилась до того обжигающей, что чтец начинал задыхаться и пар застилал ему глаза.
Только тогда Бонапарт разрешал открыть дверь.
Немало говорилось о приступах эпилепсии, которым он якобы стал подвержен начиная с первой Итальянской кампании. Однако Бурьенн пробыл при нем безотлучно одиннадцать лет и не наблюдал ни одного приступа этой болезни!
Хотя днем Бонапарт был поистине неутомим, по ночам он испытывал властную потребность в сне, особенно в изображаемый нами период. Бонапарт-генерал или первый консул заставлял других бодрствовать по ночам, но сам крепко спал. Как мы уже сказали, он ложился в полночь, порой даже раньше, и когда в семь часов утра Бурьенн входил в его комнату, то заставал его спящим. Чаще всего он поднимался при первом же зове, но иногда бормотал спросонья:
— Бурьенн, пожалуйста, дай мне еще минутку поспать.
Если не было срочных дел, Бурьенн возвращался в восемь часов, в противном случае он продолжал будить Бонапарта, и, поворчав, тот наконец вставал.
Он спал семь часов в сутки, порой восемь, когда позволял себе краткий отдых после обеда.
Относительно ночи он давал особые наставления.
— Ночью, — говорил он, — как можно реже входите ко мне в спальню. Не вздумайте меня будить, если намерены сообщить мне хорошую новость, — в таком случае можно не спешить. Но если вы приносите дурные известия, то сразу же будите меня: тут нельзя терять ни минуты, надо действовать!
Поднявшись, Бонапарт весьма тщательно совершал свой туалет; потом к нему входил камердинер, брил его и причесывал. Во время бритья секретарь или адъютант читал ему газеты, всякий раз начиная с "Монитёра", но Бонапарт уделял внимание только английским или немецким газетам.
— Дальше, дальше! — торопил он чтеца, не желая терять времени на французские газеты. — Я знаю все, что они там пишут, ведь они говорят только то, что мне угодно.
Покончив с туалетом, он спускался из спальни в кабинет. Мы уже видели, чем он там занимался.
В десять часов, как мы уже сказали, докладывали о завтраке. Дворецкий возвещал о нем в таких словах:
— Генералу подано.
Как видим, он обходился без титулов, даже не величал Бонапарта первым консулом.
Завтрак был весьма скромный: всякое утро подавалось его любимое блюдо — цыпленок, жаренный в масле с чесноком, тот самый, который с тех пор стал появляться в ресторанных меню под названием "цыпленок а ля Маренго".
Бонапарт мало употреблял вина, причем только бордоское или бургундское, чаще всего последнее.
После завтрака, как и после обеда, он выпивал чашку черного кофе (но никогда — между завтраком и обедом). Если ему случалось допоздна засиживаться за работой, ему приносили уже не кофе, а шоколад, и работавший с ним секретарь получал такую же чашку.
Большинство историков, хроникеров и биографов, упомянув о том, что Бонапарт пил слишком много кофе, добавляют, что он злоупотреблял табаком.
И то и другое не соответствует действительности.
Двадцати четырех лет от роду Бонапарт приобрел привычку нюхать табак, но употреблял его лишь для освежения мозга, причем обычно брал понюшку не из жилетного кармана, как утверждают, а из табакерки; он менял табакерки чуть не каждый день и как их коллекционер имел нечто общее с Фридрихом Великим. Из жилетного кармана он брал понюшки только во время сражений, когда было бы затруднительно, проносясь галопом сквозь огонь, держать в руке одновременно поводья коня и табакерку. На этот случай у него имелись особые жилеты с правым карманом, подбитым благоухающей кожей, а вырез в сюртуке позволял засунуть большой и указательный пальцы в кармашек, не расстегивая мундира; таким образом, он мог брать понюшки когда угодно, даже на бешеном скаку.
В бытность генералом или первым консулом он никогда не надевал перчаток, но держал их в левой руке, немилосердно комкая. Став императором, он изменил этой привычке и начал надевать одну перчатку; но так как он менял перчатки не только ежедневно, но по два-три раза в день, его камердинеру пришло в голову менять лишь одну перчатку, подбирая пару к неношеной.
Бонапартом владели две великие страсти, унаследованные от него Наполеоном: любовь к войне и пристрастие к монументам.
В походах он был весел и не прочь был посмеяться, а в дни мира становился задумчивым и мрачным; тогда, чтобы развеять тоску, он искал отрады в искусстве и принимался мечтать о грандиозных памятниках; он начал воздвигать целый ряд монументов, но закончил лишь немногие из них. Он знал, что монументы составляют часть жизни народов, что это их история, написанная заглавными буквами, что, когда поколения за поколениями исчезнут с лица земли, эти вехи былых веков останутся стоять: так в великолепных развалинах оживает Рим, бессмертные памятники неумолчно вещают о Древней Греции, и в своих монументах, на пороге цивилизаций восстает из праха таинственный и величавый призрак Египта.
Но что он любил больше всего, что было всего дороже его сердцу — это всеобщее поклонение, это мировая известность. Отсюда ненасытная потребность в войне, жажда славы.
Нередко он говорил:
— Широкая известность — это хвалебный гул. Чем громче этот гул, тем дальше он разносится. Законы, учреждения, памятники, народы — все сметается временем; но слава не умолкает и дает громкие отзвуки в других поколениях. Пали Вавилон и Александрия, но Семирамида и Александр живут в веках и, прославляемые всеми, стали еще величавей, чем при жизни.
Прилагая эти рассуждения к самому себе, он продолжал:
— Моя власть зиждется на моей славе, а слава — на одержанных мною победах. Всем, чего я достиг, я обязан своим завоеваниям, и потребны все новые завоевания, чтобы удержаться на этой высоте. Недавно утвердившаяся власть должна изумлять и ослеплять: едва померкнет ее факел — она угасает, едва прекратится ее рост — она рушится.
Долго время Бонапарт оставался патриотом своей Корсики и тяжело переживал завоевание родины французами, но после 13 вандемьера сам стал настоящим французом и страстно полюбил Францию; он мечтал видеть ее великой, счастливой, могущественной, во главе всех народов, блистающей военной славой и расцветом искусств. Правда, добиваясь величия Франции, он возрастал вместе с нею, и ее величие носило неизгладимый отпечаток его гения. Он жил этой идеей, и для него настоящее как бы растворялось в грядущем. Куда бы ни заносил его ураган войны, повсюду он прежде всего помышлял о Франции. "Что скажут афиняне?" — спрашивал Александр после победы при Иссе и при Арбеле. "Надеюсь, что французы будут довольны мною", — говорил Бонапарт после битв при Риволи и у пирамид.
Перед сражением современный Александр не слишком заботился о том, как он поступит в случае успеха, но обдумывал все возможные последствия неудачи. Как никто другой, он был убежден, что порой от ничтожнейшего обстоятельства зависят величайшие события, поэтому он старался предвидеть эти события, но не спешил их вызывать; он наблюдал их зарождение, ожидая, пока они созреют, потом в нужный момент появлялся на политической арене, завладевал ходом событий, подчинял их своей воле и управлял ими, как опытный наездник обуздывает и подчиняет себе горячего коня.
В свое время Бонапарт быстро поднялся на гребне Революции; ему случалось подготовлять политические перевороты или следить за совершающимися у него на глазах; он не раз управлял ходом событий и в результате проникся презрением к роду человеческому; к тому же он от природы не склонен был уважать людей, и нередко с его уст срывались слова тем более горькие, что он имел случай убедиться в их справедливости:
— Два рычага приводят в движение человеческие массы: страх и корысть.
Естественно, при таких убеждениях Бонапарт не мог верить в дружбу.
"Сколько раз, — вспоминает Бурьенн, — он мне твердил: "Дружба — пустой звук! Я никого не люблю, даже братьев… Ну, может быть, немножко люблю Жозефа, да и то скорей по привычке и потому, что он мой старший брат… Вот Дюрока я, пожалуй, люблю, но почему? Просто мне нравится его характер: он холодный, сухой и суровый, притом Дюрок никогда не жалуется. Да и за что мне любить людей? Неужели вы воображаете, что у меня есть искренние друзья? До тех пор пока мне будет сопутствовать удача, у меня всегда найдутся друзья, хотя бы и лицемерные; но если счастье от меня отвернется, вы увидите, что будет! Зимой деревья стоят без листвы. Пусть Бурьенн, хнычут женщины, на то они и созданы, но мне не к лицу чувствительность! Надо иметь крепкую руку и непреклонную волю — иначе не станешь ни полководцем, ни правителем!""
В своих отношениях с близкими Бонапарт был, как выражаются школьники, задирой; он любил подразнить, но скорее добродушно, и почти никогда не позволял себе грубости. Правда, легко было вызвать его досаду, но она улетучивалась как облако, гонимое ветром, выливалась потоком слов и быстро рассеивалась. Однако когда речь шла о государственных делах и кто-нибудь из его помощников или министров допускал ошибку, он выходил из себя, разражался гневными словами, порой, жестоко оскорбляя, беспощадно наносил удары, и поневоле приходилось перед ним склониться. Вспомним его сцены с Жомини и с герцогом Беллюнским!
У Бонапарта было два рода врагов — якобинцы и роялисты, первых он ненавидел, вторых опасался. Говоря о якобинцах, он называл их не иначе как убийцами Людовика XVI, зато о роялистах высказывался так осторожно, что казалось, будто он предвидел Реставрацию.
Среди его приближенных два человека в свое время голосовали за смерть короля — Фуше и Камбасерес.
Бонапарт уволил Фуше с поста министра полиции, однако оставил Камбасереса, ибо нуждался в услугах этого выдающегося законоведа, но частенько поддавался искушению уязвить своего коллегу, второго консула, и говорил, взяв его за ухо:
— Бедный мой Камбасерес, мне очень грустно, но имейте в виду: если когда-нибудь вернутся Бурбоны, вы угодите на виселицу!
Однажды Камбасерес потерял терпение и, резко повернув голову, вырвал ухо из пальцев Бонапарта, сжимавших его, как тиски.
— Бросьте эти скверные шутки! — вскричал он.
Всякий раз, когда Бонапарту случалось избегнуть опасности, он по привычке, усвоенной еще в детские годы на Корсике, быстро делал большим пальцем на груди знак креста.
Когда он переживал неприятность или его терзали мрачные мысли, он напевал вполголоса один и тот же мотив, но так фальшиво, что мелодию невозможно было узнать. Продолжая напевать, он садился за письменный стол и начинал раскачиваться в кресле; откидываясь назад, он едва не опрокидывался навзничь и яростно строгал ручку кресла перочинным ножом, который только для этого ему и служил, ибо Бонапарт никогда сам не чинил перьев (это была обязанность секретаря, старавшегося очинить их как можно острее, чтобы легче было разобрать ужасающий почерк своего шефа).
Известно, какое впечатление производил на Бонапарта колокольный звон: лишь эта музыка была ему доступна и трогала его сердце. Если он сидел в то время, когда раздавался вибрирующий звук колокола, он давал знак рукой, чтобы соблюдали молчание, и поворачивался в ту сторону, откуда наплывали волны звуков; если он в это время прогуливался, то останавливался, склонял голову и слушал. Пока звонил колокол, он стоял или сидел неподвижно, но, едва замирал последний удар, вновь принимался за работу. Когда Бонапарта спрашивали, чем объясняется его пристрастие к звону колоколов, он отвечал:
— Колокола напоминают мне о юных годах, которые я провел в Бриене: в те времена я был так счастлив!
В эпоху, о которой сейчас идет речь, его мысли занимало купленное им поместье Мальмезон. В субботу вечером он отправлялся за город, как школьник, отпущенный домой, проводил там воскресенье, а иной раз прихватывал и понедельник. Находясь в имении, он мало работал, но много гулял. Во время прогулок он наблюдал за тем, что делалось для украшения поместья. Иногда, особенно сразу после покупки, он уходил далеко за пределы усадьбы. Однако полицейские донесения вскоре навели порядок в этих прогулках, которые были вовсе отменены после раскрытия заговора Арена и взрыва адской машины.
Бонапарт подсчитал, что если продавать фрукты и овощи, выращенные в Мальмезоне, то имение должно приносить доход в шесть тысяч франков.
— Это недурно, — говорил он Бурьенну и прибавлял со вздохом: — Но следовало бы иметь тридцать тысяч годовой ренты, чтобы жить в Мальмезоне.
Жизнь за городом не только была по вкусу Бонапарту, но при известных условиях удовлетворяла его поэтическое чувство; он радовался, если ему случалось увидеть в парке высокую стройную женщину, всю в белом, прогуливающуюся по тенистым аллеям. Он ненавидел темные платья и терпеть не мог толстых женщин, а к беременным питал такое отвращение, что почти никогда не приглашал их на свои вечера или на праздники. Впрочем, он и вообще не отличался любезностью, держал себя чересчур высокомерно, чтобы привлекать женские сердца, и был не слишком-то вежлив с дамами; даже самым красивым он очень редко говорил что-нибудь приятное. Напротив, он постоянно преподносил близким приятельницам Жозефины "комплименты", от которых бросало в дрожь. Одной даме он сказал: "Ах, какие у вас красные руки!"; другой: "У вас отвратительная прическа!"; еще одной: "Вы пришли в грязном платье, я раз двадцать видел его на вас!"; однажды он ошеломил изысканно одетую особу: "Советую вам переменить портниху — на вас такой безвкусный туалет!"
Как-то раз он заявил герцогине де Шеврез, прелестной блондинке, чьи волосы вызывали у всех восхищение:
— Вы вовсе не блондинка, а просто рыжая!
— Возможно, — ответила герцогиня, — но я впервые слышу это от мужчины.
Бонапарт был равнодушен к картам, и если иной раз играл, то в "двадцать одно", причем, подобно Генриху IV, постоянно плутовал. Но когда игра была окончена, он оставлял на столе выигранное им золото и банковые билеты.
— Какие вы разини! — заявлял он. — Я все время передергивал, а вы и не заметили! Берите назад свой проигрыш!
Бонапарт был рожден и воспитан в католической вере, но не отдавал предпочтения ни одной религии. Он восстановил во Франции отправление христианского культа, но это было отнюдь не религиозным, а политическим актом. Однако ему нравилось, когда разговор заходил о религии, правда, он тут же определял свою позицию.
— Рассудок, — говорил он, — приводит меня к неверию во многих вопросах, но впечатления детства и восторги ранней юности не позволяют мне все отрицать.
Между тем он не хотел и слышать о материализме. Он готов был принять любую философию, лишь бы она признавала Создателя. Однажды в чудесный вечер мессидора, когда его корабль скользил по лазурному морю под лазурным небом, плывшие с Бонапартом математики стали утверждать, что Бога нет, а существует только одушевленная материя. Генерал молча устремил взор на небосвод и был поражен ослепительным сиянием светил, во сто крат более ярким между Мальтой и Александрией, чем у нас в Европе. Ученые решили, что он не прислушивается к их разговору, но вдруг он воскликнул, указывая рукой на звезды:
— Что бы вы ни говорили, все это сотворил Бог!
Бонапарт очень аккуратно оплачивал свои личные траты, но оказывался скупым на оплату государственных расходов. Он был убежден, что если министр, заключивший договор с поставщиком, даже и не был простофилей, то все равно государство терпело убытки. Поэтому он имел обыкновение оттягивать сроки платежей: он начинал придираться к мелочам, ставить всевозможные препятствия, приводить разные отговорки. Он твердо верил, что все поставщики — мошенники и плуты, это был его неизменный принцип, его навязчивая идея.
Как-то раз ему представили человека, чья заявка на подряд была только что принята.
— Как ваша фамилия? — внезапно спросил Бонапарт.
— Кроди, гражданин первый консул.
— Кради! Подходящая фамилия для поставщика!
— Моя фамилия, гражданин, пишется через "о".
— Это не помешает вам, сударь, красть, — бросил Бонапарт.
И он повернулся спиной к поставщику.
Бонапарт редко отказывался от однажды принятого им решения, даже если сознавал свою ошибку. Не было случая, чтобы он сказал: "Я был не прав". Напротив, от него всегда можно было услышать: "Чего хорошего ждать от людей!" Такая максима скорее была подстать человеконенавистнику Тимону, чем Августу.
При всем том чувствовалось, что Бонапарт из упрямства напускал на себя презрение к людям, а на деле он не так уж плохо к ним относился. Он не был ни злопамятным, ни мстительным, но, казалось, слишком верил в необходимость, эту богиню железных оков. Вообще вне сферы политики он проявлял чувствительность, доброту, был склонен к милосердию, питал любовь к детям (свойство, доказывающее сердечную мягкость и теплоту); в частной жизни он обнаруживал снисходительность к людским слабостям, порой даже простодушие, подобно Генриху IV, который, играя со своими детьми, заставил испанского посла ждать.
Если бы мы писали исторический труд, нам пришлось бы еще многое сообщить о Бонапарте, а покончив с ним, посвятить немало страниц Наполеону.
Но мы пишем всего лишь исторический роман, где играет свою роль Бонапарт. К сожалению, там, где он появляется хотя бы на минуту, он становится, против воли автора, главным действующим лицом.
Да простят нам длинное отступление! Мы должны признаться, что этот человек, который нес в себе целый мир, подхватил нас подобно вихрю и вовлек в свою орбиту!
Вернемся же к Ролану и продолжим наше повествование.
XXXVII
ПОСОЛ
Как мы помним, Ролан, вернувшись в Люксембургский дворец, спросил о первом консуле, и ему доложили, что первый консул занят с министром полиции.
Ролан был своим человеком во дворце; возвращаясь из поездки или с делового свидания, он привык — с какой бы высокой особой ни уединился Бонапарт — без стеснения приотворять дверь кабинета и заглядывать туда.
Порою первый консул был настолько занят, что не замечал его.
Тогда Ролан произносил одно лишь слово: "Генерал!", что означало на языке, понятном только им двоим, старым однокашникам: "Генерал, я здесь. Я вам нужен? Жду ваших приказаний".
Если помощь Ролана не требовалась Бонапарту, он отвечал:
— Хорошо.
В противном случае коротко приказывал:
— Входи.
Ролан входил в кабинет и, отступив к окну, терпеливо ждал распоряжений.
На этот раз Ролан, как обычно, просунул голову в дверь:
— Генерал!
— Входи! — отозвался первый консул, явно обрадованный его появлением. — Входи, входи!
Ролан вошел в кабинет.
Как ему и говорили, Бонапарт был занят с министром полиции.
Тема, которую они обсуждали и которая, видимо, серьезно тревожила первого консула, представляла интерес и для Ролана.
Дело шло о новых ограблениях дилижансов, совершенных Соратниками Иегу.
На столе лежали три протокола о нападении на дилижанс и на два мальпоста. В одном из мальпостов ехал казначей Итальянской армии Трибер.
Ограбления произошли: первое — между Мексимьё и Монлюэлем, на участке дороги, пересекающей коммуну Белиньё; второе — на берегу озера Силан, со стороны Нантюа; третье — на большой дороге от Сент-Этьена на Бурк, в местечке под названием Кароньеры.
Вы время одного из нападений произошел примечательный случай.
Вместе с казенными деньгами грабители по ошибке захватили пачку денег в четыре тысячи франков и шкатулку с ювелирными изделиями, принадлежавшие пассажирам; те сокрушались о пропаже, как вдруг мировой судья в Нантюа получил письмо без подписи, в котором было указано место, где зарыты эти ценности, и содержалась просьба вернуть их владельцам, так как Соратники Иегу воюют с государством, а не с частными лицами.
В другом случае, когда возле Кароньер, где кучер мальпоста, несмотря на приказ остановиться, погнал лошадей во весь опор и разбойникам пришлось стрелять, Соратники Иегу сочли долгом возместить убытки смотрителя почтовой станции и выплатили ему за убитого коня пятьсот франков.
Как раз за такую сумму лошадь была куплена неделю назад, и эта оценка доказывала, что бандиты понимали толк в лошадях. К протоколам, составленным местными властями, были приложены показания пассажиров.
Бонапарт, немилосердно фальшивя, напевал про себя тот непонятный мотив, о котором мы уже упоминали; это означало, что он вне себя от ярости.
Надеясь получить какие-нибудь новые сведения от Ролана, он велел ему войти.
— Честное слово, — пробурчал он, — весь твой департамент взбунтовался против меня. Ну-ка, посмотри сам.
Бросив взгляд на донесения, Ролан все понял.
— Вот именно, генерал! — ответил он. — Потому и я вернулся, чтобы это обсудить.
— Хорошо, обсудим, но сначала вели Бурьенну достать атлас департаментов Франции.
Ролан принес атлас и, угадывая желание Бонапарта, раскрыл карту департамента Эн.
— Та самая, — кивнул головой первый консул. — Теперь покажи, где это произошло.
Ролан указал точку в окрестностях Лиона.
— Смотрите, генерал, вот место первого нападения, вот здесь, против селения Белиньё.
— Авторов?
— Оно произошло тут, — продолжал Ролан, проведя пальцем к другому краю департамента, ближе к Женеве. — Вот озеро Нантюа, а вот озеро Силан.
— Ну, а третье?
Ролан ткнул пальцем в середину карты.
— Генерал, вот точное место; Кароньеры не обозначены на карте, как пункт незначительный.
— Что такое Кароньеры?
— Генерал, у нас так называют мастерские, где изготавливают черепицу. Они принадлежат гражданину Терье. Вот место, где они должны быть обозначены на карте.
И Ролан отметил кончиком карандаша на листе атласа участок, где была задержана почтовая карета.
— Как? — удивился Бонапарт. — Это произошло всего в полульё от Бурка?
— Почти в полульё, генерал; этим объясняется, почему раненого коня привели в Бурк и он околел в конюшнях "Доброго согласия".
— Вам ясны все обстоятельства дела, сударь? — резко спросил Бонапарт министра полиции.
— Да, гражданин первый консул, — ответил тот.
— Я требую, чтобы грабежи на дорогах прекратились!
— Я приложу все усилия…
— Дело не в том, чтобы приложить усилия, а в том, чтобы добиться успеха.
Министр поклонился.
— Лишь при этом условии, — добавил Бонапарт, — я соглашусь признать, что вы действительно умелый человек, каким себя считаете.
— Я постараюсь вам помочь, гражданин! — заявил Ролан.
— Я не осмеливался просить вашего содействия… — сказал министр.
— Я окажу вам помощь. Не предпринимайте ничего, не обсудив это вместе со мной.
Министр вопросительно посмотрел на первого консула.
— Хорошо, — сказал Бонапарт. — Ступайте. Ролан посетит вас в министерстве.
Министр поклонился и вышел.
— В самом деле, — продолжал первый консул, — для тебя, Ролан, вопрос чести — уничтожить этих бандитов. Во-первых, грабежи происходят в твоем департаменте, и, кроме того, разбойники, похоже, что-то замышляют против тебя и твоих родных.
— Наоборот, — возразил Ролан, — меня приводит в бешенство именно то, что они щадят меня и мою семью.
— Постой, объяснись точнее, Ролан: здесь каждая подробность имеет значение. Мы как будто снова начинаем войну с бедуинами.
— Судите сами, генерал: я принимаю решение провести ночь в Сейонском монастыре, ибо там, по слухам, водятся привидения. И действительно, передо мной появляется призрак, но совершенно безобидный. Я дважды стреляю в него из пистолета, но он даже не оборачивается. Далее: задержан дилижанс, в котором едет моя мать, она падает в обморок. Один из разбойников с величайшей заботливостью приводит ее в чувство, трет ей виски уксусом, подносит нюхательные соли. Мой брат Эдуар стреляет в бандитов, а те обнимают его, ласкают, хвалят за храбрость, чуть ли не дарят ему конфеты в награду за хорошее поведение. И наоборот, моего друга сэра Джона, когда он после меня идет в монастырь, принимают за шпиона и закалывают кинжалом.
— Но он не умер?
— Нет, совсем напротив, он чувствует себя превосходно и хочет жениться на моей сестре.
— Вот как! Он сделал предложение?
— По всем правилам.
— И что же ты ответил?
— Ответил, что согласие зависит от двух лиц.
— От твоей матери и тебя — это справедливо.
— Вовсе нет: от самой моей сестры… и от вас.
— От нее самой — это понятно, но при чем тут я?
— Вы же говорили, генерал, что хотите сами выдать ее замуж.
Бонапарт задумался и, скрестив руки на груди, стал ходить по кабинету. Потом вдруг спросил, остановившись перед Роланом:
— Кто он такой, твой англичанин?
— Вы его видели, генерал.
— Я не говорю о наружности — все англичане одинаковы: бледная кожа, голубые глаза, рыжие волосы и лошадиная челюсть.
— Это из-за "the", генерал, — серьезным тоном пояснил Ролан.
— То есть как из-за "the"?
— Ну да. Вы ведь учились английскому языку, генерал?
— Точнее, я пробовал учиться.
— Тогда учитель, верно, объяснял вам, что "the" произносят, уперев язык в зубы; а так как англичане поминутно произносят "the" и, стало быть, толкают зубы языком, то под конец у них и вытягивается челюсть, та самая, как вы правильно заметили, лошадиная челюсть — характерная черта их физиономии.
Бонапарт вопросительно взглянул на Ролана, не зная, шутит ли этот неисправимый насмешник или говорит серьезно.
Ролан был невозмутим.
— Таково твое мнение?
— Да, генерал, и мне кажется, что с точки зрения физиологии оно стоит любого другого. У меня множество наблюдений такого рода, и я их высказываю при всяком удобном случае.
— Вернемся к твоему англичанину.
— Охотно, генерал.
— Я спрашивал, что он за человек?
— Это настоящий джентльмен, очень смелый, очень спокойный, очень невозмутимый, очень благородный, очень богатый, и, кроме того — что вряд ли служит ему рекомендацией в ваших глазах, — племянник лорда Гранвилла, первого министра его величества Британского.
— Как ты сказал?
— Я сказал, что он племянник первого министра его величества Британского.
Бонапарт снова зашагал по кабинету. Потом, подойдя к Ролану, вдруг спросил:
— Могу я повидать твоего англичанина?
— Вы отлично знаете, генерал, что для вас нет невозможного.
— Где он?
— В Париже.
— Отправляйся за ним и доставь его ко мне.
Ролан привык повиноваться без рассуждений. Он взял шляпу и направился к двери.
— Пошли ко мне Бурьенна, — приказал первый консул, когда Ролан дошел до порога.
Через пять минут после ухода Ролана явился Бурьенн.
— Садитесь, Бурьенн! — сказал первый консул.
Секретарь сел за стол, разложил листы бумаги, обмакнул перо в чернильницу и приготовился писать.
— Вы готовы? — спросил Бонапарт, усевшись на край стола, за которым писал Бурьенн. То была одна из его привычек, приводившая в отчаяние секретаря, так как первый консул, диктуя, непрерывно раскачивался, отчего письменный стол шатался и колыхался словно корабль в бурном море.
— Я готов, — ответил Бурьенн, который привык в конце концов ко всем причудам первого консула.
— Тогда пишите.
И начал диктовать:
"Его Величеству королю Великобритании и Ирландии от Бонапарта, первого консула Республики.
Призванный по воле французской нации стать высшим должностным лицом Республики, я счел уместным обратиться с личным посланием к Вашему Величеству.
Неужели война, которая в течение восьми лет опустошает четыре части света, должна длиться вечно? Неужели нельзя прийти к соглашению?
Как могут две великие нации, самые просвещенные в Европе, более сильные и могущественные, чем того требует их безопасность и независимость, как могут они приносить в жертву ложно понятому престижу и безрассудной ненависти выгоды торговли, благосостояние страны, благоденствие населения?
Почему они не хотят признать, что мир — это величайшая необходимость и высшая слава?
Подобные мысли не могут быть чужды сердцу Вашего Величества, короля, правящего свободным народом ради его счастья и процветания.
Пусть Ваше Величество не сомневается, что мною движет только искреннее желание вторично попытаться содействовать всеобщему умиротворению. Итак, я предпринимаю новый шаг, обращаясь непосредственно к Вам с полным доверием, не прибегая к дипломатическим формальностям, каковые, быть может, и необходимы для слабых государств, желающих скрыть свое бессилие, но у государств могущественных лишь доказывают стремление обмануть друг друга.
Франция и Англия, злоупотребляя своей мощью, еще долгое время могут, к несчастью для всех народов, воевать до полного истощения, но, смею Вас заверить, судьба всех цивилизованных наций зависит от окончания войны, охватившей пожаром весь мир".
Бонапарт остановился.
— Кажется, так будет хорошо, — сказал он. — Прочтите вслух, Бурьенн.
Секретарь прочитал продиктованное ему письмо.
После каждого абзаца первый консул удовлетворенно кивал, говоря:
— Продолжайте.
Даже не дослушав последних слов, он взял письмо из рук Бурьенна и поставил свою подпись новым пером. Он никогда не пользовался тем же пером больше одного раза: ничто так не раздражало его, как чернильное пятно на пальцах.
— Хорошо! — сказал он. — Запечатайте и проставьте адрес: "Лорду Гранвиллу".
Бурьенн исполнил приказание.
В это время послышался стук коляски, въехавшей во двор Люксембургского дворца.
Минуту спустя дверь отворилась и вошел Ролан.
— Ну что? — спросил Бонапарт.
— Я же говорил, что для вас нет невозможного, генерал.
— Твой англичанин с тобой?
— Я встретил его на перекрестке Бюси и, зная, что вы не любите ждать, принудил его сесть в коляску. Честное слово, мне едва не пришлось тащить его силой, прибегнув к помощи стражников с улицы Мазарини: он в рединготе и высоких сапогах.
— Пусть войдет! — бросил Бонапарт.
— Входите, милорд! — пригласил Ролан, обернувшись к двери.
Лорд Тенли появился на пороге.
Бонапарту довольно было одного взгляда, чтобы понять этого образцового джентльмена.
Слегка похудевший, немного бледный, сэр Джон выглядел подлинным аристократом.
Он молча поклонился, выжидая, как истый англичанин, чтобы его представили.
— Генерал! — торжественно произнес Ролан, — имею честь представить вам сэра Джона Тенли, который прежде готов был ехать на край света, чтобы увидеть вас своими глазами, и которого сегодня я чуть ли не насильно привел в Люксембургский дворец.
— Входите, милорд, входите! — сказал Бонапарт. — Мы и видимся не впервые, и я не впервые выражаю желание с вами познакомиться. Было бы почти неблагодарностью с вашей стороны противиться моему желанию.
— Мне служит оправданием только то, генерал, — как всегда, на чистом французском языке отвечал сэр Джон, — что я не смел поверить оказанной мне чести.
— И, кроме того, вы, разумеется, ненавидите меня из чувства патриотизма, подобно всем вашим соотечественникам, не правда ли?
— Ничуть не бывало, генерал, — возразил сэр Джон с любезной улыбкой, — они искренне восхищаются вами.
— А вы разделяете нелепый предрассудок, будто национальная честь требует ненавидеть сегодня врага, который может стать другом завтра?
— Франция почти стала для меня второй отчизной, генерал, и мой друг Ролан подтвердит, что я с нетерпением ожидаю дня, когда Франция станет моей истинной родиной.
— Итак, вы не будете возмущены, если Франция и Англия примирятся на благо народов всего мира?
— День, когда это произойдет, станет для меня самым счастливым днем.
— А если бы вы могли содействовать успеху этого дела, вы бы согласились помочь нам?
— Я готов посвятить этому жизнь!
— Ролан мне сказал, что вы в родстве с лордом Гранвиллом?
— Я его племянник.
— Вы с ним в добрых отношениях?
— Он очень любил свою старшую сестру, мою покойную мать.
— Он питает к вам те же родственные чувства, что и к вашей матери?
— Да, но думаю, что он бережет их для того момента, когда я вернусь в Англию.
— Вы согласились бы вручить ему письмо от меня?
— Кому оно адресовано?
— Королю Георгу Третьему.
— Такое поручение — большая честь для меня.
— Вы возьметесь передать вашему дяде то, чего нельзя написать в письме?
— Слово в слово: каждая фраза генерала Бонапарта — достояние истории.
— Тогда скажите ему… — Тут первый консул обратился к секретарю: — Бурьенн, достаньте последнее послание русского императора.
Раскрыв папку, Бурьенн вынул письмо и подал Бонапарту.
Бросив взгляд на письмо, первый консул протянул его лорду Тенли.
— Скажите ему сначала и прежде всего другого, что вы прочли это послание, — добавил Бонапарт.
Сэр Джон с поклоном взял письмо и прочел:
"Гражданин первый консул!
Вы возвратили мне вооруженными и в новом обмундировании по форме их частей девять тысяч русских солдат, взятых в плен в Голландии, и Вы прислали их мне без выкупа, без обмена пленными, без каких-либо условий.
Это поистине рыцарский поступок, а я имею честь считать себя рыцарем.
Полагаю, что лучшее, чем я могу отплатить Вам, гражданин первый консул, за сей великолепный подарок, — это предложить свою дружбу.
Угодно ли Вам принять сей дар?
В залог нашей дружбы я возвращаю паспорта лорду Уитворту, английскому послу в Санкт-Петербурге.
Помимо того, если Вы согласитесь стать — не говорю, моим секундантом, но моим свидетелем, я вызываю на дуэль, один на один, всех монархов, каковые не пожелают вступить в борьбу против Англии и не закроют ей доступ в свои морские порты.
Я начинаю с ближайшего соседа, короля Дании, и Вы сами можете прочесть в "Придворных ведомостях" письменный вызов, который я ему посылаю.
Что мне еще остается добавить?
Ничего.
Кроме того, что мы двое, объединившись, можем повелевать всем миром.
Остаюсь Вашим почитателем и искренним другом.
Павел".
Обернувшись к первому консулу, лорд Тенли спросил:
— Известно ли вам, что русский император сумасшедший?
— Вас навело на эту мысль письмо, милорд? — спросил Бонапарт.
— Нет, но оно подтверждает мое мнение.
— Что же, Генрих Шестой Ланкастер унаследовал от помешанного корону Людовика Святого, и на британском гербе до сих пор красуются французские лилии, — пока я еще не соскоблил их своей шпагой.
Сэр Джон усмехнулся: его национальную гордость задели дерзкие притязания победителя битвы у пирамид.
— Впрочем, — продолжал Бонапарт, — сейчас еще рано говорить об этом: всему свое время.
— Да, — процедил сквозь зубы сэр Джон, — морской бой при Абукире произошел не так давно.
— О, я разобью вас не на море, — живо возразил Бонапарт. — Мне понадобилось бы лет пятьдесят, чтобы обратить Францию в морскую державу. Я одержу победу вот здесь…
И он указал рукой на восток.
— В настоящее время, повторяю вам, дело идет не о войне, а о мире: мне необходим мир, дабы осуществить свои замыслы, и прежде всего мир с Англией. Как видите, я играю в открытую, я достаточно силен, чтобы говорить откровенно. Если когда-либо дипломат скажет правду, это будет самый искусный дипломат в мире, ибо никто ему не поверит и он беспрепятственно достигнет своей цели.
— Значит, я должен передать моему дяде, что вы хотите мира?
— Разъяснив при этом, что я не боюсь войны. То, чего я не добьюсь от короля Георга, я, как видите, могу получить от императора Павла. Однако Россия еще не достигла той степени цивилизации, чтобы я желал иметь ее союзницей.
— Послушное орудие порою бывает полезнее, чем союзник.
— Верно, но вы сами сказали, что император сумасшедший, а помешанных, милорд, лучше разоружать, чем вооружать. Я убежден, что такие великие нации, как Франция и Англия, должны быть либо неразлучными друзьями, либо непримиримыми врагами. В дружбе они, как два полюса, будут сохранять равновесие земного шара; во вражде одна держава должна уничтожить другую и стать осью земли.
— А если лорд Гранвилл, не подвергая сомнению ваш военный гений, усомнится в вашем могуществе? Если он убежден, подобно нашему поэту Кольриджу, что грозно рокочущий океан охраняет наш остров и ограждает его неприступной стеной, как тогда поступить?
— Разверните нам карту земного шара, Бурьенн, — приказал Бонапарт.
Секретарь разостлал карту.
— Видите эти две реки? — спросил первый консул, подойдя к столу.
И он показал сэру Джону Волгу и Дунай.
— Вот дорога в Индию! — сказал он.
— Я полагал, что дорога в Индию лежит через Египет, генерал, — заметил лорд Тенли.
— Я тоже так думал прежде, или, вернее, я выбрал этот путь за неимением другого. Теперь же русский царь открывает мне новый путь. Пускай ваше правительство не вынуждает меня вступить на него! Вы видите карту?
— Да, гражданин, я смотрю внимательно.
— Итак, если Англия заставит меня начать войну и мне придется взять в союзники преемника Екатерины, вот что я сделаю: я погружу на суда сорок тысяч русских солдат, пущу их вниз по Волге до Астрахани. Они переплывут Каспийское море и станут лагерем в Астрабаде в ожидании моего прихода.
Сэр Джон, внимательно слушая, нагнулся над картой.
Бонапарт продолжал:
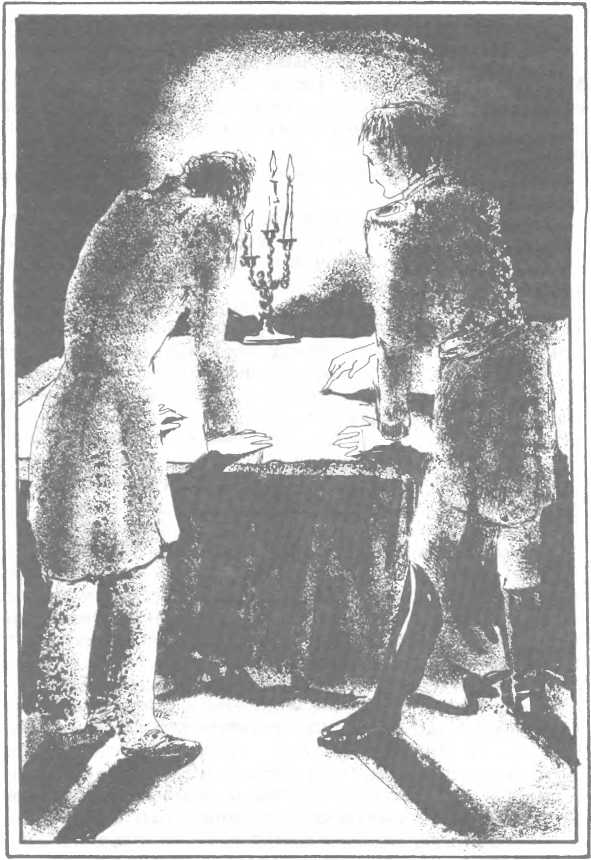
— На Дунае я посажу на корабли сорок тысяч французских солдат…
— Прошу прощения, гражданин первый консул, но ведь Дунай принадлежит Австрии.
— К тому времени я возьму Вену.
Сэр Джон с изумлением взглянул на Бонапарта.
— К тому времени я возьму Вену, — повторил тот. — Итак, по Дунаю спустятся на судах сорок тысяч французских солдат; в устье реки их встретит русская флотилия и переправит в Таганрог. Оттуда я поведу их сухим путем вверх по течению Дона до Пратизбянской и дальше до Царицына. Они поплывут вниз по Волге на тех же судах, что доставили сорок тысяч русских в Астрабад. Через две недели у меня будет восемьдесят тысяч солдат в Западной Персии. Из Астрабада оба войска, соединившись, отправятся на Инд. Персия, исконный враг Англии, естественно, станет нашей союзницей.
— Это так, но, достигнув Пенджаба, вы уже далеко отойдете от союзной Персии, а восьмидесятитысячной армии совсем не легко тащить за собой обозы с провиантом.
— Вы забываете, — возразил Бонапарт с такой уверенностью, будто поход уже начался, — вы забываете, что я оставил своих банкиров в Тегеране и в Кабуле. Ну-ка, вспомните, что случилось девять лет назад во время похода лорда Корнуоллиса, сражавшегося против Типпу Сахиба: у командующего не хватило припасов, и тогда какой-то простой капитан… не помню, как его звали…
— Капитан Малькольм, — подсказал лорд Тенли.
— Вот именно! — воскликнул Бонапарт. — Я вижу, вы хорошо осведомлены. Капитан Малькольм вступил в переговоры с племенем бринджари, индийских цыган, которые кочуют по всему Индостану и торгуют зерном. Эти цыгане служат верой и правдой тем, кто им хорошо платит: они-то и снабдят мою армию провиантом.
— Но придется переправиться через Инд.
— Ну что же? — отвечал Бонапарт. — Фронт у меня растянут на шестьдесят льё между Дераисмаилханом и Аттоком. Я знаю Инд не хуже, чем Сену. Эта река течет медленно, по одному льё в час; ее средняя глубина в этом месте от двенадцати до пятнадцати футов, и на линии фронта можно чуть ли не в десяти местах переправиться вброд.
— Значит, вы уже составили план наступления? — с усмешкой спросил сэр Джон.
— Да, я разверну наступление в плодородной, обильно орошаемой местности, обойду стороной песчаные пустыни, отделяющие низовья Инда от Раджпутана. Именно с этого плацдарма успешно вторгались в Индию все завоеватели, начиная с Махмуда-Газни в тысячном году и кончая Надир-шахом в тысяча семьсот тридцать девятом. А сколько армий за это время прошли тем же путем, на который я собираюсь вступить? Давайте считать! После Махмуда-Газни совершил вторжение Магомет-Гури в тысяча сто восемьдесят четвертом году с войском в сто двадцать тысяч человек; после Магомета-Гури — Тимурленг, или Тимур Хромец, которого мы называем Тамерланом, — с войском в шестьдесят тысяч человек; после Тимурленга — Бабур, после Бабура — Хумаюн. Да что говорить! Индия покорится любому, кто захочет или сумеет ее завоевать.
— Вы забываете, гражданин первый консул, что все завоеватели, которых вы назвали, имели дело лишь с туземными племенами, тогда как вам придется иметь дело с англичанами. У нас в Индии…
— От двадцати до двадцати двух тысяч солдат.
— И вдобавок сто тысяч сипаев.
— Я оцениваю по достоинству силы противника: к Англии я отношусь с уважением, а к Индии — с презрением, как она того заслуживает. Всюду, где я сталкиваюсь с европейской пехотой, я подготовляю вторую, третью, если нужно, четвертую линии обороны, допуская, что три первые могут не выдержать натиска английских штыков. Но там, где я встречаю одних сипаев, — хлыст, вот все, что мне надо, чтобы разогнать этот сброд. У вас есть еще вопросы ко мне, милорд?
— Только один, гражданин первый консул: вы действительно хотите мира?
— Вот письмо, в котором я предлагаю мир вашему королю, милорд, и, чтобы быть уверенным, что оно будет вручено его величеству Британскому, я прошу племянника лорда Гранвилла быть моим посредником.
— Все будет исполнено согласно вашему желанию, гражданин, ручаюсь в этом головой и за себя, и за своего дядю.
— Когда вы сможете выехать?
— Я отправляюсь в путь через час.
— Не хотите ли высказать какое-нибудь желание перед отъездом?
— Нет. Во всяком случае, если бы и хотел, я оставляю все полномочия моему другу Ролану.
— Дайте руку, милорд, это добрая примета, ибо вы представляете здесь Англию, а я Францию.
Сэр Джон принял оказанную ему честь со сдержанным достоинством, выразив как чувство симпатии к Франции, так и чувство национальной гордости. Затем, с братской сердечностью пожав руку Ролану, он в последний раз отвесил поклон первому консулу и вышел.
Проводив его взглядом, Бонапарт задумался на минуту и вдруг заявил:
— Ролан, я не только даю согласию на брак твоей сестры с лордом Тенли, но даже хочу этого. Слышишь, я этого хочу!
Он произнес эти слова с особенным ударением, и всякому, кто знал первого консула, становилось ясно, что они означали не "я хочу", но "я требую!".
Ролан, охотно подчинявшийся тирании первого консула, горячо поблагодарил его за это решение.
XXXVIII
ДВА СИГНАЛА
Расскажем о том, что произошло в замке Черных Ключей три дня спустя после описанных нами событий в Париже.
После того как сначала Ролан, затем г-жа де Монтревель с сыном и наконец сэр Джон отправились в Париж: Ролан — к своему генералу, г-жа де Монтревель — чтобы устроить сына в военную школу, и сэр Джон — чтобы открыть Ролану свою сердечную тайну, — Амели и Шарлотта остались в замке Черных Ключей совершенно одни.
Мы говорим "одни", потому что Мишель с сыном Жаком жили не в самом замке, а в сторожке у въездных ворот, исполняя обязанности привратника и садовника.
Поэтому по вечерам во всех этажах замка окна оставались темными, кроме окошка в спальне Амели, расположенной, как мы знаем, во втором этаже над садом, да в каморке Шарлотты в мансарде четвертого этажа.
Вторую горничную г-жа де Монтревель увезла с собой.
Обе девушки должны были чувствовать себя очень одинокими в многочисленных комнатах пустого четырехэтажного здания, особенно теперь, когда ходило столько слухов о разбойничьих нападениях на дорогах, поэтому Мишель вызвался ночевать в главном корпусе, чтобы в случае опасности прийти им на помощь, но молодая хозяйка решительно заявила, что ничего не боится и ничего не хочет менять в обычном распорядке.
Мишель больше не настаивал, заверив мадемуазель, что она может спать спокойно, так как они с Жаком будут ходить дозором вокруг замка.
Обещание Мишеля делать обход поначалу как будто встревожило Амели, но вскоре она убедилась, что Мишель и Жак проводят ночи в охотничьем шалаше на опушке Сейонского леса; судя по тому, что к обеду часто подавали то спинку зайца, то заднюю ножку косули, было ясно: Мишель выполняет свое обещание ходить кругом замка.
Амели перестала беспокоиться, ибо Мишель ходил дозором не там, где она боялась, а в противоположной стороне.
И вот, как мы уже говорили, три дня спустя после описанных нами событий, или, точнее, на четвертую ночь, с одиннадцати до двенадцати, всякий, кто привык видеть свет лишь в спальне Амели да в каморке Шарлотты, мог бы с удивлением заметить четыре освещенных окна во втором этаже замка Черных Ключей.
Правда, в каждом из окон горела всего одна свеча.
Он мог бы увидеть также силуэт молодой девушки, которая сквозь занавески упорно глядела вдаль, в сторону селения Сейзериа.
Это была Амели, бледная, трепещущая; казалось, она с тревогой ожидала какого-то сигнала.
Через несколько минут она вздохнула с облегчением и вытерла влажный лоб.
Там, вдалеке, куда был устремлен ее взгляд, внезапно зажегся огонек.
Амели поспешно прошла по комнатам и потушила одну за другой три свечи, оставив лишь ту, что горела в ее спальне.
Далекий огонек сразу погас, будто ожидал этого сигнала.
Девушка уселась перед окном и замерла неподвижно, устремив глаза во мрак сада.
Стояла темная ночь, без звезд, без лунного света, однако через четверть часа Амели разглядела, или скорее угадала, тень человека, который пересекал лужайку, направляясь к замку.
Она переставила свечу в дальний угол спальни и, вернувшись к окну, растворила его настежь.
Тот, кого она ждала, уже влез на балкон.
Как и в ту, уже описанную нами ночь, он ловко взобрался наверх и, обняв девушку за талию, повлек ее за собой в глубь комнаты.
Слегка отстранившись, Амели ощупью отыскала шнурок жалюзи, отцепила его от гвоздя, на котором он держался, и жалюзи опустилось со стуком, заставившим ее вздрогнуть.
Потом она затворила окно и пошла за свечой в дальний угол комнаты.
Пламя свечи осветило лицо Амели.
Молодой человек невольно вскрикнул, увидев ее полные слез глаза.
— Что случилось? — спросил он.
— Большое несчастье! — ответила девушка.
— О, я так и подумал, увидев условный сигнал, которым ты вызывала меня, хотя я был здесь прошлой ночью… Но скажи, это несчастье непоправимо?
— Боюсь, что так! — вздохнула Амели.
— Надеюсь, беда угрожает только мне?
— Беда угрожает нам обоим.
Молодой человек дрожащей рукой вытер пот со лба.
— Говори, прошу тебя! Я собрался с духом.
— Может быть, у тебя хватит сил это выслушать, но я не в силах все рассказать, — отвечала Амели и, взяв конверт с камина, протянула своему возлюбленному. — Прочти сам; вот что я получила с вечерней почтой.
Молодой человек взял письмо и, развернув его, прежде всего взглянул на подпись.
— Письмо от госпожи де Монтревель! — воскликнул он.
— Да, и приписка от Ролана.
Морган начал читать:
"Милая моя девочка, я искренне надеюсь, что новость, которую я сообщаю, обрадует тебя так же, как обрадовала меня и нашего дорогого Ролана. Сэр Джон, которого ты считала человеком бездушным и называла автоматом из механических мастерских Вокансона, признает, что он действительно был таким до того дня, как впервые увидел тебя; но он уверяет, что с той минуты в нем пробудилось сердце, и это сердце пылает любовью к тебе.
Могла ли ты, дорогая Амели, догадаться об этом по его поведению, по его учтивым аристократическим манерам, когда даже твоя мать ничего не заметила?
Сегодня утром, за завтраком, сэр Джон официально попросил у Ролана твоей руки. Твой брат был очень обрадован этим предложением, однако ничего не мог обещать заранее: первый консул, посылая Ролана в Вандею, сказал ему, что сам позаботится о твоем замужестве. Но потом первый консул пожелал видеть лорда Тети, принял его, и тот, при всей своей английской чопорности, сразу же снискал его расположение. Бонапарт тут же направил сэра Джона с важным поручением к его дяде лорду Гранвиллу. Лорд Тети немедленно отбыл в Англию.
Я не знаю, надолго ли уехал сэр Джон, но, вернувшись, он, несомненно, попросит разрешения нанести тебе визит в качестве жениха.
Лорд Тети еще молод, недурен собой и очень богат; у него весьма влиятельная родня в Англии, и он друг Ролана. Я не знаю другого человека, считая Амели, более достойного если не любви твоей, то твоего глубокого уважения. Теперь в двух словах обо всем остальном.
Первый консул по-прежнему необычайного добр ко мне и к обоим твоим братьям, а госпожа Бонапарт дала мне понять, что сразу же после твоего замужества призовет тебя к себе.
Сейчас решается вопрос о переезде из Люксембургского дворца во дворец Тюильри. Ты понимаешь, какое важное значение имеет эта перемена резиденции?
Твоя любящая мать
Клотильда де Монтревель".
Молодой человек тут же перешел к приписке Ролана. Она состояла из нескольких фраз:
"Ты прочла, дорогая сестричка, письмо нашей матушки. Этот брак я считаю удачным во всех отношениях. В этом вопросе ты не должна упрямиться: первый консул желает, чтобы ты стала леди Тенли, следовательно, он этого требует.
Я покидаю Париж на несколько дней; если мы не увидимся, ты обо мне услышишь.
Обнимаю тебя.
Ролан".
— Ну, что ты об этом скажешь, Шарль? — спросила Амели, когда Морган прочитал письмо до конца.
— Мы должны были ожидать этого рано или поздно, мой бедный ангел, тем не менее это ужасно.
— Что нам делать?
— Тут есть три возможности.
— Говори.
— Прежде всего ты можешь ответить отказом, если у тебя хватит решимости; это самый простой и самый надежный выход.
Амели потупилась.
— Но ты никогда не осмелишься, не правда ли?
— Никогда.
— Но ведь ты моя жена, Амели: священник благословил наш союз.
— Они скажут, что этот брак недействителен перед законом, раз только священник благословил нас.
— А разве тебе, жене изгнанника, — спросил Морган, — разве тебе недостаточно благословения?
При этих словах голос его задрожал.
Амели порывисто бросилась в его объятия.
— Но моя мать! — воскликнула она. — Матушка не была при этом и не благословила нас.
— Оттого, что это был чрезвычайно опасный шаг, мы пошли на него одни и не хотели подвергать ее риску.
— А этот страшный человек?.. Ведь мой брат написал, что он этого требует.
— О, если бы ты любила меня, Амели, этот человек понял бы, что он может перестроить государство, развязать войну в разных частях света, создать законодательство, воздвигнуть трон, но не в силах заставить женщину сказать "да", если ее сердце говорит "нет".
— Если бы я любила тебя? — повторила Амели с нежным упреком. — Сейчас полночь, ты у меня в спальне, я в твоих объятиях, я, дочь генерала Монтревеля, сестра Ролана, а ты говоришь: "Если бы ты любила меня!"
— Я не прав, я не прав, любимая! Знаю, что тебя с детства учили преклоняться перед этим человеком; ты не понимаешь, как можно восставать против него, его противники в твоих глаза просто бунтовщики.
— Шарль, ты говорил, что у нас есть три выхода. Какой же второй?
— Для виду согласиться на этот брак, но под всякими предлогами откладывать свадьбу как можно дальше. Ведь человек не вечен.
— Но сэр Джон слишком молод, чтобы мы могли рассчитывать на его смерть. Какой же третий выход, друг мой?
— Бежать вместе… но это крайнее средство, Амели. Тут есть два препятствия: во-первых, твоя щепетильность…
— Я принадлежу тебе, Шарль, ради тебя я преодолею все свои сомнения…
— И второе препятствие — мои обязательства.
— Какие обязательства?
— Мои товарищи связаны со мной, Амели, а я неразрывно связан с ними. У нас тоже есть человек, которому мы повинуемся, которому мы поклялись в верности. Этот человек — будущий король Франции. Если тебе понятна преданность твоего брата Бонапарту, ты должна понять нашу преданность Людовику Восемнадцатому.
Амели тяжело вздохнула, закрыв лицо руками.
— Тогда мы погибли, — сказала она.
— Почему же? Под разными предлогами, особенно из-за слабого здоровья, ты можешь отложить свадьбу на год. Еще до истечения года Бонапарт, вероятно, будет вынужден снова начать войну в Италии. При первом же поражении он потеряет весь свой авторитет. Словом, за год произойдет много перемен.
— Ты, должно быть, не прочел приписки Ролана, Шарль?
— Прочел, но не вижу там ничего нового: все сказано в письме твоей матери.
— Прочитай еще раз последнюю фразу.
И Амели протянула письмо молодому человеку.
Он прочел:
"Я покидаю Париж на несколько дней; если мы не увидимся, ты обо мне услышишь".
— И что же?
— Понимаешь, что это означает?
— Нет.
— Это значит, что Ролан отправился в погоню за вами.
— Что за беда, раз никто из наших не может его убить.
— Зато ты, несчастный, можешь погибнуть от его руки!
— Ты думаешь, я буду на него в обиде, если он убьет меня, Амели?
— О Боже! В самых ужасных моих предположениях такая мысль не приходила мне в голову!
— Итак, ты думаешь, что твой брат преследует нас?
— Я убеждена.
— Откуда у тебя такая уверенность?
— Он поклялся отомстить вам над телом сэра Джона, которого считал мертвым.
— Ох, если бы он был мертвым, — с горечью промолвил Морган, — мы не оказались бы в таком ужасном положении, Амели.
— Господь спас его, Шарль; значит, это хорошо, что он остался в живых.
— Хорошо для нас с тобой?..
— Пути Господни неисповедимы… Заклинаю тебя, Шарль, любимый мой, остерегайся Ролана — он уже близко.
Морган недоверчиво усмехнулся.
— Уверяю тебя, он не только близко отсюда, он уже здесь: его видели.
— Его видели? Где? Кто?
— Кто видел?
— Да.
— Шарлотта, моя служанка, дочь тюремного смотрителя. Вчера, в воскресенье, она просила разрешения навестить своих родных; я ждала тебя и отпустила ее до утра.
— И что же?
— Она ночевала у родителей. В одиннадцать вечера жандармский капитан привел в тюрьму арестантов. Пока их записывали в книги, явился человек, закутанный в плащ, и вызвал капитана. Голос показался Шарлотте знакомым; она стала присматриваться и, когда под капюшоном на миг открылось лицо, узнала моего брата.
Морган невольно вздрогнул.
— Ты понимаешь, Шарль? Мой брат внезапно появляется здесь, в Бурке. Приезжает тайком, не предупредив меня. Мой брат вызывает жандармского капитана, следует за ним в тюрьму, говорит с ним наедине и потом исчезает. Разве это не угрожает бедой нам и нашей любви? Подумай сам!
По мере того как Амели говорила, лицо ее возлюбленного становилось все мрачнее.
— Амели! — сказал он. — Когда мы с товарищами вступали в тайный союз, ни один из нас не скрывал от себя грозящую нам опасность.
— Но вы, по крайней мере, сменили пристанище? — спросила Амели. — Вы покинули Сейонский монастырь?
— В нем остались только наши мертвецы, они покоятся там и теперь.
— А эта пещера Сейзериа достаточно надежное укрытие?
— Да, насколько может быть надежно укрытие с двумя выходами.
— В Сейонском монастыре тоже было два выхода, однако, ты сам говоришь, там остались ваши мертвецы.
— Мертвые в большей безопасности, чем живые: им не грозит смерть на эшафоте.
Амели задрожала всем телом.
— Шарль! — пошептала она с мольбой.
— Послушай, — сказал Морган, — Бог мне свидетель, и ты сама должна подтвердить, что на наших свиданиях я всегда старался рассеять улыбкой и веселой шуткой и твои мрачные предчувствия, и мои опасения. Но теперь положение изменилось: нам предстоит жестокая борьба. Чем бы дело ни кончилось, мы приближаемся к развязке. Я не требую от тебя безрассудных клятв, дорогая Амели, как иные эгоистичные любовники, которым грозит опасность, я не прошу тебя любить мертвеца, хранить верность трупу…
— Милый друг, — прервала его девушка, положив ему руку на плечо, — перестань, ты начинаешь сомневаться во мне.
— Нет, я верю в тебя, я предоставлю тебе добровольно принести эту великую жертву, но не хочу связывать никакой клятвой.
— Пусть будет так, — ответила Амели.
— Но вот чего я требую, — продолжал Шарль, — вот в чем ты должна поклясться нашей любовью — увы! столь роковой для тебя, — если меня схватят, обезоружат, бросят в тюрьму, приговорят к смерти, то я прошу, я требую, Амели, чтобы ты любым способом достала и передала оружие не только мне, но и моим товарищам. Тогда мы сами сможем решить свою судьбу.
— Но если так случится, Шарль, разве ты не позволишь мне открыться во всем, воззвать к родственным чувствам моего брата, к благородству первого консула?
Не дав ей договорить, Морган крепко стиснул ее руку.
— Амели! — воскликнул он. — Теперь ты должна дать мне не одну, а две клятвы. Прежде всего поклянись, что никогда не будешь просить о моем помиловании. Поклянись, Амели, поклянись!
— Зачем клясться, мой друг? — спросила девушка, разрыдавшись. — Я просто обещаю тебе.
— Поклянись той священной минутой, когда я открылся тебе в любви, когда ты призналась, что любишь меня.
— Клянусь твоей жизнью, моей жизнью, нашим прошлым и будущим, нашими улыбками, нашими слезами!
— Пойми, что в этом случае я все равно умру, Амели, даже если мне придется размозжить голову о стену, но умру обесчещенным.
— Обещаю тебе, Шарль.
— Остается последняя просьба, Амели: если нас заключат в тюрьму и приговорят к смерти, доставь нам оружие или яд — что хочешь, помоги нам умереть любым способом. Смерть, пришедшая от тебя, будет мне сладостна.
— Вблизи или вдалеке, на свободе или в темнице, живой или мертвый, — ты мой господин, я твоя раба; приказывай, я повинуюсь!
— Вот и все, Амели. Видишь, как просто и ясно: не просить о пощаде и достать оружие.
— Просто и ясно, но как жестоко!
— Ты все сделаешь, не правда ли?
— Ты этого хочешь?
— Умоляю тебя!
— Приказ это или просьба, мой любимый Шарль, твоя воля будет исполнена.
Молодой человек, поддерживая левой рукой бледную, обессилевшую девушку, склонился к ее лицу.
В ту минуту, когда их губы готовы были слиться в поцелуе, послышался крик совы так близко от окна, что Амели вздрогнула, а Шарль поднял голову.
Крик раздался второй раз, потом третий.
— Ты слышишь? — прошептала Амели. — Эта птица предвещает несчастье. Друг мой, мы обречены.
Шарль покачал головой.
— Это не крик совы, Амели, — сказал он. — Это призывный сигнал, его подает кто-то из моих товарищей. Потуши свечу.
Амели погасила огонь, меж тем как ее возлюбленный отворял окно.
— О Боже, даже сюда, ко мне, — прошептала она, — они пришли за тобой даже сюда.
— Но это наш друг, верный человек, граф де Жайа; никто другой не знает, где меня найти.
Шарль спросил, выглянув на балкон:
— Это ты, Монбар?
— Да. Ты здесь, Морган?
— Здесь.
Из-за деревьев вышел человек.
— Последние новости из Парижа, нельзя терять ни минуты. Нам всем грозит смертельная опасность.
— Слышишь, Амели?
И, заключив девушку в объятия, он судорожно прижал ее к сердцу.
— Ступай! — промолвила она слабым голосом. — Ступай, разве ты не слышал, что речь идет о жизни всех вас?
— Прощай, Амели, прощай, моя любимая!
— О, не говори "прощай"!
— Нет, конечно, нет! До свидания!
— Морган! Морган! — раздался голос незнакомца, который ждал под балконом.
Молодой человек последний раз приник губами к устам Амели; подбежав к окну, он перелез через перила балкона и одним прыжком оказался рядом со своим другом.
Амели со стоном бросилась к балюстраде, но успела разглядеть только две тени, которые скрылись во мраке, среди густых деревьев парка.
Назад: Часть вторая
Дальше: XXXIX ПЕЩЕРА СЕЙЗЕРИА

