Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 32. Сальватор. Часть. 1,2
Назад: Александр Дюма Сальватор Части первая и вторая
Дальше: IX ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ
Часть первая
I
СКАЧКИ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Двадцать седьмого марта, в предрассветный час, небольшой городок Кель — если только можно назвать Кель городом, — итак, небольшой городок Кель, как мы сказали, пришел в волнение. Вниз по единственной улице города неслись две почтовые кареты. Казалось, что, в ту минуту как они помчатся по понтонному мосту, ведущему во Францию, одно неверное движение — и лошади, форейторы, кареты, седоки полетят в реку с поэтическим названием, которая овеяна легендами и служит восточной границей Франции.
Однако обе кареты, будто состязавшиеся в скорости, проехав две трети улицы, замедлили ход и наконец остановились у ворот гостиницы, над которыми раскачивалась, поскрипывая, железная вывеска; на ней был намалеван господин в треуголке, высоких сапогах со шпорами и непомерно длинном синем мундире с красными отворотами; вывеска гласила: «У Великого Фридриха».
Хозяин гостиницы и его жена, издали заслышав грохот колес, выскочили на порог; они уж и не надеялись заполучить клиентов, видя эту бешеную скачку; однако, к неописуемому удовольствию хозяев, обе почтовые кареты остановились у их дома. Хозяин поспешил к дверце первой кареты, а его жена бросилась к другой.
Из первого экипажа проворно выскочил господин лет пятидесяти в наглухо застегнутом рединготе, черных панталонах и широкополой шляпе. Он смотрел уверенно; у него были жесткие усы, изогнутые брови, волосы бобриком; брови, как и глаза, над которыми они нависали, были черные, а волосы и усы — с проседью. Он был закутан в широкий плащ.
Из другой кареты не спеша вышел молодцеватый господин крепкого сложения; на нем были полонез, обшитый брандербурами, и плащ-венгерка или, правильнее было бы сказать, расшитая губа, в которую он завернулся с головы до пят.
При виде этой богатой венгерки и непринужденного достоинства, с которым держался ее владелец, можно было побиться об заклад, что перед вами знатный валашский господарь проездом из Ясс или Бухареста или, по крайней мере, богатый мадьяр из Пешта, направляющийся во Францию для утверждения какого-нибудь дипломатического документа. Однако очень скоро вы поняли бы свою ошибку, если бы вгляделись в знатного иностранца пристальнее. Несмотря на густые бакенбарды, обрамлявшие его лицо, несмотря на длинные усы, которые он подкручивал кверху с нарочитой небрежностью, вы без труда распознали бы под аристократической внешностью вульгарные манеры и наш незнакомец был бы исключен из разряда владетельных особ, или аристократов, куда мы его поначалу определили, и занял бы свое место среди управляющих знатным домом или захудалых офицеришек.
Читатель, несомненно, узнал в путешественнике, вышедшем из первого экипажа, г-на Сарранти, как, очевидно, признал и метра Жибасье в том, кто вылезал из второй кареты.
Надеемся, вы не забыли, что г-н Жакаль, отправившийся в сопровождении Карманьоля в Вену, поручил Жибасье дожидаться г-на Сарранти в Келе. Жибасье пробездельничал четверо суток в почтовой гостинице; на пятый день вечером он увидел, как вдали показался Карманьоль верхом на почтовой лошади; поравнявшись с Жибасье, он, не спешиваясь, передал ему от имени Жакаля, что г-н Сарранти должен прибыть на следующее утро, 26-го; Жибасье предписывалось вернуться в Штейнбах, где у гостиницы «Солнце» его будет ожидать почтовая карета, а в ней — костюм, необходимый для исполнения полученных приказаний.
Приказания были незамысловаты, но исполнить их было не так уж просто: не терять из виду г-на Сарранти, тенью следовать за ним на протяжении всего пути, а по прибытии в Париж не отставать от него ни на шаг, но так, чтобы он ничего не заметил.
Господин Жакаль полагался на известную всем ловкость, с которой Жибасье умел изменять свою внешность.
Жибасье без промедления отправился в Штейнбах, отыскал гостиницу, в гостинице — карету, а в карете — несколько костюмов, из которых он и выбрал, сообразуясь с неудобствами в пути, тот, что потеплее; в нем он только что и предстал перед нами.
Но, к его удивлению, минуло 26 марта, настал вечер, а он так и не заметил никого, кто напоминал бы описанного ему господина.
Наконец, около двух часов ночи, он услышал щелканье кнута и звон колокольчиков. Он велел заложить карету и, убедившись, что прибывший путешественник и есть г-н Сарранти, приказал форейтору трогать и следовать обычным маршрутом.
Десять минут спустя г-н Сарранти, задержавшись в гостинице лишь на то время, которое было необходимо, чтобы переменить лошадей и выпить бульону, в свою очередь отправился в путь, следуя за тем, кому было поручено негласно сопровождать его самого.
Все произошло так, как предполагал Жибасье. В двух льё от Штейнбаха его нагнал экипаж г-на Сарранти. Но, согласно правилам того времени, одному путешественнику запрещалось обгонять другого без его разрешения, ибо могло случиться, что на следующей почтовой станции окажется только одна свободная упряжка. Некоторое время кареты ехали одна за другой, и вторая покорно следовала позади. Наконец г-н Сарранти потерял терпение и приказал кучеру попросить Жибасье пропустить его вперед. Жибасье был так любезен, что г-н Сарранти даже вышел из кареты, чтобы лично поблагодарить венгерского дворянина. Затем путешественники раскланялись, г-н Сарранти снова сел в экипаж и, заручившись разрешением, помчался вперед, обгоняя ветер.
Жибасье последовал за ним и велел форейтору не отставать. Тот повиновался, и мы видели, как обе почтовые кареты влетели в Кель и остановились возле гостиницы «У Великого Фридриха».
Путешественники вежливо раскланялись, но не обменялись ни единым словом. Они вошли в гостиницу, сели за разные столы и спросили обед: г-н Сарранти — на чистейшем французском языке, Жибасье — с заметным немецким акцентом.
Продолжая хранить молчание, Жибасье с высокомерным видом отведал все блюда, которые ему подавали, и расплатился. Видя, что г-н Сарранти поднялся, он тоже не спеша встал и молча занял место в экипаже.
Скачка продолжалась. Карета г-на Сарранти по-прежнему была впереди, но всего на двадцать шагов.
К вечеру путешественники подъезжали к Нанси. Форейтор г-на Сарранти был шафером на свадьбе у двоюродного брата; ему совсем не хотелось покидать праздничный ужин ради перегона, который в оба конца составлял одиннадцать льё; узнав от своего товарища, предыдущего форейтора г-на Сорранти, что седок желает ехать как можно скорее, а платит весьма щедро, он пустил лошадей в бешеный галоп, надеясь вернуться на полтора часа раньше обычного и поспеть к началу танцев. Но в то самое мгновение, как карета подъезжала к Нанси, лошади, форейтор, экипаж на быстром спуске опрокинулись и чувствительный Жибасье с криком выскочил из кареты и бросился на помощь г-ну Сарранти.
Впрочем, Жибасье действовал так скорее для очистки совести, ибо был убежден, что после падения, свидетелем которого он явился, пострадавший нуждается скорее в утешениях священника, чем в помощи попутчика.
К своему величайшему изумлению, он увидел, что г-н Сарранти цел и невредим, а у форейтора всего-навсего вывихнуты плечо и нога. Но если Провидение, словно заботливая мать, хранило людей, оно отыгралось на лошадях: одна расшиблась насмерть, у другой оказалась перебита нога. Карета тоже пострадала: одна ось была сломана, а тот бок, на который завалился экипаж, был разбит вдребезги.
О том, чтобы продолжать путешествие, не могло быть и речи.
Господин Сарранти отпустил несколько ругательств, что свидетельствовало о его далеко не ангельском характере. Однако ему ничего другого не оставалось, как смириться, что, он, разумеется, и сделал бы, если бы не мадьяр Жибасье; тот на странном языке, смеси французского с немецким, предложил незадачливому попутчику пересесть в его экипаж.
Предложение пришлось как нельзя кстати, да и сделано оно было, как казалось, от чистого сердца. Господин Сарранти принял его не раздумывая.
Багаж г-на Сарранти перенесли в карету Жибасье, форейтору обещали прислать помощь из Нанси (до города оставалось льё с небольшим), и скачка продолжалась.
Путешественники обменялись приличествующими случаю выражениями. Жибасье не был уверен, что говорит на чистом немецком; подозревая, что г-н Сарранти, хоть он и корсиканец, владеет этим языком в совершенстве, Жибасье старательно избегал расспросов и на любезности своего попутчика отвечал лишь «да» и «нет», причем акцент его становился все более французским.
В Нанси карета остановилась у гостиницы «Великий Станислав»; там же находилась почтовая станция.
Господин Сарранти вышел из кареты, рассыпался в благодарностях и хотел было откланяться.
— Вы совершаете оплошность, сударь, — заметил Жибасье. — Мне показалось, что вы торопитесь в Париж. Вашу карету до завтра починить не успеют, и вы упустите целый день.
— Это тем более прискорбно, — согласился Сарранти, — что такое же несчастье приключилось со мной, когда я выезжал из Регенсбурга, и я уже потерял целые сутки.
Теперь Жибасье стало ясно, почему г-н Сарранти задержался с прибытием в Штейнбах, что заставило поволноваться мнимого мадьяра.
— Впрочем, — продолжал г-н Сарранти, — я не стану дожидаться, пока починят мою карету: куплю себе другую.
И он приказал станционному смотрителю подыскать ему экипаж, причем все равно какой: коляску, двухместную карету, ландо или даже кабриолет — лишь бы можно было немедленно отправиться в путь.
Жибасье подумал, что, как бы скоро это приказание ни было исполнено, он успеет поужинать, пока его попутчик осмотрит новый экипаж, сторгуется и перенесет в него свой багаж. Наш осмотрительный герой никогда не упускал возможности подкрепиться, а у него с восьми часов утра, то есть с самого Келя, и крошки во рту не было (хотя в случае необходимости его желудок мог соперничать в воздержанности с желудком верблюда).
Очевидно, г-н Сарранти счел за благо последовать примеру благородного мадьяра; и вот оба путешественника, как и утром, сели за разные столы, звякнули в колокольчик, подзывая официанта, и с интонацией, указывавшей на похвальное единство во взглядах, приказали:
— Официант, ужинать!
II
ГОСТИНИЦА «ВЕЛИКИЙ ТУРОК»
НА ПЛОЩАДИ СЕНТ-АНДРЕ-ДЕЗ-АР
Для тех из наших читателей, кого удивило то обстоятельство, что г-н Сарранти отклонил предложение г-на Жибасье — столь приемлемое для человека, который торопится, — скажем: если и есть кто-нибудь хитрее сыщика, преследующего человека, так это именно преследуемый.
Возьмите, к примеру, лисицу и борзую…
В душе у г-на Сарранти зародились пока еще неясные подозрения относительно этого мадьяра, что так плохо говорит по-французски, но в то же время вразумительно отвечает на все вопросы, и, напротив, когда к нему обращаются по-немецки, по-польски или по-валашски (а этими тремя языками г-н Сарранти владел в совершенстве), тот невпопад отвечает «ja» или «nein», сейчас же кутается в свою губу и прикидывается спящим.
После того как г-н Сарранти был вынужден проехать в его обществе полтора льё от места, где разбилась карета, до гостиницы, где только что был заказан ужин, он лишь укрепился в своих подозрениях и решил во что бы то ни стало обойтись без помощи любезного, но весьма скупого на слова попутчика.
Вот почему он потребовал новый экипаж, не имея возможности дожидаться, пока починят разбитую карету, и не желая продолжать путь в обществе благородного венгерца.
Жибасье был слишком хитер, чтобы не заметить этого недоверия, и тут же, прямо за ужином, приказал немедленно закладывать лошадей, объяснив это необходимостью прибыть на следующий день в Париж, где его с нетерпением ожидает посол Австрии.
Когда карета была готова, Жибасье, величественно выпрямившись, кивнул на прощание Сарранти, надвинул меховой колпак по самые уши и вышел из гостиницы.
Раз г-н Сарранти торопится, вполне вероятно, что он выберет кратчайший путь, во всяком случае до Линьи. Там, очевидно, он оставит Барле-Дюк справа и по ансервильской дороге отправится через Сен-Дизье в Витри-ле-Франсе.
А вот что будет после Витри-ле-Франсе? Отправится г-н Сарранти в объезд через Шалон или изберет прямой путь через Фер-Шампенуаз, Куломье, Креси и Ланьи?
До Витри-ле-Франсе разрешить этот вопрос г-ну Жибасье было не под силу.
Он приказал ехать через Туль, Линьи, Сен-Дизье, однако в полульё от Витри остановил форейтора, посовещался с ним, и спустя несколько минут его карета оказалась на боку с перебитой передней осью.
Жибасье провел полчаса в этом плачевном положении, так хорошо известном и, следовательно, столь же хорошо понятном г-ну Сарранти, почтовая карета которого показалась наконец на подъеме.
Подъехав к опрокинутому экипажу, г-н Сарранти выглянул из кареты и увидел на дороге мадьяра: призвав на помощь форейтора, тот безуспешно пытался привести свой экипаж в порядок.
Со стороны г-на Сарранти покинуть Жибасье в подобном затруднении было бы нарушением всяких приличий, ведь при таких же обстоятельствах Жибасье предоставил в его распоряжение собственный экипаж.
Итак, он предложил мадьяру место в своей карете, что Жибасье и принял с замечательной скромностью, предупредив, что будет стеснять своим присутствием его превосходительство г-на де Борни (под этим именем путешествовал г-н Сарранти) только до Витри-ле-Франсе.
Необъятных размеров багаж мадьяра перенесли в карету г-на де Борни, и двадцать минут спустя они уже были в Витри-ле-Франсе.
Карета остановилась у почтовой станции.
Господин де Борни спросил свежих лошадей, Жибасье — какую-нибудь двуколку, чтобы продолжить путь.
Станционный смотритель указал на старый кабриолет в сарае; похоже, Жибасье остался доволен экипажем, несмотря на его ветхость.
Не беспокоясь больше о судьбе попутчика, г-н де Борни откланялся и приказал кучеру следовать в Фер-Шампенуаз, как и предвидел Жибасье.
Наш мадьяр сторговался со станционным смотрителем и пустился в путь, наказав форейтору ехать той же дорогой, что и его прежний попутчик.
Он обещал форейтору пять франков в награду, если они нагонят карету.
Тот пустил лошадей во весь опор, но Жибасье прибыл на следующую станцию, так никого и не встретив на дороге.
Там он расспросил станционного смотрителя и узнал, что никто не проезжал со вчерашнего дня.
Стало ясно: Сарранти, заподозрив неладное, во всеуслышание приказал кучеру ехать через Фер-Шампенауз, а на самом деле выбрал шалонскую дорогу.
Жибасье остался позади Сарранти.
Нельзя было терять ни минуты, чтобы приехать в Мо раньше его.
Жибасье бросил кабриолет, вынул из чемодана синий с золотом костюм правительственного курьера, надел лосины, мягкие сапоги, забросил за плечо мешок для депеш, сорвал фальшивые бороду и усы и приказал подать почтовую лошадь.
Вмиг лошадь была оседлана, и вот уже Жибасье мчался по сезанской дороге. Он рассчитывал добраться в Мо через Ла-Ферте-Гоше и Куломье.
Не останавливаясь, он проехал тридцать льё.
Через Мо не проследовал ни один экипаж, похожий на тот, что Жибасье описал смотрителю. Приказав подать ужин на кухне, он стал ждать.
Оседланная лошадь стояла наготове.
Так прошел час, и вот, наконец, прибыла ожидаемая с таким нетерпением карета.
Стояла глубокая ночь.
Господин Сарранти приказал подать бульон прямо в карету, а затем велел ехать в Париж через Кле; этого только и нужно было Жибасье.
Он вышел во двор, вскочил на коня и, обогнув улочку, выехал на парижскую дорогу.
Через десять минут он увидел позади огни — два фонаря на почтовой карете г-на Сарранти.
Все случилось так, как хотел Жибасье: он видел, оставаясь незамеченным. Теперь надо было подумать о том, чтобы его не слышали.
Он свернул на обочину и скакал, по-прежнему опережая карету на километр.
Прибыли в Бонди.
Там, словно по мановению руки, правительственный курьер обратился в форейтора, а тот возница, что должен был отправляться в дорогу, за пять франков с радостью уступил ему свою очередь.
Подъехал г-н Сарранти.
До Парижа оставалось совсем близко, и можно было не выходить из кареты; он выглянул из окна и спросил свежих лошадей.
— А вот они, хозяин, да какие! — подал голос Жибасье.
В самом деле, пара отличных белых першеронов уже была наготове: лошади ржали и били копытом.
— Да стойте вы смирно, окаянные! — закричал Жибасье, запрягая их с ловкостью заправского кучера.
Взнуздав лошадей, мнимый кучер подошел к дверце кареты с шапкой в руке и спросил:
— Куда едем, хозяин?
— Площадь Сент-Андре-дез-Ар, гостиница «Великий турок», — отвечал г-н Сарранти.
— Отлично! — отозвался Жибасье. — Считайте, что вы уже там.
— Как скоро мы будем на месте? — спросил г-н Сарранти.
— Через час с четвертью, если не будем нигде останавливаться! — пообещал Жибасье.
— Скорее в путь! Десять франков чаевых, если приедем через час.
— Как прикажете, хозяин.
Жибасье вскочил на подседельную лошадь и пустил коней в галоп.
Теперь-то он был уверен, что Сарранти от него не ускользнет.
Подъехали к заставе. Таможенники произвели краткий досмотр, которым они удостаивают путешественников, разъезжающих на почтовых, произнесли заветное слово «Поезжайте!», и г-н Сарранти, покинувший Париж семь лет назад через заставу Фонтенбло, теперь въезжал в столицу через заставу Птит-Виллет.
Четверть часа спустя карета влетела во двор гостиницы «Великий турок» на площади Сент-Андре-дез-Ар.
Оказалось, что в гостинице всего две свободные комнаты, расположенные одна против другой: № 6 и № 11.
Господин Сарранти выбрал комнату № 6, и лакей проводил его до двери.
Когда лакей спустился во двор, его окликнул Жибасье:
— Эй, скажите-ка, дружище…
— В чем дело, кучер? — презрительно отозвался лакей.
— Кучер! Кучер! — повторил Жибасье. — Нуда, я кучер. Что дальше? Разве в этом есть что-то унизительное?
— Да нет, конечно. Просто я вас называю кучером, раз вы кучер.
— Ну и ладно!
И он, ворча под нос, направился было к лошадям.
— Так чего вам было от меня нужно? — полюбопытствовал лакей.
— Мне? Ничего.
— А вы ведь только сейчас спросили…
— Что именно?
— «Скажите-ка, дружище!»
— Да, верно… Дело-то вот в чем: господин Пуарье… Вы, разумеется, его знаете?..
— Какого Пуарье?
— Ну, господина Пуарье.
— Не знаю я никакого господина Пуарье.
— Господина Пуарье, фермера из наших мест… Разве не знаете? У господина Пуарье стадо в четыреста голов! Не знаете господина Пуарье?..
— Да говорю же вам, что я его не знаю.
— Тем хуже! Он приедет одиннадцатичасовым дилижансом из Плад’Этена… Знаете дилижанс из Плад’Этена?
— Нет.
— Вы, стало быть, не знаете ничего? Чему же вас мать с отцом обучили, если вы не знаете ни господина Пуарье, ни дилижанса из Плад’Этена?.. Да-а, надобно признать, что есть на свете легкомысленные родители.
— Да при чем здесь господин Пуарье?
— Я собирался передать вам от него сто су, но раз вы его не знаете…
— Я не против познакомиться.
— Если уж вы его не знаете…
— А зачем ему давать мне сто су? Не за красивые же глаза?..
— Нет, конечно, принимая во внимание, что вы косой.
— Неважно! Так почему господин Пуарье вам поручил передать мне сто су?
— Он хотел снять номер в гостинице, потому что у него есть дельце в Сен-Жерменском предместье; он мне сказал: «Шарпийон!..» Так меня зовут — Шарпийон, и это имя передается в нашей семье от отца к сыну…
— Очень приятно, господин Шарпийон, — заметил лакей.
— Он мне сказал: «Шарпийон! Передашь сто су служанке гостиницы „Великий турок“ на площади Сент-Андре-дез-Ар, пусть оставит за мной комнату». А где ваша служанка?
— Это ни к чему! Я сниму для него номер ничуть не хуже, чем она.
— Ну нет! Раз вы его не знаете…
— Это совсем не обязательно для того, чтобы снять комнату.
— И правда! Не так вы глупы, как кажетесь!
— Благодарю!
— Вот сто су. Так вы сможете его узнать, когда он приедет?
— Господин Пуарье?
— Да.
— А он себя назовет?
— Ну, конечно! У него нет оснований скрывать свое имя.
— Тогда я провожу его в одиннадцатый номер.
— Как увидите жизнерадостного толстяка, закутанного в кашне и в коричневый редингот, смело можете сказать: «Вот господин Пуарье». Ну, спокойной ночи! Да хорошенько натопите одиннадцатый номер, ведь господин Пуарье мерзляк… Да, вот еще что. Мне кажется, он обрадуется, если в номере его будет дожидаться хороший ужин.
— Договорились! — кивнул лакей.
— Ох, как же это я мог забыть!.. — воскликнул мнимый Шарпийон.
— Что такое?
— Да самое главное! Он пьет только бордо!
— Отлично! Бутылка бордо будет ждать его на столе.
— В таком случае, ему нечего больше и желать, кроме как иметь такие же глаза, как у тебя: тогда он сможет смотреть в сторону Бонди, дабы убедиться, не горит ли Шарантон.
Расхохотавшись собственной остроумной шутке, мнимый кучер покинул гостиницу «Великий турок».
А через четверть часа у ворот гостиницы остановился кабриолет, из которого вышел господин, в точности соответствовавший описанию Шарпийона, и представился г-ном Пуарье; его уже ждали, и лакей весьма почтительно проводил его в комнату № 11, куда уже был подан прекрасный ужин; бутылка бордо стояла на должном расстоянии от огня и согрелась в достаточной мере, как и положено, перед тем как за нее возьмется истинный гурман.
III
ПРЕДАЮТ ТОЛЬКО ТЕ, КОМУ ДОВЕРЯЕШЬ
Пять минут спустя мнимый г-н Пуарье освоился с комнатой № 11, ее углами и закоулками так, словно прожил в ней всю жизнь.
Этот господин отличался характером, позволявшим ему очень скоро сходиться с людьми, а также темпераментом, благодаря которому он быстро осваивался в любой обстановке; однако постоялец заявил лакею, что за ужином ему никто не нужен, что он любит есть спокойно, в одиночестве, чтобы никто не подливал вина в еще не опустевший стакан и не уносил тарелку, когда она еще полна.
Оставшись один, мнимый Пуарье, или истинный Жибасье, прислушивался до тех пор, пока на лестнице не затихли шаги лакея, а затем приоткрыл дверь.
Как раз в эту минуту г-н Сарранти собирался выйти.
Жибасье притворил свою дверь, но закрывать не стал.
Перед уходом г-н Сарранти отдавал распоряжения служанке, готовившей ему постель; из его слов следовало, что он вернется через час-другой.
«О-о! — сказал себе Жибасье. — Хоть время и позднее, похоже, мой сосед собрался прогуляться. Поглядим, в какую сторону он направится».
Жибасье задул две свечи, горевшие на столе, и отворил окно, прежде чем г-н Сарранти переступил порог гостиницы.
Спустя мгновение он увидел, как тот пошел по улице Сент-Андре-дез-Ар.
«Не сомневаюсь, что он вернется, — раздумывал Жибасье, — вряд ли он догадался, что я здесь и слышал его приказания. Впрочем, не будем лениться и исполним свой долг добросовестно: надо разузнать, куда он идет».
Он поспешно спустился вниз и направился вслед за г-ном Сарранти через улицу Бюсси, Сен-Жерменский рынок, площадь Сен-Сюльпис и улицу Железной Кружки; там он увидел, как г-н Сарранти входит в дом, даже не взглянув на номер.
Жибасье оказался любопытнее: г-н Сарранти вошел в дом № 28.
Поднявшись вверх по улице, Жибасье спрятался за особняком Коссе-Бриссаков.
Долго ему ждать не пришлось: едва войдя в дом, г-н Сарранти сейчас же вышел.
Но вместо того чтобы спуститься по улице Железной Кружки, он пошел вверх — иными словами, мимо Жибасье (тот предусмотрительно и скромно отвернулся к стене) и двинулся по улице Вожирар. Затем г-н Сарранти прошел вдоль театра Одеон со стороны артистического входа, пересек площадь Сен-Мишель и направился к одному из домов по Почтовой улице; на сей раз он взглянул на его номер.
Нашим читателям этот дом уже знаком; если же они его еще не узнали, то нам достаточно сказать о нем всего несколько слов. Расположенный со стороны Виноградного тупика против улицы Говорящего колодца, он представлял собой не что иное, как таинственную воронку, через которую, подобно шарикам фокусника, исчезли карбонарии, столь безуспешно разыскивавшиеся г-ном Жакалем в доме и столь столь чудесным образом найденные им во время опасного спуска за Жибасье.
Бывший каторжник изменился в лице при виде небезызвестной улицы Говорящего колодца, а также самого колодца, в котором он провел несколько долгих и тоскливых часов; смутный трепет пробежал по его телу, на лбу выступил холодный пот. Впервые со времени отъезда из Отель-Дьё в Кель он пережил столь неприятные минуты.
Улица была безлюдна. Господин Сарранти остановился у дома и стал, без сомнения, поджидать четверых товарищей, чтобы войти в дом: ведь, как помнят читатели, туда входили группами по пять человек.
Вскоре появились три человека, закутанные в плащи; они подошли прямо к г-ну Сарранти и, обменявшись условным знаком, стали все вместе ждать пятого.
Жибасье огляделся и, не увидев ни души, счел, что настало время решительных действий.
Посвященный г-ном Жакалем в секреты необычного дома, знакомый с условными знаками масонского и других тайных обществ, он направился прямо к группе, пожал первую же протянутую к нему руку и подал условный знак: трижды махнул рукой от себя.
Один из собравшихся вставил ключ в замочную скважину, и все пятеро вошли в дом.
Внутри не осталось никаких следов вторжения Карманьоля через пролом в стене и Ветрогона — через слуховое окно: все было отремонтировано и покрашено заново.
На этот раз спускаться в катакомбы не понадобилось. Четверо незнакомых между собой руководителей были собраны с одной целью: выслушать секретный доклад г-на Сарранти.
Тот сообщил, что через три дня герцог Рейхштадгский прибудет в Сен-Лё-Таверни, где укроется до той минуты, пока его не покажут народу как знамя, под которым начнется восстание.
Карбонарии при каждом удобном случае старались сбить полицию со следа. Вот и теперь они сговорились объявить на следующий день общий сбор лож и вент в церкви Успения и на прилегающих улицах во время похорон герцога де Ларошфуко.
Там же верховная вента даст и последние указания.
Во всяком случае, до прибытия герцога Рейхштадтского комитет будет работать непрерывно.
Разошлись в час ночи.
Жибасье боялся лишь одного: встретить у входа заговорщика, чье место он занял, однако возле дома никого не оказалось. Очевидно, человек этот приходил, но, не обнаружив четверых своих товарищей, потерял надежду их дождаться, решил, что встреча отложена, и вернулся домой.
Господин Сарранти простился в дверях с четырьмя соратниками, и Жибасье, уверенный в том, что тот возвратится в гостиницу «Великий турок», скрылся за углом первой же улицы; пустившись бежать со всех ног, он опередил г-на Сарранти на десять минут, вернулся в гостиницу, сел за стол и принялся за ужин с аппетитом путешественника, проскакавшего во весь опор тридцать пять или сорок льё, и с удовлетворением человека, исполнившего свой долг.
Наградой за все его труды были послышавшиеся на лестнице шаги г-на Сарранти: их Жибасье узнал бы из тысячи.
Дверь комнаты № 6 отворилась и сейчас же захлопнулась.
Потом Жибасье услышал, как в замке дважды повернулся ключ. Это был верный знак, что г-н Сарранти больше не выйдет, по крайней мере до утра.
— Покойной ночи, соседушка! — пробормотал Жибасье.
Он позвонил.
Вошел лакей.
— Пригласите ко мне завтра… или, вернее, сегодня утром, в семь часов, — поправился Жибасье, — комиссионера… Мне нужно будет отправить в город срочное письмо.
— Не угодно ли вам будет дать письмо мне, — предложил лакей, — тогда не придется будить вас из-за такой малости.
— Прежде всего, мое письмо отнюдь не малость, — возразил Жибасье. — Кроме того, — прибавил он, — я вовсе не прочь встать пораньше.
Лакей поклонился и стал убирать со стола. Жибасье попросил его оставить аппетитного на вид холодного цыпленка, а также остатки бордо во второй бутылке, заметив, что, подобно королю Людовику XIV, он не может заснуть, если под рукой нет ничего «на случай».
Лакей поставил на камин нетронутого цыпленка и начатую бутылку.
Потом он удалился, обещав привести комиссионера ровно в семь утра.
Когда лакей вышел, Жибасье запер дверь, открыл секретер, в котором, как он заранее убедился, были припасены перо, чернила и бумага, и стал описывать г-ну Жакалю свои дорожные впечатления от Келя до Парижа.
Наконец он лег.
В семь часов в дверь постучал комиссионер.
К этому времени Жибасье уже встал, оделся и был готов ринуться в бой. Он крикнул:
— Войдите!
В дверях показался комиссионер.
Жибасье бросил на него молниеносный взгляд и, прежде чем тот успел раскрыть рот, признал в нем чистокровного овернца: он мог без опаски доверить ему свое послание.
Жибасье дал ему двенадцать су вместо десяти, описал все ходы во дворце на Иерусалимской улице и предупредил, что человек, которому адресовано письмо, должен прибыть из долгого путешествия в то же утро или в течение дня.
Если этот человек приехал, передать ему письмо в собственные руки от г-на Каторжера де Тулона — таково было аристократическое имя Жибасье, — если же адресат еще не прибыл, оставить письмо у секретаря.
Получив исчерпывающие указания, овернец вышел.
Прошел час. Дверь г-на Сарранти по-прежнему оставалась заперта. Правда, слышно было, как он ходит по комнате и передвигает мебель.
Желая чем-нибудь себя занять, Жибасье решил позавтракать.
Он позвонил, приказал накрыть на стол, подать цыпленка и остатки бордо, потом отослал лакея.
Едва Жибасье вонзил вилку в ножку цыпленка и поднес нож к крылышку, собираясь его разрезать, как дверь соседа скрипнула.
— Дьявольщина! — выругался он, поднимаясь. — По-моему, мы решили выйти довольно рано.
Его взгляд упал на стенные часы: они показывали четверть девятого.
— Эге! — молвил он. — Не так уж и рано.
Господин Сарранти стал спускаться по лестнице.
Как и накануне, Жибасье поспешил к окну, однако на этот раз отворять его не стал, а лишь раздвинул занавески. Но ожидания его были тщетны: г-н Сарранти не появлялся.
— Ну-ну! — воскликнул Жибасье. — Что же он делает внизу? Платит по счету? Невозможно же допустить, чтобы он спустился скорее, чем я подошел к окну!.. Впрочем, — решил Жибасье, — он мог пройти вдоль стены; но даже в этом случае далеко он уйти не мог.
Жибасье рывком распахнул окно и свесился вниз, поворачивая голову во все стороны: никого, кто напоминал бы г-на Сарранти.
Он подождал минут пять, но так и не мог понять, почему Сарранти не выходит. Уже собираясь спуститься вниз и расспросить о г-не Сарранти, он вдруг увидел наконец, что тот вышел из гостиницы и направился, как и накануне, в сторону улицы Сент-Андре-дез-Ар.
— Могу себе представить, куда ты идешь, — пробормотал Жибасье. — Идешь ты на улицу Железной Кружки. Вчера ты никого не застал дома и хочешь испытать судьбу сегодня утром. Я мог бы и не утруждать себя этой прогулкой и не провожать тебя туда, но долг — прежде всего.
Жибасье взялся за шляпу и кашне, спустился вниз, так и не притронувшись к цыпленку, и мысленно поблагодарил Провидение, заставлявшее его совершить небольшую утреннюю прогулку и тем самым нагулять аппетит.
Но, к величайшему изумлению г-на Жибасье, на нижней ступеньке его остановил господин, в котором он по лицу и по всему облику сейчас же признал полицейского агента низшего ранга.
— Ваши документы! — потребовал тот.
— Мои документы? — в изумлении переспросил Жибасье.
— Черт побери! — вскричал полицейский. — Вы отлично знаете: чтобы остановиться в гостинице, необходимо иметь документы.
— Вы правы, — согласился Жибасье. — Однако я никак не думал, что, путешествуя из Бонди в Париж, нужно иметь паспорт.
— Если в Париже у вас собственная квартира или вы останавливаетесь у друзей — не нужно, но если вы поселились в гостинице, вы должны предъявить документы.
— Ах, это так! — кивнул Жибасье, знавший лучше, чем кто бы то ни было, по опыту прошлой жизни, как необходим паспорт, когда ищешь кров. — Разумеется, я покажу вам свои документы.
И он стал шарить по карманам своего касторового одеяния.
Карманы оказались пусты.
— Куда же, черт возьми, они подевались?! — воскликнул он.
Полицейский махнул рукой с таким видом, словно хотел сказать: «Если человек не находит документов сразу, он не находит их никогда».
Он жестом подозвал двух полицейских в черных рединготах и с толстыми палками в руках, ожидавших его приказаний, стоя у ворот гостиницы.
— Ах, черт подери! — воскликнул Жибасье. — Вспомнил, что я сделал со своими документами.
— Тем лучше! — кивнул полицейский.
— Я оставил их в почтовой гостинице Бонди, когда сменил одеяние курьера на куртку форейтора.
— Как вы сказали? — не понял полицейский.
— Ну да! — рассмеялся Жибасье. — К счастью, документы мне не нужны.
— Как это не нужны?
— Атак.
И он шепнул полицейскому на ухо:
— Я свой!
— Свой?!
— Да, пропустите меня!
— Ага! Вы, кажется, спешите?
— Я кое за кем слежу, — с заговорщицким видом сообщил Жибасье и подмигнул.
— Следите?
— Да, у меня на крючке заговорщик, и очень опасный заговорщик!
— Правда? И где же этот кое-кто?
— Черт возьми! Вы, должно быть, его видели. Он только что спустился: пятьдесят лет, усы с проседью, волосы бобриком, выправка военная. Не видели?
— Как же, видел.
— В таком случае, арестовать надо было его, а не меня, — не переставая улыбаться, заметил Жибасье.
— Ну да! Только у него документы были, и в полном порядке. Потому я его и пропустил. А вот вы арестованы.
— Как арестован?!
— Разумеется. Думаете, буду церемониться?
— Вы меня арестуете? Меня?
— Ну да, вас.
— Меня, личного агента господина Жакаля?
— Чем докажете?..
— Доказательство я вам представлю, за этим дело не станет.
— Слушаю вас
— А тем временем мой подопечный улизнет, может быть! — вскричал Жибасье.
— Понимаю! Вы и сами не прочь сделать то же.
— Сбежать?! Вот еще, с какой стати? Сразу видно, что вы меня не знаете! Чтобы я улизнул? Да ни за что на свете! Мое новое положение вполне меня устраивает…
— Ладно! Хватит болтать! — оборвал его полицейский.
— То есть как это хватит болтать?..
— Следуйте за нами, или…
— Или что?
— Или мы будем вынуждены применить силу.
— Да ведь я же вам толкую, — воскликнул, кипя гневом, Жибасье, — что я из личной полиции господина Жакаля!
Полицейский едва удостоил его презрительным взглядом, в котором ясно читалось: «Ну и нахал же вы!»
Он пожал плечами и жестом подозвал на помощь двух полицейских в черных рединготах.
Те подошли, готовые вмешаться по первому знаку.
— Остерегитесь, друг мой! — предупредил Жибасье.
— Я не друг тому, у кого нет паспорта, — возразил полицейский.
— Господин Жакаль вас строго накажет.
— Моя обязанность — препроводить в префектуру полиции путешественников без документов; у вас нет паспорта, и я отвожу вас в префектуру, только и всего.
— Тысяча чертей! Говорю же вам, что…
— Покажите ваше очко.
— Очко? — переспросил Жибасье. — Это вам, низшим чинам, положено иметь этот знак, я же…
— Ну да, вы для этого слишком важная птица, понимаю! Итак, дорогу вы не хуже нас знаете… Вперед!
— Вы настаиваете? — спросил Жибасье.
— Надо думать!
— Пеняйте потом на себя.
— Хватит! Следуйте за мной по доброй воле. В противном случае я буду вынужден применить силу.
Полицейский вынул из кармана пару наручников, ожидающих чести познакомиться с запястьями Жибасье.
— Будь по-вашему! — смирился Жибасье; он понял, что попал в дурацкое положение, которое могло еще более осложниться. — Я готов следовать за вами.
— В таком случае честь имею предложить вам руку, а эти двое господ пойдут сзади, — предупредил полицейский. — Вы, как мне кажется, способны, не простившись, сбежать от нас на первом же перекрестке.
— Я исполнял свой долг! — воскликнул Жибасье, воздев кверху руку, будто призывая Бога в свидетели, что он сражался до последнего.
— Ну-ка, вашу руку, да поживее!
Жибасье знал, как арестованный должен положить свою руку на руку сопровождающего. Он не заставил просить себя дважды и облегчил полицейскому задачу.
Тот узнал в нем завсегдатая полицейского участка.
— А-а! — воскликнул он. — Похоже, такое случается с вами не впервые, милейший!
Жибасье взглянул на полицейского с таким видом, словно хотел сказать: «Будь по-вашему! Хорошо смеется тот, кто смеется последним».
Вслух он решительно произнес:
— Идемте!
Жибасье с полицейским вышли из гостиницы «Великий турок» под руку, словно старые и добрые друзья.
Двое шпиков шли рядом, изо всех сил стараясь показать, что не имеют к нашей парочке ровно никакого отношения, словно Грипсолейль — к обществу его сиятельства.
IV
ТРИУМФ ЖИБАСЬЕ
Жибасье и полицейский пошли (а вернее было бы сказать, что полицейский повел Жибасье) на Иерусалимскую улицу.
Читатели понимают, что благодаря мерам предосторожности, принятым полицейским, проверявшим паспорта, всякий побег арестованного исключался.
Прибавим, к чести Жибасье, что он и не думал бежать. Более того: его насмешливый вид, сострадательная улыбка, мелькавшая на его губах всякий раз, как он взглядывал на полицейского, непринужденность и презрительность, с какими он позволял вести себя в префектуру полиции, свидетельствовали, что совесть его чиста. Словом, он, казалось, покорился, но вышагивал скорее как горделивый мученик, а не как смиренная жертва.
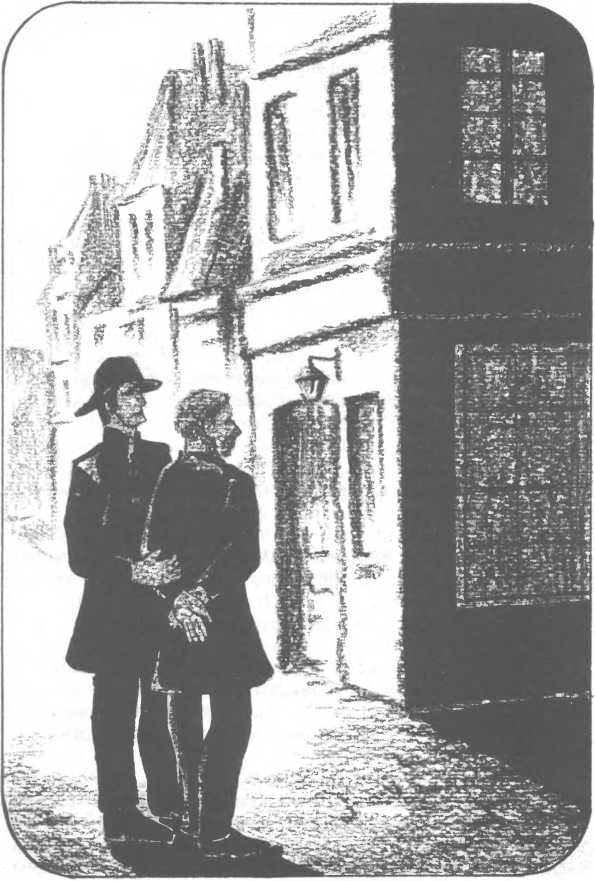
Время от времени полицейский бросал на него косой взгляд.
По мере приближения к префектуре Жибасье не хмурился, а, напротив, становился все веселее. Он заранее предвкушал, какую бурю проклятий обрушит г-н Жакаль на голову незадачливого полицейского.
Безмятежность Жибасье, сияющая, словно ореол вокруг невинных лиц, начала пугать полицейского, арестовавшего его. В начале пути у того не было никаких сомнений в том, что он задержал важного преступника; на полпути он стал сомневаться; теперь он был почти уверен, что сделал глупость.
Гнев г-на Жакаля, которым пугал его Жибасье, будто гроза, уже навис над его головой.
И вот мало-помалу пальцы полицейского стали разжиматься, высвобождая руку Жибасье.
Тот отметил про себя эту относительную свободу, неожиданно ему предоставленную; однако он отлично понимал, что заставило расслабиться дельтовидную мышцу и бицепс его спутника, и потому сделал вид, что не заметил его маневра.
Полицейский надеялся получить прощение у своего пленника; он еще больше разволновался, когда заметил, что, в то время как его собственная хватка ослабевала, Жибасье все крепче вцеплялся в его руку.
Он поймал преступника, который не хотел его выпускать!
«Дьявольщина! — подумал он. — Уж не ошибся ли я?!»
Он на мгновение остановился в задумчивости, оглядел Жибасье с головы до ног и, видя, что тот в свою очередь окинул его насмешливым взглядом, затрепетал еще больше.
— Сударь! — обратился он к Жибасье. — Вы сами знаете, какие у нас суровые правила. Нам говорят: «Арестуйте!» — и мы арестовываем. Вот почему порой случается так, что мы совершаем досадные ошибки. Как правило, мы хватаем преступников. Однако бывает, что по недоразумению мы нападаем и на честных людей.
— Неужели? — с издевательской усмешкой спросил Жибасье.
— И даже на очень честных людей, — уточнил полицейский.
Жибасье бросил на него красноречивый взгляд, словно хотел сказать: «И я тому живое свидетельство».
Ясность этого взгляда окончательно убедила полицейского, и он прибавил с изысканной вежливостью:
— Боюсь, сударь, что я совершил оплошность в этом роде; но еще не поздно ее исправить…
— Что вы имеете в виду? — презрительно поморщился Жибасье.
— Боюсь, сударь, что я арестовал честного человека.
— Надо подумать, черт подери, что вы боитесь! — отозвался каторжник, строго поглядывая на полицейского.
— С первого взгляда вы показались мне человеком подозрительным, но теперь я вижу, что это не так, что, наоборот, вы свой.
— Свой? — с высокомерным видом проговорил Жибасье.
— И, как я уже сказал, поскольку еще не поздно исправить эту маленькую ошибку… — смиренно продолжил полицейский.
— Нет, сударь, поздно! — перебил его Жибасье. — Из-за этой вашей ошибки человек, за которым я был приставлен следить, удрал… А что это за человек? Заговорщик, который через неделю совершит, может быть, государственный переворот…
— Сударь! — взмолился полицейский. — Если хотите, мы вместе отправимся на его поиски, и это будет сущий дьявол, если вдвоем мы…
В намерения Жибасье не входило разделить с кем бы то ни было славу поимки г-на Сарранти.
Он оборвал своего младшего собрата:
— Нет, сударь! И пожалуйста, довершите то, что начали.
— О, только не это! — воскликнул полицейский.
— Именно это! — настаивал Жибасье.
— Нет, — снова возразил полицейский. — А в доказательство я ухожу.
— Уходите?
— Да.
— Как уходите?
— Как все уходят. Выражаю вам свое почтение и поворачиваюсь к вам спиной.
Повернувшись на каблуках, полицейский в самом деле показал Жибасье спину; однако тот схватил его за руку и повернул к себе лицом.
— Ну уж нет! — сказал он. — Вы меня арестовали, чтобы препроводить в префектуру полиции, так и ведите меня туда.
— Не поведу!
— Поведете, черт вас подери совсем! Или скажите, почему отказываетесь. Если я упущу своего заговорщика, господин Жакаль должен знать, по чьей вине это произошло.
— Нет, сударь, нет!
— В таком случае, я вас арестую и отведу в префектуру, слышите?
— Вы арестуете меня?
— Да, я.
— По какому праву?
— По праву сильнейшего.
— Я сейчас кликну своих людей.
— Не вздумайте, иначе я позову на помощь прохожих. Вы знаете, что в народе вас не жалуют, господа из рыжей. Я расскажу, что вы меня сначала арестовали без всякой причины, а теперь собираетесь отпустить, потому что боитесь наказания за превышение власти… А река-то, вот она, совсем рядом, черт возьми!..
Полицейский стал бледен как полотно. Уже начинала собираться толпа. Он по опыту знал, что люди в те времена были настроены по отношению к шпикам далеко не дружелюбно. Он бросил на Жибасье умоляющий взгляд и почти разжалобил каторжника.
Но, вскормленный на максимах г-на де Талейрана, Жибасье подавил это первое движение души: ему нужно было прежде всего оправдаться в глазах г-на Жакаля.
Он, словно в тисках, зажал руку полицейского и, превратившись из пленника в жандарма, поволок его в префектуру.
Во дворе префектуры собралась как никогда большая толпа.
Что было нужно всем этим людям?
Как мы уже сказали в одной из предыдущих глав, все смутно угадывали приближение мятежа, и предчувствие его витало в воздухе.
Толпа, заполнившая двор префектуры, состояла из тех, кто должен был сыграть в этом мятеже известную роль: все они явились за указаниями.
Жибасье, смолоду привыкший входить во двор префектуры в наручниках, а выезжать в забранной решеткой карете, на сей раз испытал неподдельную радость, чувствуя себя не арестованным, а полицейским.
Он вошел во двор как победитель, с высоко поднятой головой, задравши нос, а его несчастный пленник следовал за ним, как потерявший управление фрегат следует на буксире за гордым линейным кораблем, летящим на всех парусах и с развевающимся флагом.
В достойной толпе произошло замешательство. Все полагали, что Жибасье отдыхает на тулонской каторге, и вдруг он выступает за старшего.
Однако Жибасье, видя эти сомнения, не растерялся: он стал раскланиваться налево и направо, одним кивал дружески, другим — покровительственно; над собравшимися прошелестел одобрительный шепот, и к Жибасье стали подходить старые знакомые, выражая удовлетворение тем, что видят старого собрата.
Жибасье пожимал руки и принимал поздравления, чем окончательно смутил несчастного полицейского, на которого он смотрел уже с жалостью. Потом его представили старшему бригады, почтенному мошеннику, который, подобно самому Жибасье, на определенных условиях, оговоренных с г-ном Жакалем, перешел на службу в полицию. Он был возвращен с Брестской каторги и, таким образом, не был знаком с Жибасье; тот тоже его не знал, но, проводя время на берегу Средиземного моря, частенько слышал об этом прославленном старике и уже давно мечтал пожать ему руку.
Старейшина встретил его по-отечески тепло.
— Сын мой! — сказал он. — Я давно хотел с вами встретиться. Я был хорошо знаком с вашим отцом.
— С моим отцом? — удивился Жибасье, не знавший никакого отца. — Вам повезло больше, чем мне.
— И я по-настоящему счастлив, — продолжал старик, — узнавая в вас черты этого достойного человека. Если вам будет нужен совет, располагайте мною, сын мой, я к вашим услугам.
Собравшиеся, казалось, умирали от зависти, слыша, какой милости удостоен Жибасье.
Они обступили каторжника, и спустя пять минут г-н Каторжер де Тулон получил в присутствии полицейского, совершенно оглушенного подобным триумфом, тысячу предложений услуг и столько же выражений дружеских чувств.
Жибасье смотрел на него, будто спрашивая: «Ну что, разве я вас обманул?»
Полицейский понурил голову.
— Ну, признайтесь, что вы осел! — сказал ему Жибасье.
— Охотно! — отозвался тот, готовый признать еще и не такое, попроси его об этом Жибасье.
— Раз так, — промолвил Жибасье, — я вполне удовлетворен и обещаю вам свое покровительство, когда вернется господин Жакаль.
— Когда вернется господин Жакаль? — переспросил полицейский.
— Ну да, и я постараюсь представить ему ваш промах как чрезмерное усердие. Как видите, я человек покладистый.
— Да ведь господин Жакаль вернулся, — возразил полицейский; он боялся, как бы Жибасье не охладел в своих добрых намерениях, и хотел воспользоваться ими без промедления.
— Как?! Господин Жакаль вернулся? — вскричал Жибасье.
— Да, разумеется.
— И давно?
— Сегодня утром, в шесть часов.
— Что ж вы раньше не сказали?! — взревел Жибасье.
— Да вы не спрашивали, ваше сиятельство, — смиренно отвечал полицейский.
— Вы правы, друг мой, — смягчился Жибасье.
— «Друг мой»! — пробормотал полицейский. — Ты назвал меня своим другом, о великий человек! Приказывай! Что я могу для тебя сделать?
— Отправиться вместе со мной к господину Жакалю, черт подери! И немедленно!
— Идем! — с готовностью подхватил полицейский и устремился вперед метровыми шагами (хотя обычно способен был шагнуть не более чем на два с половиной фута).
Жибасье помахал собравшимся рукой, пересек двор, вошел под арку, находившуюся против ворот, поднялся по небольшой лестнице слева (мы уже видели, как по ней поднимался Сальватор) на третий этаж, прошел по темному коридору направо и наконец остановился у кабинета г-на Жакаля.
Секретарь, узнавший не Жибасье, а полицейского, сейчас же распахнул дверь.
— Что вы делаете, болван? — возмутился г-н Жакаль. — Я же вам сказал, что меня нет ни для кого, кроме Жибасье.
— А вот и я, дорогой господин Жакаль! — прокричал Жибасье и обернулся к полицейскому. — Его нет ни для кого, кроме меня, слышите?
Полицейский с трудом удержался, чтобы не пасть на колени.
— Следуйте за мной, — приказал Жибасье. — Я вам обещал снисхождение и обещание свою сдержу.
Он вошел в кабинет.
— Как?! Вы ли это, Жибасье? — воскликнул начальник полиции: — Я назвал ваше имя просто так, наудачу…
— И я как нельзя более горд тем, что вы обо мне помните, сударь, — подхватил Жибасье.
— Вы, стало быть, оставили своего подопечного? — спросил г-н Жакаль.
— Увы, сударь, — отвечал Жибасье, — это он меня оставил.
Господин Жакаль грозно нахмурился. Жибасье толкнул полицейского локтем, будто хотел сказать: «Видите, в какую скверную историю вы меня втянули?»
— Сударь! — вслух проговорил он, указывая на виновного. — Спросите этого человека. Я не хочу осложнять его положение, пусть он сам все расскажет.
Господин Жакаль поднял очки на лоб, желая получше разглядеть, с кем имеет дело.
— A-а, это ты, Фуришон, — узнал он своего полицейского. — Подойди поближе и скажи, как ты мог помешать исполнению моих приказаний.
Фуришон увидел, что ему не отвертеться. Он смирился и, как свидетель на суде, стал говорить правду, только правду, ничего, кроме правды…
— Вы осел! — бросил полицейскому г-н Жакаль.
— Я уже имел честь слышать это от его сиятельства господина графа Каторжера де Тулона, — сокрушенно проговорил полицейский.
Господин Жакаль, казалось, раздумывал, кто бы мог быть тот достопочтенный человек, что опередил начальника полиции и высказал о Фуришоне мнение, столь совпадающее с его собственным.
— Это я, — с поклоном доложил Жибасье.
— A-а, очень хорошо, — одобрил г-н Жакаль. — Вы путешествовали под дворянским именем?
— Да, сударь, — подтвердил Жибасье. — Однако должен вам заметить, что я обещал этому несчастному попросить у вас для него снисхождения, принимая во внимание его полное раскаяние.
— По просьбе нашего возлюбленного и верного Жибасье, — с величавым видом изрек г-н Жакаль, — мы даруем вам полное и совершенное прощение. — Ступайте с миром и больше не грешите!
Он махнул рукой, отпуская незадачливого полицейского, и тот вышел, пятясь.
— Не угодно ли вам, дорогой Жибасье, оказать мне честь и разделить со мной скромный завтрак? — предложил г-н Жакаль.
— С истинным удовольствием, господин Жакаль, — отвечал Жибасье.
— В таком случае, перейдем в столовую, — пригласил начальник полиции и пошел вперед, показывая дорогу.
Жибасье последовал за г-ном Жакалем.
V
ПРОВИДЕНИЕ
Господин Жакаль указал Жибасье на стул, стоявший напротив, по другую сторону стола.
Начальник полиции знаком пригласил садиться; но Жибасье, страстно желавший продемонстрировать г-ну Жакалю, что он не чужд правил хорошего тона, сказал:
— Позвольте прежде всего поздравить вас, дорогой господин Жакаль, с благополучным возвращением в Париж.
— Разрешите и мне выразить радость по тому же поводу, — изысканно-вежливо отвечал г-н Жакаль.
— Смею надеяться, — продолжал Жибасье, — что ваше путешествие завершилось успешно.
— Более чем успешно, дорогой господин Жибасье; но довольно комплиментов, прошу вас! Последуйте моему примеру и займите свое место.
Жибасье сел.
— Возьмите отбивную.
Жибасье подцепил отбивную.
— Дайте ваш бокал!
Жибасье повиновался.
— А теперь, — сказал г-н Жакаль, — ешьте, пейте и слушайте, что я скажу.
— Я весь внимание, — отозвался Жибасье, вгрызаясь в отбивную на косточке.
— Итак, по глупости этого полицейского, — продолжал г-н Жакаль, — вы упустили своего подопечного, дорогой господин Жибасье?
— Увы! — отвечал Жибасье, откладывая дочиста обглоданную кость на тарелку. — И, как видите, я в отчаянии!.. Получить столь важное задание, исполнить его с блеском — да простите мне такое выражение — и провалиться в самом конце!..
— Какое несчастье!
— Никогда себе этого не прощу..
Жибасье с сокрушенным видом махнул рукой.
— Ну что же, — невозмутимо продолжал г-н Жакаль, смакуя бордо и прищелкивая от удовольствия языком, — я буду снисходительнее: я вас прощаю!
— Нет, нет, господин Жакаль. Нет, я не приму вашего прощения, — возражал Жибасье. — Я вел себя как дурак; словом, я оказался еще глупее, чем этот полицейский.
— Что вы могли поделать, дорогой господин Жибасье? Если не ошибаюсь, по этому поводу есть пословица: «Против силы…»
— Мне следовало уложить его одним ударом и бежать за господином Сарранти.
— Вы не успели бы сделать и двух шагов, как вас арестовали бы двое других.
— Ого-го! — вскричал Жибасье, потрясая кулаком, словно Аякс, бросающий вызов богам.
— Я же вам сказал, что прощаю вас, — продолжал г-н Жакаль.
— Если вы меня прощаете, — подхватил Жибасье, отказываясь от выразительной пантомимы, которой он с упоением предавался, — стало быть, вы знаете, как отыскать нашего подопечного. Вы позволите называть его нашим, не так ли?
— Что ж, неплохо, — заметил г-н Жакаль, довольный сообразительностью Жибасье, которую тот выказал, угадав, что, если начальник полиции не удручен, значит, у него есть основания сохранять спокойствие. — Неплохо! И я вам разрешаю, дорогой Жибасье, называть господина Сарранти нашим подопечным: он в той же мере принадлежит вам как человеку, отыскавшему, а затем потерявшему его след, как и мне, обнаружившему его после того, как упустили вы.
— Невероятно! — изумился Жибасье.
— Что тут невероятного?
— Вы снова напали на его след?
— Вот именно.
— Как же это возможно? С тех пор как я его упустил, прошло не больше часу!
— А я обнаружил его всего пять минут назад.
— Так он у вас в руках? — спросил Жибасье.
— Да нет! Вы же знаете, что с ним нужно обращаться с особенной осторожностью. Я его возьму или, вернее, вы его возьмете… Только уж на сей раз не упустите: его не так-то легко выследить незаметно.
Жибасье тоже очень надеялся снова напасть на след г-на Сарранти. Накануне в доме на Почтовой улице четверо заговорщиков и г-н Сарранти, условились встретиться в церкви Успения; однако г-н Сарранти мог заподозрить неладное и не явиться в церковь.
И потом, Жибасье не хотел показывать, что у него есть эта зацепка.
Он решил, что припишет «выход на след» (как говорят охотники) целиком своей изобретательности.
— Как же я его найду? — спросил он.
— Идите по следу.
— Я же его потерял!..
— Потерять след нельзя, если на охоту вышли такой доезжачий, как я, и такая ищейка, как вы.
— В таком случае нельзя терять ни минуты, — заметил Жибасье, полагая, что г-н Жакаль бахвалится, пытаясь толкнуть его на крайность; он встал, будто приготовившись немедленно бежать на поиски г-на Сарранти.
— От имени его величества, которому вы имели честь спасти венец, я благодарю вас за ваше благородное рвение, дорогой господин Жибасье, — объявил г-н Жакаль.
— Я ничтожнейший, но преданнейший слуга короля! — скромно ответствовал Жибасье и поклонился.
— Отлично! — похвалил его г-н Жакаль. — Можете быть уверены, что ваша преданность будет оценена. Королей нельзя обвинить в неблагодарности.
— Нет, конечно, неблагодарными бывают только народы! — философски отвечал Жибасье, устремив взгляд в небо. — Ах!..
— Браво!
— Так или иначе, дорогой господин Жакаль, оставим вопрос о неблагодарности королей и признательности народов в стороне. Позвольте вам сказать, что я весь к вашим услугам.
— Сначала доставьте мне удовольствие и съешьте крылышко вот этого цыпленка.
— А если мой подопечный ускользнет от нас, пока мы будем есть это крылышко?
— Да нет, никуда он не денется: он нас ждет.
— Где это?
— В церкви.
Жибасье смотрел на г-на Жакаля со все возрастающим удивлением. Каким образом начальник полиции оказался почти так же хорошо осведомлен, как сам Жибасье?
Впрочем, не это главное. Жибасье решил проверить, до каких пределов простиралась осведомленность г-на Жакаля.
— В церкви?! — вскричал он. — Мне бы следовало об этом догадаться.
— Почему? — поинтересовался г-н Жакаль.
— Человека, который мчится во весь опор, может извинить только одно: он торопится спасти свою душу.
— Чем дальше, тем интереснее, дорогой господин Жибасье! — хмыкнул начальник полиции. — Я вижу, вы не лишены наблюдательности, с чем я вас и поздравляю, потому что отныне вашей задачей будет наблюдение. Итак, повторяю, вашего подопечного вы найдете в церкви.
Жибасье хотел убедиться в том, что г-н Жакаль получил самые точные сведения.
— В какой именно? — спросил он в надежде захватить его врасплох.
— В церкви Успения, — просто ответил г-н Жакаль.
Жибасье не переставал изумляться.
— Вы знаете эту церковь? — продолжал настаивать г-н Жакаль, видя, что Жибасье не отвечает.
— Еще бы, черт побери! — отозвался Жибасье.
— Должно быть, только понаслышке, потому что на очень набожного человека вы не похожи.
— У меня есть своя вера, как у всех, — отвечал Жибасье, с безмятежным видом подняв глаза к потолку.
— Я не прочь укрепить с вашей помощью свою веру, — проговорил г-н Жакаль, наливая Жибасье кофе, — и если бы у нас было время, я с удовольствием попросил бы вас изложить ваши теологические принципы. У нас тут, на Иерусалимской улице, можно встретить величайших теологов, как вам, должно быть, известно. Вы привыкли жить в заточении и, верно, научились медитации. Вот почему я с истинным наслаждением когда-нибудь вас выслушаю. К сожалению, время идет, а сегодня у нас с вами еще много дел. Но вы дали слово, просто мы отложим это дело до другого раза.
Жибасье слушал, хлопая глазами и смакуя кофе.
— Итак, — продолжал г-н Жакаль, — вы найдете своего подопечного в церкви Успения.
— Во время заутрени, обедни или вечерни? — спросил Жибасье с непередаваемым выражением, то ли лукавым, то ли наивным.
— Во время обедни с певчими.
— Значит, в половине двенадцатого?
— Приходите к половине двенадцатого, если угодно; ваш подопечный прибудет не раньше двенадцати.
Именно в это время условились встретиться заговорщики.
— Сейчас уже одиннадцать! — вскричал Жибасье, бросив взгляд на часы.
— Да погодите, до чего вы нетерпеливы! Вам еще хватит времени на глорию.
И он подлил полстакана водки в чашку Жибасье.
— «Gloria in excelsis!», — произнес Жибасье, поднимая чашку двумя руками на манер кадила, словно собирался воскурить ладан в честь начальника полиции.
Господин Жакаль наклонил голову с видом человека, убежденного в том, что заслуживает этой чести.
— А теперь, — продолжал Жибасье, — позвольте вам сказать нечто такое, что ничуть не умаляет вашей заслуги, перед которой я преклоняюсь и которую глубоко почитаю.
— Говорите!
— Я знал все это не хуже вас.
— Неужели?
— Да. И вот каким образом мне удалось это разузнать…
Жибасье сообщил г-ну Жакалю обо всем, что произошло на Почтовой улице: как он выдал себя за заговорщика, проник в таинственный дом, условился о встрече в полдень в церкви Успения.
Господин Жакаль слушал молча, а про себя восхищался проницательностью собеседника.
— Так вы полагаете, что на похоронах соберется много народу? — спросил он, когда Жибасье закончил свой рассказ.
— Не меньше ста тысяч человек.
— А в самой церкви?
— Сколько сможет там поместиться: две-три тысячи, может быть.
— В такой толчее разыскать вашего подопечного будет не так-то просто, дорогой Жибасье.
— Как говорится в Евангелии: «Ищите, и найдете».
— Я облегчу вам задачу.
— Вы?!
— Да! Ровно в поддень он будет стоять, прислонившись к третьей колонне слева от входа, и разговаривать с монахом-доминиканцем.
На этот раз дар провидения, отпущенный г-ну Жакалю, настолько потряс Жибасье, что он склонился, не проронив ни слова; подавленный таким превосходством, он взял шляпу и вышел.
VI
ДВА РЫЦАРЯ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Жибасье вышел из особняка на Иерусалимской улице как раз в ту минуту, как Доминик торопливо зашагал вниз по улице Турнон, после того как занес Кармелите портрет святого Гиацинта.
Во дворе префектуры не было видно никого, кроме трех человек.
Один из них отделился от двух остальных и направился к нему; это был невысокий худой человек, смуглый, с блестящими черными глазами и сверкающей улыбкой. Жибасье узнал своего коллегу Карманьоля: именно этот доверенный агент г-на Жакаля передал ему, Жибасье, в Келе приказания их общего хозяина.
Жибасье ждал его улыбаясь.
Они поздоровались.
— Вы идете в церковь Успения? — спросил Карманьоль.
— Разве не обязаны мы отдать последний долг останкам великого филантропа? — ответил вопросом на вопрос Жибасье.
— Безусловно, — согласился Карманьоль, — и я поджидал, когда вы выйдете от господина Жакаля, чтобы поговорить о нашем общем поручении.
— С большим удовольствием. Мы будем разговаривать на ходу, или идти разговаривая, и время не покажется нам долгим, мне во всяком случае.
Карманьоль поклонился.
— Вы знаете, что мы будем там делать? — спросил он.
— Я должен не терять из виду человека, стоящего у третьей колонны слева и разговаривающего с монахом, — отвечал Жибасье, не переставая удивляться точности этих сведений.
— А я должен арестовать этого человека.
— Как арестовать?
— Да, в нужный момент; об этом мне и поручили вам сказать.
— Вам поручено арестовать господина Сарранти? — спросил его Жибасье.
— А вот и нет! Господина Дюбрёя — такое имя он сам себе избрал, так пусть не жалуется.
— И вы арестуете его как заговорщика?
— Нет! Как бунтовщика.
— Значит, готовится серьезный бунт?
— Серьезный? Да нет! Но бунт я вам все-таки обещаю.
— Не считаете ли вы, что это довольно неосмотрительно, дорогой собрат, поднимать бунт в такой день, как сегодня, когда весь Париж на ногах? — заметил Жибасье, остановившись, чтобы тем самым придать вес своим словам.
— Да, разумеется, но вы же знаете пословицу: «Кто не рискует — тот не выигрывает».
— Конечно, знаю. Однако сейчас мы рискуем всем сразу.
— Да, зато играем-то мы краплеными картами!
Это замечание немного успокоило Жибасье.
Впрочем, он все равно выглядел встревоженным или скорее задумчивым.
Объяснялось ли это страданиями, перенесенными Жибасье на дне Говорящего колодца и оживленными накануне в его памяти? Или тяготы стремительного путешествия и поспешного возвращения оставили на его лице отпечаток уныния? Как бы то ни было, а графа Каторжера де Тулона обуревали в эти минуты не то большая озабоченность, не то сильное беспокойство.
Карманьоль заметил это и не преминул поинтересоваться о причине этого, как раз когда они огибали угол набережной и площади Сен-Жермен-л’Осеруа.
— Вы чем-то озабочены? — заметил он, обращаясь к Жибасье.
Тот стряхнул с себя задумчивость и покачал головой.
— Что? — переспросил он.
Карманьоль повторил свой вопрос.
— Да, верно, — кивнул он. — Меня удивляет одна вещь, друг мой.
— Дьявольщина! Много чести для вашей вещи! — заметил Кармоньоль.
— Ну, скажем, беспокоит.
— Говорите! И я буду счастлив, если смогу помочь вам избавиться от этого беспокойства.
— Дело вот в чем. Господин Жакаль сказал, что я найду нашего подопечного ровно в полдень в церкви Успения у третьей колонны слева от входа.
— У третьей колонны, верно.
— И тот будет разговаривать с монахом?
— Со своим сыном, аббатом Домиником.
Жибасье взглянул на Карманьоля с тем же выражением, с каким смотрел на г-на Жакаля.
— Я считал себя умудренным… Похоже, я заблуждался на свой счет.
— Зачем так себя принижать? — спросил Карманьоль. Жибасье помолчал; было очевидно, что он делает нечеловеческое усилие, дабы проникнуть своим рысьим взглядом в слепящую его темноту.
— Либо это точное указание насквозь лживо…
— Почему?
— … либо, если оно верно, я теряюсь в догадках и преисполнен восхищения.
— К кому?
— К господину Жакалю.
Карманьоль снял шляпу, как делает владелец бродячего цирка, когда говорит о господине мэре и других представителях законной власти.
— А какое указание вы имеете в виду? — спросил он.
— Да все эти подробности: колонна, монах… Пусть господин Жакаль знает прошлое, пусть господин Жакаль знает даже настоящее — это я допускаю…
Слушая Жибасье, Карманьоль одобрительно кивал головой.
— Но чтобы он знал и будущее — вот что выше моего понимания, Карманьоль.
Карманьоль рассмеялся, показывая белоснежные зубы.
— А как вы себе объясняете то обстоятельство, что он знает прошлое и настоящее? — спросил он.
— В том, что господин Жакаль предсказал появление господина Сарранти в церкви, ничего удивительного нет: человек рискует жизнью, предпринимая попытку свергнуть правительство; вполне естественно, что в такие минуты он прибегает к помощи церкви и святых. В том, что господин Жакаль угадал выбор господина Сарранти — церковь Успения, — тоже ничего необычного: все знают, что она средоточие бунтовщиков.
Карманьоль снова закивал.
— Господин Жакаль догадался, что господин Сарранти придет скорее всего в полдень, а не, скажем, в одиннадцать и не в полдвенадцатого или без четверти двенадцать — и это можно понять: заговорщик, часть ночи посвятивший своим тайным делам и не обладающий богатырским здоровьем, не пойдет без всякой причины к заутрене. Ничего необычного я не вижу и в том, что господин Жакаль предсказал: «Он будет стоять, прислонившись к колонне»… Проведя трое или четверо суток в пути, человек чувствует усталость: не удивительно, что он прислонится к колонне, чтобы отдохнуть. Наконец, пусть господин Жакаль с помощью логической дедукции угадал, что наш подопечный будет стоять скорее слева, чем справа, — это тоже понятно: глава оппозиции и не может сделать иного выбора. Все это хитро, необычно, но в этом нет ничего чудесного, раз даже я смог это понять. Но что меня по-настоящему удивляет, что приводит меня в замешательство, сбивает с толку и обескураживает…
Жибасье умолк, словно пытаясь отчаянным усилием ума разгадать загадку.
— Что же именно? — спросил Карманьоль.
— Каким образом господин Жакаль смог догадаться, что именно у третьей колонны будет стоять господин Сарранти в определенный час, да еще разговаривать с монахом.
— Как?! — удивился Карманьоль. — И такая безделица приводит вас в недоумение и омрачает ваше чело, высокочтимый граф?
— Это, и ничто иное, Карманьоль, — отвечал Жибасье.
— Да это также просто объясняется, как и все остальное.
— Нуда?!
— И даже еще проще.
— Неужели?
— Слово чести!
— Сделайте одолжение: приподнимите завесу этой тайны!
— С величайшим удовольствием.
— Я слушаю.
— Вы знаете Барбетгу?
— Я знаю, что есть такая улица; она берет свое начало от улицы Труа-Павийон, а заканчивается на Старой улице Тампля.
— Не то!
— Еще я знаю заставу с таким же названием, входившую когда-то в кольцо, опоясывавшее Париж во времена Филиппа Августа; застава эта обязана своим названием Этьенну Барбетгу, дорожному смотрителю Парижа, управляющему монетным двором и купеческому старшине.
— Опять не то!
— Я знаю особняк Барбетга, где Изабелла Баварская разрешилась дофином Карлом Седьмым. А герцог Орлеанский вышел из этого особняка дождливой ночью двадцать третьего ноября тысяча четыреста седьмого года и был убит…
— Хватит! — вскричал Карманьоль, задыхаясь, словно его заставили проглотить шпагу. — Хватит! Еще слово, Жибасье, и я пойду хлопотать о кафедре истории для вас.
— Вы правы! — согласился Жибасье. — Эрудиция вечно меня губит. Так о чем вы ведете речь? Об улице, заставе или особняке?
— Ни о той, ни о другой, ни о третьем, прославленный бакалавр, — восхищенно взглянув на Жибасье, ответил Карманьоль и переложил кошелек из правого кармана в левый, подальше от своего спутника, не без оснований, вероятно, полагая, что всего можно ожидать от человека, готового сознаться, что он осведомлен о многом, однако знающего, несомненно, еще больше, чем хочет показать. — Нет, — продолжал Карманьоль. — Я имею в виду Барбетгу, которая сдает стулья внаем в церкви святого Иакова и живет в Виноградном тупике.
— Что такое эта ваша Барбетга из Виноградного тупика!.. — презрительно бросил Жибасье. — Какое ничтожное общество вы себе избрали, Карманьоль!
— Всего в жизни надо попробовать, высокочтимый граф!
— Ну и?.. — промолвил Жибасье.
— Вот я и говорю, что Барбетта сдает стулья внаем и на этих стульях мой друг Овсюг… Вы знаете Овсюга?
— Да, в лицо.
— И на этих стульях мой друг Овсюг не гнушается сидеть.
— Какое отношение эта женщина, сдающая внаем стулья, на которых не гнушается сидеть ваш друг Овсюг, имеет к тайне, которую я жажду разгадать?
— Самое прямое!
— Ну и ну! — проговорил Жибасье; он остановился, моргая, и покрутил пальцами, сцепив руки на животе, всем своим видом словно желая сказать: «Не понимаю!»
Карманьоль тоже остановился и, улыбаясь, наслаждался собственным триумфом.
На церкви Успения пробило без четверти двенадцать.
Казалось, оба собеседника забыли обо всем на свете, считая удары.
— Без четверти двенадцать, — отметили они. — Отлично, у нас еще есть время.
Это восклицание свидетельствовало о том, что их беседа обоим была далеко не безразлична.
Впрочем, Жибасье казался более заинтересованным, чем Карманьоль, и потому именно он спрашивал, а Карманьоль отвечал.
— Я слушаю, — продолжал Жибасье.
— У вас, дорогой коллега, нет такой склонности к святой Церкви, как у меня, и потому вы, может быть, не знаете, что все женщины, сдающие стулья внаем, отлично друг друга знают.
— Готов признать, что понятия об этом не имел, — отвечал Жибасье с великолепной откровенностью, свойственной сильным людям.
— Так вот, — продолжал Карманьоль, гордый тем, что сообщил нечто новое столь просвещенному человеку, — эта женщина, сдающая стулья внаем в церкви святого Иакова…
— Барбетта? — уточнил Жибасье, показывая, что не упускает ни слова из разговора.
— Да, вот именно! Она дружит с женщиной, сдающей стулья внаем в церкви святого Сульпиция, и эта ее приятельница живет на улице Железной Кружки.
— А-а! — вскричал Жибасье, ослепленный догадкой.
— Догадались, к чему я клоню?
— Могу только предполагать, предчувствовать, догадываться…
— Так вот, женщина, сдающая стулья внаем в церкви святого Сульпиция, служит привратницей, как я вам только что сказал, в том самом доме, до которого вы вчера ночью «довели» господина Сарранти и где живет его сын, аббат Доминик.
— Продолжайте! — приказал Жибасье, ни за что на свете не желавший упустить ниточку, за которую он ухватился.
— Когда господин Жакаль получил сегодня утром письмо, в котором вы пересказывали ему вчерашние странствия, и понял, что вы шли за господином Сарранти до двери дома на улице Железной Кружки, он прежде всего послал за мной и спросил, не знаю ли я кого-нибудь в том доме. Вы понимаете, дорогой Жибасье, как я обрадовался, когда увидел, что это дом, который охраняет подруга приятельницы моего друга. Я только кивнул господину Жакалю и побежал к Барбетте. Я знал, что застану у нее Овсюга: в это время он пьет кофе. В общем, я побежал в Виноградный тупик. Овсюг был там. Я шепнул ему на ухо два слова, он Барбетте — четыре, и та сейчас же побежала к своей подружке, сдающей внаем стулья в церкви святого Сульпиция.
— A-а, неплохо, неплохо! — похвалил Жибасье, начиная разгадывать первые слоги шарады. — Продолжайте, я не пропускаю ни одного вашего слова.
— Итак, сегодня утром, в половине девятого, Барбетта отправилась на улицу Железной Кружки. Кажется, я вам сказал, что Овсюг в нескольких словах изложил ей суть дела. И первое, что она заметила, — письмо, сунутое в щель оконной рамы; оно было адресовано г-ну Доминику Сарранти.
«Хе-хе! Так ваш монах, стало быть, еще не вернулся?» — спросила Барбетта у своей приятельницы.
«Нет, — отвечала та, — я жду его с минуты на минуту».
«Странно, что его так долго нет».
«Разве этих монахов поймешь?.. А почему, собственно, вы им интересуетесь?»
«Да просто потому, что увидела адресованное ему письмо», — ответила Барбетта.
«Его принесли вчера вечером».
«Странно! — продолжала Барбетта. — Похоже, почерк-то женский!»
«Что вы! — возразила другая. — Женщины, как бы не так!.. Вот уже пять лет аббат Доминик здесь живет, и за все время я ни разу не видела, чтобы к нему приходила хоть одна женщина».
«Что ни говорите, а…»
«Да нет, нет! Это писал мужчина. Знаете, он меня так напугал!..»
«Неужели он вас обругал, кума?»
«Нет, славу Богу, пожаловаться не могу. Видите ли, я чуточку вздремнула… Открываю глаза — откуда ни возьмись, передо мной высокий господин в черном».
«Уж не дьявол ли это был?»
«Нет, тогда бы после его ухода пахло серой… Он меня спросил, не вернулся ли аббат Доминик. — „Нет, — сказала я, — пока не возвращался“. — „Могу вам сообщить, что он будет дома сегодня вечером или завтра утром“, — сказал незнакомец. По-моему, есть отчего испугаться!»
«Ну, конечно!»
«„А-а, — сказала я, — сегодня или завтра? Ну что же, буду рада его видеть“. — „Он ваш исповедник?“ — улыбнулся незнакомец. „Сударь! Запомните: я не исповедуюсь молодым людям его возраста“. — „Неужели?.. Будьте добры передать ему… Впрочем, нет! У вас есть перо, бумага и чернила?“ — „Еще бы, черт возьми! Можно было не спрашивать!“ Я подала ему, что он просил, и он написал это письмо. „А теперь дайте чем запечатать!“ — „Вот этого-то как раз у нас и нет“».
«Неужели и вправду нет?» — удивилась Барбетта.
«Есть, разумеется. Да с какой стати я буду раздавать воск и облатки незнакомым людям?»
«Конечно, так можно и разориться».
«Дело не в этом! Как можно не доверять до такой степени, чтобы запечатывать письмо?!»
«Да и, кроме того, запечатанное письмо нельзя прочитать, когда тот, кто оставил его, уйдет. Впрочем, — продолжала Барбетта, бросая взгляд на письмо, — почему же оно запечатано?»
«Ах, и не говорите! Он стал шарить в бумажнике… И уж так он искал, так искал, что все-таки нашел старую облатку».
«Вы, стало быть, так и не узнали, что в этом письме?»
«Нет, разумеется. Да и к чему мне знать, что господин Доминик — его сын, что он будет ждать господина Доминика сегодня в полдень в церкви Успения у третьей колонны слева, как входишь в церковь, и что в Париже он живет под именем Дюбрёя».
«Значит, вы все-таки его прочли?»
«Я его приоткрыта… Мне не давала покоя мысль, почему он непременно хотел его запечатать».
В эту минуту зазвонили на церкви святого Сульпиция.
«Ах-ах! — вскрикнула привратница с улицы Железной Кружки. — Я совсем забыла!..»
«Что именно?»
«В девять часов похороны. А мой прощелыга-муженек улизнул в кабак. Всегда он так, ну всегда! И кого, интересно, я оставлю вместо себя охранять дверь? Кота?»
«А я на что?» — заметила Барбетта.
«Вы не шутите?! — обрадовалась привратница. — Вы готовы меня выручить?»
«Ну, какие пустяки! Люди должны друг другу помогать!»
И успокоенная привратница отправилась в церковь святого Сульпиция сдавать внаем стулья.
— Да, понимаю, — кивнул Жибасье, — а Барбетта осталась одна и в свою очередь заглянула в письмо.
— Ну, конечно! Она подержала его над паром, потом без труда распечатала и переписала. Десять минут спустя у нас уже был полный текст.
— И что говорилось в письме?
— То же, о чем рассказала привратница дома номер двадцать восемь. Да вот, кстати, текст письма.
Карманьоль вынул из кармана лист бумаги и стал читать текст вслух, в то время как Жибасье пробежал его глазами:
«Дорогой сын!
Я нахожусь в Париже со вчерашнего вечера под именем Дюбрёя. Прежде всего я навестил Вас; мне сообщили, что Вы еще не вернулись, но что Вам переслали мое первое письмо и, значит, Вы скоро будете дома. Если Вы прибудете сегодня ночью или завтра утром, будьте в полдень у церкви Успения, у третьей колонны слева от входа».
— A-а, очень хорошо! — заметил Жибасье.
Так, за разговором о своих и чужих делах, они подошли к паперти и вошли в церковь Успения ровно в полдень.
У третьей колонны слева стоял, прислонившись, г-н Сарранти, а Доминик, опустившись рядом с ним на колени и оставаясь незамеченным, целовал ему руку.
Впрочем, мы ошиблись: его видели Жибасье и Карманьоль.
VII
КАК ВЫЗВАТЬ МЯТЕЖ
Двум полицейским хватило одного взгляда; в ту же минуту они отвернулись и направились в противоположную сторону — к хорам.
Однако когда они повернули и не спеша двинулись в обратном направлении, Доминик по-прежнему стоял на коленях, а г-н Сарранти исчез.
Как мы видели, Жибасье был близок к тому, чтобы усомниться в непогрешимости г-на Жакаля, однако его восхищение начальником полиции лишь возросло; сцена, описанная и как бы предсказанная г-ном Жакалем, длилась не более секунды, но она все же была, и именно такая.
— Эге! — крякнул Карманьоль. — Монах на месте, а вот нашего подопечного я не вижу.
Жибасье поднялся на цыпочки, устремил опытный взгляд в толпу и улыбнулся.
— Зато его вижу я! — заметил он.
— Где?
— Справа от нас, по диагонали.
— Так-так-так…
— Смотрите внимательнее!
— Смотрю…
— Что вы там видите?
— Какого-то академика, он нюхает табак.
— Так он надеется проснуться: ему кажется, что он на заседании… А кто стоит за академиком?
— Мальчишка! Он вытаскивает у него из кармана часы.
— Должен же он сказать своему старому отцу, который час! Верно, Карманьоль?.. Та-а-ак… А за мальчишкой?..
— Молодой человек подсовывает записочку девушке в молитвенник.
— Можете быть уверены, Карманьоль, что это не приглашение на похороны… А кого вы видите за этой счастливой парочкой?
— Толстяка, да такого печального, словно он присутствует на собственных похоронах. Я постоянно встречаю этого господина на таких печальных церемониях.
— Ему, верно, не дает покоя грустная мысль, милый Карманьоль, что к себе на похороны он прийти не сможет. Впрочем, вы уже близки к цели, верный друг мой. Кто там стоит за печальным стариком?
— A-а, действительно наш подопечный!.. Разговаривает с господином де Лафайетом.
— Неужели с самим господином де Лафайетом? — произнес Жибасье с уважением, какое даже самые подлые и презренные люди питали к благородному старику.
— Как?! — удивился Карманьоль. — Вы не знаете в лицо господина де Лафайета?
— Я покинул Париж накануне того дня, когда меня должны были ему представить как перуанского классика, прибывшего для изучения французской конституции.
Два собрата, заложив руки за спину, с благодушным видом не спеша направились к группе, состоявшей из генерала де Лафайета, г-на де Маранда, генерала Пажоля, Дюпона (из Эра) и еще нескольких человек, которые примыкали к оппозиции и тем снискали большую популярность. Вот в это время Сальватор и указал на полицейских своим друзьям.
Жибасье не упустил ничего из того, что произошло между молодыми людьми. Казалось, у Жибасье зрение было развито особенно хорошо: он одновременно видел, что происходит справа и слева от него, подобно людям, страдающим косоглазием, а также — спереди и сзади, подобно хамелеону.
— Я думаю, дорогой Карманьоль, что эти господа нас узнали, — проговорил Жибасье, показав глазами на группу из пятерых молодых людей. — Хорошо бы нам расстаться, на время, разумеется. Кстати, так будет удобнее следить за нашим подопечным. Надо только условиться, где мы потом встретимся.
— Вы правы, — согласился Карманьоль. — Предосторожность не будет лишней. Заговорщики хитрее, чем может показаться на первый взгляд.
— Я бы не стал высказываться столь смело, Карманьоль. Впрочем, это не важно, можете оставаться при своем мнении.
— Вам известно, что мы должны арестовать только одного из них?..
— Конечно! Что бы мы стали делать с монахом? Он натравил бы на нас весь клир!
— … И арестовать как Дюбрёя за то, что он учинит в церкви скандал.
— И ни за что другое!
— Хорошо! — согласился Карманьоль и пошел вправо, а его собеседник нырнул влево.
Оба описали полукруг и расположились так: Карманьоль — справа от отца, Жибасье — слева от сына.
Началась месса.
Речь священника была умилительной; все сосредоточенно слушали.
По окончании мессы учащиеся Шалонской школы, доставившие гроб в церковь, подошли, чтобы снова его поднять и отнести на кладбище.
В ту минуту как они склонялись, чтобы вместе поднять тяжелую ношу, высокий, одетый в черное, но без каких либо знаков отличия человек появился словно из-под земли и повелительным тоном произнес:
— Не прикасайтесь к гробу, господа!
— Почему? — растерянно спросили молодые люди.
— Я не намерен с вами объясняться, — заявил господин в черном. — Не трогать гроб!
Он обернулся к распорядителю и спросил:
— Где ваши носильщики, сударь? Где ваши носильщики?
Тот вышел вперед и сказал:
— Да я полагал, что тело должны нести эти господа…
— Я не знаю этих людей, — оборвал его человек в черном. — Я спрашиваю, где ваши носильщики. Немедленно приведите их сюда!
Можно себе представить, что тут началось! Нелепое происшествие произвело в церкви волнение: со всех сторон поднялся шум, подобный грозному рокоту морских валов в последние минуты перед бурей; толпа ревела от возмущения.
Очевидно, незнакомец чувствовал за собой несокрушимую силу, потому что в ответ на возмущение присутствующих лишь презрительно ухмыльнулся.
— Носильщиков! — повторил он.
— Нет, нет, нет! Никаких носильщиков! — закричали учащиеся.
— Никаких носильщиков! — вторила им толпа.
— По какому праву, — продолжали молодые люди, — вы нам запрещаете нести тело нашего благодетеля, если у нас есть разрешение близких покойного?
— Это ложь! — выкрикнул незнакомец. — Близкие настаивают на том, чтобы тело было доставлено на кладбище обычным порядком.
— Он говорит правду, господа? — обратились молодые люди к графам Гаэтану и Александру де Ларошфуко, сыновьям покойного, вышедшим в эту самую минуту вперед, чтобы идти за гробом. — Это правда, господа? Вы запрещаете нам нести тело нашего благодетеля и вашего отца, которого мы любили как родного?
В церкви стоял неописуемый шум.
Однако когда присутствующие услышали этот вопрос и увидели, что граф Гаэтан собирается отвечать, со всех сторон донеслось:
— Тише! Тише! Тише!
Все стихло как по мановению волшебной палочки, и в установившейся тишине отчетливо прозвучал негромкий, строгий и одновременно полный признательности голос графа Гаэтана:
— Близкие не только не запрещают, а, напротив, поручили и вновь поручают вам сделать это, господа!
Его слова были встречены громким «Ура!»; оно эхом прокатилось по рядам собравшихся и отдалось под сводами церкви.
Тем временем распорядитель привел носильщиков и те взялись за носилки. Но, когда граф Гаэтан выразил свою волю, они передали гроб учащимся, те подставили плечи и благоговейно двинулись из церкви.
Процессия беспрепятственно пересекла двор и вышла на улицу Сент-Оноре.
Незнакомец, учинивший беспорядок, исчез как по волшебству. В толпе перешептывались: люди спрашивали друг у друга, куда он делся, но никто не заметил, как он ушел.
На улице Сент-Оноре похоронная процессия перестроилась: впереди шли сыновья герцога де Ларошфуко, за ними следовали пэры Франции, депутаты, люди, известные своими личными заслугами или занимавшие высокое общественное положение, друзья и близкие покойного.
Герцог де Ларошфуко был генерал-лейтенантом, поэтому за гробом следовал почетный караул.
Казалось, страсти улеглись, как вдруг в ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, незнакомец, устроивший скандал в церкви, появился снова.
Когда толпа увидела его, послышались возмущенные крики.
Однако незнакомец приблизился к офицеру, командовавшему почетным караулом, и шепнул ему на ухо несколько слов.
Потом он громко приказал ему оказать поддержку полиции: помешать молодым людям нести гроб, поставить его на катафалк, а затем вывезти из Парижа.
В ответ на новое требование незнакомца, а в особенности на то, что он прибег к помощи вооруженной силы, со всех сторон раздались угрожающие крики.
Среди них отчетливо прозвучали слова:
— Нет, нет, не соглашайтесь… Да здравствует гвардия! Долой шпиков! Долой полицейского комиссара! На фонарь его!
И, как бы поддерживая этот крик, вся толпа всколыхнулась, словно море во время прилива.
Последняя волна его прошла так близко от комиссара, что тот отпрянул.
Он поискал глазами крикуна и, окинув собравшихся угрожающим взглядом, обратился к офицеру:
— Сударь! Еще раз приказываю вам оказать мне содействие.
Офицер посмотрел на своих солдат: непреклонные и суровые, они были готовы исполнить любое приказание. Снова послышались крики:
— Да здравствует гвардия! Долой шпиков!
— Сударь! — резко повторил человек в черном. — В третий и последний раз приказываю оказать мне содействие!
У меня категорический приказ, и горе вам, если вы посмеете помешать мне его исполнить!
Офицер был побежден повелительным тоном комиссара и угрозой, звучавшей в его приказаниях. Он вполголоса отдал распоряжение — мгновение спустя сверкнули штыки.
Это движение, казалось, довело толпу до крайней ярости.
Крики, угрозы, призывы к отмщению и крови понеслись со всех сторон.
— Долой гвардию! Смерть комиссару! Долой правительство! Смерть Корбьеру! На фонарь иезуитов! Да здравствует свобода печати!
Солдаты вышли вперед, чтобы захватить гроб.
Теперь, если читателю угодно перейти от общего к частностям и от описания толпы к портретам отдельных личностей, эту толпу составляющих, мы приглашаем обратить взоры на персонажей нашего романа в ту минуту, как учащиеся Шалонской школы спускаются по ступеням церкви Успения и направляются к улице Сент-Оноре.
Выйдя из церкви, г-н Сарранти и аббат Доминик (сопровождаемые: один Жибасье, другой Карманьолем) незаметно сошлись, не подавая виду, что знакомы, направились в конец улицы Мондови, что рядом с площадью Оранжереи, напротив сада Тюильри, и там остановились.
Господин де Маранд и его друзья собрались на улице Мон-Табор в ожидании, когда процессия двинется в путь.
Сальватор в сопровождении четверых друзей остановился на улице Сент-Оноре, на углу Новой Люксембургской улицы.
Когда в толпе произошло движение, ряды сомкнулись и молодые люди оказались всего в двадцати шагах от решетки, окружающей церковь Успения.
Они обернулись, заслышав крики, которыми возмущенные парижане, принимавшие участие в похоронной церемонии, встретили вмешательство военных.
Впрочем, среди тех, кто выражал таким образом свое негодование, громче других кричали субъекты с подлыми лицами и косыми взглядами, умело и обильно рассеянные кем-то в толпе.
Жан Робер и Петрус отвернулись от них с омерзением. В эту минуту они хотели только одного: как можно скорее удалиться от этого скопища людей, над которым словно нависла гроза. Однако они оказались зажаты в кольце: не было ни малейшей возможности двинуться с места; надо было позаботиться прежде всего о личной безопасности, а потому все их усилия свелись к тому, чтобы не быть задавленными.
Сальватор, загадочный человек, которому были доступны не только тайны аристократии, но и уловки полиции, знал большинство из этих подстрекателей, и не просто в лицо, а — что удивительно — даже по имени; для любознательного Жана Робера, поэта с возвышенными чувствами, эти имена были словно вехи на неведомом пути, ведущем к кругам ада, описанным Данте.
Это были Овсюг, Увалень, Стальной Волос, Драчун — одним словом, вся та команда, которую наши читатели видели во время осады таинственного дома на Почтовой улице, когда один из них, незадачливый Ветрогон, неосторожно прыгнул вниз и разбился. Там мелькали и другие: со всех сторон они подмигивали и делали знаки Сальватору, который с помощью тех же мимических средств давал им понять, что следует вести себя как можно осмотрительнее; среди них были Багор и его приятель папаша Фрикасе, окончательно помирившиеся (папашу Фрикасе по-прежнему еще издали можно было узнать по сильному запаху валерианы, поразившему когда-то Людовика в кабаке на углу улицы Мясника Обри, где начиналась длинная история, которую мы сейчас представляем вниманию наших читателей); здесь же находились Фафиу и божественный Коперник (у них был общий интерес: Коперник боялся поссориться с Фафиу еще больше, чем Фафиу — с Коперником).
Коперник простил Фафиу неосмотрительный поступок, который паяц отнес на счет нервного потрясения, с которым он не сумел совладать. Однако Коперник заставил Фафиу поклясться, что это более не повторится, и Фафиу исполнил это требование, но про себя сделал оговорку, благодаря которой иезуиты уверяют, что можно обещать что угодно и не сдержать слово.
В нескольких шагах от актеров, к счастью отделенный от них плотной толпой, стоял Жан Бык, держа под руку, словно жандарм — пленника (точь-в-точь как Жибасье недавно держал полицейского), высокую светловолосую девушку, рыночную Венеру, по имени Фифина, с гибким, как у змеи, телом.
Мы говорим «к счастью», потому что Жан Бык словно угадывал присутствие Фафиу, также как Людовик чувствовал приближение папаши Фрикасе, хотя мы вовсе не хотим сказать, что от несчастного малого исходил тот же запах, что от кошатника: читатели помнят, какую глубокую ненависть, какое закоренелое отвращение питал могучий плотник к своему хрупкому сопернику.
Неподалеку находились двое приятелей, давших молодым людям бой в кабаке. Один из них был каменщик по прозвищу Кирпич, тот самый, что во время пожара сбросил из окна третьего этажа ребенка и жену на руки этому Гераклу Фарнезскому, прозванному Жаном Быком, а потом прыгнул и сам. Белый, как известь, с которой ему частенько приходилось иметь дело и которой он был обязан своим прозвищем, каменщик стоял под руку с гигантом, настолько же черным, насколько сам каменщик был бел. Этот великан, этот титан — супруг Ночи — был тем огромным угольщиком, кого Жан Бык в порыве веселья и педантизма прозвал однажды Туссен-Лувертюром.
Кроме перечисленных выше персонажей, в толпе находились те самые люди в черном, которых мы видели во дворе префектуры: они ожидали последних указаний г-на Жакаля и сигнала к действию.
В то мгновение, когда солдаты со штыками наперевес приблизились к гробу, два десятка человек в благородном порыве бросились вперед, чтобы защитить собой учащихся Шалонской школы, которые несли тело.
Офицера спросили, посмеет ли он пустить в ход штыки против молодых людей, чьим единственным преступлением является уважение к памяти их благодетеля; тот отвечал, что получил строгий приказ от полицейского комиссара и не хочет быть разжалованным.
Он в последний раз потребовал от тех, кто хотел помешать ему исполнить долг, немедленно удалиться. Затем он обратился к тем, что несли гроб и были защищены живой стеной, и приказал им опустить гроб на землю.
— Не делайте этого! Не слушайте его! — закричали со всех сторон. — Мы с вами!
Судя по уверенности и решительности, с которой держались учащиеся, они решили не сдаваться и идти до конца.
Офицер приказал своим людям продолжать наступление; те, приподняв было штыки, вновь их опустили.
— Смерть комиссару! Смерть офицеру! — взвыла толпа.
Человек в черном поднял руку. В воздухе просвистела дубинка, и какой-то человек, получив удар в висок, упал, обливаясь кровью.
В то время мы еще не пережили страшных волнений 5–6 июня и 13–14 апреля, а потому убийство человека еще могло произвести некоторое впечатление.
— Убивают! — закричали в толпе. — Убивают!
Словно ожидая только этого крика, две-три сотни полицейских вынули из-под рединготов дубинки, похожие на ту, которой только что размозжили голову несчастному.
Война была объявлена.
Те, у кого были палки, подняли их вверх; у кого были ножи, вынули их из карманов.
Умело ускоряемое действие (если позволено будет прибегнуть к языку драматургии) привело к взрыву.
Жан Бык, человек отчаянной смелости, сангвиник, привыкший действовать по первому побуждению, забыл о безмолвных предупреждениях Сальватора.
— Так! — промолвил он, выпустив руку Фифины и поплевав на ладони. — Похоже, дошло до рукопашной!
Словно желая испытать свои силы, он сгреб первого попавшегося полицейского и приготовился отшвырнуть его в сторону.
— Ко мне! На помощь! На помощь, друзья! — завопил полицейский, но голос его в железных объятиях Жана Быка стал звучать все тише.
Стальной Волос услышал этот отчаянный крик, ужом проскользнул в толпу, подкрался сзади и уже занес было над головой Жана Быка короткую свинцовую дубинку, как Кирпич, ринувшись между плотником и полицейским, вырвал у того дубинку, а тряпичник, подойдя к ним и желая, без сомнения, оправдать свою кличку, подставил Стальному Волосу ногу и опрокинул его навзничь.
С этой минуты все смешалось; пронзительно закричали женщины.
Полицейский, которого Жан Бык обхватил поперек туловища, как Геракл — Антея, выпустил дубинку, и та покатилась к ногам Фифины. Она ее подобрала и, засучив рукава, с развевавшимися по ветру волосами, стала колотить направо и налево всех, кто осмеливался к ней приблизиться. Два-три удара нашей Брадаманты, не уступавшие по силе мужским, привлекли к ней внимание нескольких полицейских, и ей, несомненно, пришел бы конец, если бы не Коперник и Фафиу, поспешившие ей на помощь.
При виде Фафиу, приближавшегося к Фифине, Жан Бык решился действовать наверняка. Он швырнул в толпу полицейского и, обращаясь к паяцу, сказал:
— И ты туда же!
И, протянув руку, он схватил Фафиу за шиворот.
Однако едва он до него дотронулся, как получил удар свинцовой дубинкой и выпустил жертву.
Он узнал поразившую его руку.
— Фифина! — взвыл он, закипая от гнева. — Ты что, хочешь, чтобы я тебя уничтожил?
— Ну ты, тряпка! Только попробуй поднять на меня руку!
— Не на тебя, а на него!
— Только взгляните на этого негодяя! — возмутилась она, обращаясь к Кирпичу и Багру. — Он хочет задушить человека, который спас мне жизнь!
Жан Бык испустил вздох, похожий на рык, потом обратился к Фафиу:
— Убирайся! И если жизнь тебе дорога, старайся не попадаться на моем пути!
Пока все это происходит на правой стороне, где находятся Жан Бык и его собутыльники по кабаку, посмотрим, как обстоят дела слева, где остановились Сальватор и четверо его товарищей.
Как мы помним, Сальватор посоветовал Жюстену, Петрусу, Жану Роберу и Людовику ни в коем случае ни во что не вмешиваться, однако Жюстен, по виду самый невозмутимый из всех, не послушался этого совета.
Расскажем сначала, как они стояли.
Жюстен расположился слева от Сальватора, трое других молодых людей держались позади него.
Вдруг Жюстен услышал в трех шагах от себя душераздирающий крик; детский голос взывал:
— Ко мне, господин Жюстен! На помощь!
Услышав свое имя, Жюстен бросился вперед и заметил Баболена, опрокинутого навзничь; полицейский избивал его ногами.
Быстрым, как мысль, движением Жюстен с силой оттолкнул полицейского и нагнулся, чтобы помочь Баболену подняться. Однако в ту минуту, как он наклонялся, Сальватор увидел, что полицейский занес над его головой дубинку. Он в свою очередь устремился на помощь, выбросив вперед руку, чтобы защитить Жюстена, приняв удар на себя; но, к его величайшему изумлению, дубинка замерла в воздухе и ласковый голос произнес:
— Э-э, здравствуйте, дорогой господин Сальватор! Как я рад вас видеть!
Голос принадлежал г-ну Жакалю.
VIII
АРЕСТ
Господин Жакаль узнал в Жюстене друга Сальватора и возлюбленного Мины; увидев, какая опасность угрожает молодому человеку, он одновременно с Сальватором бросился ему на помощь.
Вот как руки Сальватора и г-на Жакаля встретились.
Однако на этом покровительство г-на Жакаля не кончилось.
Взмахом руки он приказал своим людям не трогать молодых людей и отозвал Сальватора в сторону.
— Дорогой мой господин Сальватор! — проговорил начальник полиции и приподнял очки, чтобы не упустить во время разговора ничего из того, что происходило в толпе. — Дорогой господин Сальватор! Позвольте дать вам хороший совет.
— Говорите, дорогой господин Жакаль.
— Дружеский совет… Вы же знаете, что я вам друг, не так ли?
— Льщу себя надеждой, — отозвался Сальватор.
— Порекомендуйте господину Жюстену и другим лицам, судьба которых вам небезразлична, — глазами он указал на Петруса, Людовика и Жана Робера, — порекомендуйте им удалиться и… последуйте их примеру сами.
— Почему же это, господин Жакаль?! — воскликнул Сальватор.
— Потому что с ними может случиться несчастье.
— Неужели?
— Да, — кивнул г-н Жакаль.
— Мы, стало быть, явимся свидетелями мятежа?
— Очень боюсь, что так. То, что сейчас происходит, об этом свидетельствует. Именно так все мятежи и начинаются.
— Да, начинаются они все одинаково, — заметил Сальватор. — Правда, заканчиваются они, как правило, по-разному.
— Этот кончится хорошо, я ручаюсь, — заверил г-н Жакаль.
— Ну, раз вы ручаетесь!.. — бросил Сальватор.
— У меня нет и тени сомнения на сей счет.
— Дьявольщина!
— Но вы должны понимать, что, несмотря на особое покровительство, которое я готов оказать вашим друзьям, с ними, как я уже сказал, может произойти несчастье. А потому попросите их удалиться.
— Увольте меня от этого, — попросил Сальватор.
— Отчего же?
— Они решили оставаться до конца.
— С какой целью?
— Из любопытства…
— Пф! — фыркнул г-н Жакаль. — Знаете, не так уж это интересно.
— Тем более что, судя по вашим словам, в одном можно быть уверенным: сила останется на стороне закона.
— Что, однако, не помешает вашим друзьям, если они останутся…
— Ну и?..
— Подвергнуться риску…
— Какому риску?
— Черт побери! Какому риску подвергается любой человек во время мятежа? Скажем, получить небольшие ушибы…
— В таком случае, дорогой господин Жакаль, как вы понимаете, не мне их жалеть.
— То есть, как?
— Они получат то, чего заслуживают.
— Что вы хотите этим сказать?
— Они пожелали увидеть мятеж — пусть расплачиваются за свое любопытство.
— Они хотели увидеть мятеж? — переспросил г-н Жакаль?
— Да, — отвечал Сальватор.
— Так они, выходит, знали, что должен был вспыхнуть мятеж? Ваши друзья заранее знали о том, что здесь произойдет?
— Во всех подробностях, дорогой господин Жакаль. Даже самые бывалые моряки не могут предсказать бурю с большей проницательностью, нежели мои друзья почуяли надвигающийся мятеж.
— В самом деле?
— Можете не сомневаться. Признайтесь, дорогой господин Жакаль, только слепец может не понять, что здесь происходит.
— И что же происходит? — спросил г-н Жакаль, водружая очки на нос.
— А вы не знаете?
— Не имею ни малейшего представления.
— Тогда спросите вон у того господина, которого арестовывают на ваших глазах.
— Где? — спросил г-н Жакаль, не поднимая очков: он не хуже Сальватора видел, что происходит. — У какого господина?
— Ах да, верно, у вас такое слабое зрение, что вы, пожалуй, не увидите. Попытайтесь, однако… Смотрите; вон там, в двух шагах от монаха.
— Да, в самом деле, я кажется вижу белое одеяние.
— Ах, клянусь Небом, это же аббат Доминик, друг несчастного Коломбана! — вскричал Сальватор. — А я-то полагал, что он в Бретани, в замке Пангоэлей.
— Он там действительно был и вернулся сегодня утром, — сообщил г-н Жакаль.
— Сегодня утром? Благодарю вас, вы прекрасно осведомлены, господин Жакаль, — с улыбкой сказал Сальватор. — А рядом с ним, видите?..
— Да, черт возьми, там арестовывают какого-то человека, верно, и мне от всей души жаль этого гражданина.
— Так вы не знаете, кто это?
— Нет.
— А тех, кто арестовывает, вы знаете?
— У меня такое слабое зрение… И потом, их там много, как мне кажется.
— Вы не знаете даже тех двоих, что держат его за шиворот?
— Да, да, эти парни мне знакомы. Но где, черт возьми, я мог их видеть? Вот в чем вопрос.
— Итак, вы не помните?
— По правде говоря, нет.
— Хотите, я вам помогу?
— Доставьте мне это удовольствие!
— Того, что ростом пониже, вы видели, когда он отправлялся на каторгу, а высокого — когда он с каторги возвращался.
— Да, да, да!
— Теперь вспомнили?
— Да я их очень хорошо знаю, они же находятся у меня на службе. Какого дьявола они там делают?
— Полагаю, они работают на вас, господин Жакаль.
— Пф! — произнес г-н Жакаль. — Не исключено, что сейчас чудаки работают на себя. Такое с ними случается.
— Да, в самом деле, — заметил Сальватор. — Один из них только что срезал у пленника часы.
— Я же вам говорил… Ах, дорогой господин Сальватор! Полиция так несовершенна!
— Кому вы это рассказываете, господин Жакаль!
И не желая, видимо, чтобы его дольше видели в обществе г-на Жакаля, Сальватор отступил на шаг и поклонился.
— Счастлив был увидеться с вами, господин Сальватор, — проговорил, отступая, начальник полиции и торопливо зашагал в ту сторону, где Жибасье и Карманьоль пытались арестовать г-на Сарранти.
Мы говорили «пытались», потому что, хотя г-на Сарранти и схватили за шиворот двое полицейских, он вовсе не намерен был считать себя арестованным.
Прежде всего он попытался вступить в переговоры.
Заслышав слова: «Именем короля вы арестованы», которые шепнули ему с двух сторон Карманьоль и Жибасье, он отозвался в полный голос:
— Я арестован?! За что?
— Не надо шуметь! — вполголоса заметил Жибасье. — Мы вас знаем.
— Вы меня знаете? — вскричал Сарранти, смерив взглядом сначала одного, потом другого полицейского.
— Да, вас зовут Дюбрёй, — отвечал Карманьоль.
Как помнят читатели, г-н Сарранти написал сыну, что находится в Париже под именем Дюбрёя, и г-н Жакаль, не желавший придавать этому аресту политической окраски, посоветовал своим людям арестовать опытного заговорщика под этим именем.
Видя, что его отца пытаются арестовать, Доминик поддался сыновнему чувству и бросился ему на помощь.
Однако г-н Сарранти жестом остановил его.
— Не вмешивайтесь в это дело, сударь, — сказал он монаху. — Я жертва ошибки; уверен, что завтра же меня освободят.
Монах поклонился и отступил: он воспринял слова отца как приказ.
— Разумеется, — промолвил Жибасье, — если мы ошибаемся, то принесем вам свои извинения.
— Прежде всего, по какому праву вы арестовываете меня?
— Мы действуем согласно постановлению об аресте некого господина Дюбрёя, а вы так на него похожи, что я счел своей первейшей обязанностью вас арестовать.
— Однако, если вы боитесь огласки, почему задерживаете меня именно здесь?
— Да где встретили, там и задержали! — ухмыльнулся Карманьоль.
— Не говоря уж о том, что мы гоняемся за вами с самого утра, — поддержал его Жибасье.
— Как с самого утра?
— Ну да! С той минуты как вы покинули гостиницу.
— Какую гостиницу? — удивился Сарранти.
— Ту, что на площади Сент-Андре-дез-Ар, — уточнил Жибасье.
Господина Сарранти словно осенило. Ему почудилось, что он уже видел лицо и слышал голос Жибасье.
Он вспомнил свое путешествие, венгерца, курьера, кучера — все это прошло перед ним как в тумане и в то же время достаточно ясно; он скорее инстинктом, чем разумом, все понял — сомнений у него не осталось.
— Негодяй! — смертельно побледнев, вскричал корсиканец и решительно запустил руку в складки плаща.
Жибасье увидел, как сверкнуло лезвие кинжала, и вполне возможно, что за этим последовала бы смерть, как гром сопутствует молнии, если бы не Карманьоль: он понял, что происходит, и обеими руками перехватил занесенное было оружие.
Чувствуя себя зажатым с обеих сторон, Сарранти неимоверным усилием сбросил с себя полицейских и, зажав в руке кинжал, прыгнул в толпу с криком:
— Дорогу, дорогу!
Но Жибасье и Карманьоль бросились следом, сзывая на помощь своих товарищей.
Вокруг г-на Сарранти в одно мгновение сомкнулось непроходимое кольцо; над его головой уже было занесено два десятка дубинок, и он, очевидно, пал бы, как бык под ударами мясников, но в эту минуту раздался приказ:
— Живым!.. Брать только живым!
Полицейские узнали голос своего начальника, г-на Жакаля, и мысль о том, что они трудятся у него на виду, будто придала им сил: все так и набросились на г-на Сарранти.
Произошла страшная свалка: один человек отбивался от двадцати; потом он упал на одно колено, а вскоре и вовсе исчез…
Доминик ринулся было ему на помощь, но толпа в панике шарахнулась в сторону и с криками устремилась по улице, разлучив сына с отцом.
Монах уцепился за решетку особняка, чтобы обезумевшие от страха люди не унесли его вместе с собой; но когда толпа схлынула, г-н Сарранти вместе с подло избивавшими его полицейскими уже исчез.

