Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 12. Женская война. Сильвандир. 1993
Назад: XXIII О ТОМ, КАК ШЕВАЛЬЕ Д’АНГИЛЕМА ПЕРЕВЕЗЛИ ИЗ БАСТИЛИИ В ЗАМОК В ШАЛОН-СЮР-СОН, И О ТОМ, КАК ОН СОВЕРШИЛ ЭТОТ ПЕРЕЕЗД В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ОФИЦЕРА С ВЕСЬМА ВЕСЕЛЫМ НРАВОМ
Дальше: ХХV КАК ШЕВАЛЬЕ Д’АНГИЛЕМ УСТРОИЛ В СВОЕМ ОСОБНЯКЕ ПОЖАР ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОН СТАЛ ТЕМ, КЕМ ОПАСАЛСЯ СТАТЬ
XXIV
О ТОМ, КАК ШЕВАЛЬЕ Д’АНГИЛЕМ СДЕЛАЛСЯ ТАКИМ ЖЕ ОСТОРОЖНЫМ И СКРЫТНЫМ, КАКИМ БЫЛ ПОКОЙНЫЙ ГРАФ Д’ОЛИБАРЮС
Когда шевалье проснулся в первый раз, он увидел, что в камере по-прежнему горит лампа. Решив, что день еще не наступил, он повернулся лицом к стене и снова заснул.
Однако, проснувшись во второй раз, он удивился, что солнце все еще не встало, и внимательно огляделся вокруг. И только тогда ужасная истина открылась ему: в его темнице не было окна. Лампа, чей свет он посчитал сперва за благодеяние, оказывается, должна была отныне стать для него единственным светилом. На вращающемся деревянном круге, на котором узнику подавали в камеру пищу, уже стоял его завтрак: то был верный знак, что день давно наступил.
И тоща, несмотря на все свое мужество, шевалье почувствовал такое отчаяние, что сердце его болезненно сжалось в груди; сидя на своей койке и бессильно уронив руки, он мысленно вопрошал себя, в чем же его вина перед Богом и перед людьми, за что Господь покинул его, а люди столь дурно с ним обращаются.
Он не мог бы точно сказать, как долго пребывал он в таком унынии. Внезапно вращающийся круг повернулся на своей оси и вновь появился в камере: теперь на нем стоял тюремный обед, сменивший завтрак, к которому узник даже не притронулся.
Хотя Роже был всецело поглощен горестными мыслями, всегда требовательная натура предъявляла свои права. Его мучил голод! Его мучила жажда! Он машинально подошел к вертящемуся кругу, поел и напился, как это делает терзаемое жаждой и голодом животное, затем он принялся кружить по камере, медленно и размеренно, как кружит запертый в клетке хищный зверь.
Проходил час за часом, однако смена тьмы и света не отмечала хода времени; один день следовал за другим, а до слуха узника не доносилось ни малейшего шороха. У него было только одно развлечение: следить за вращающимся кругом — он скрипел, когда заключенному доставляли пищу, да за лампой — она покачивалась, когда ее поднимали через отверстие в потолке, чтобы налить в нее масла и заменить догоревший фитиль новым.
Однако рука, заставлявшая круг скрипеть, а лампу ползти вверх, оставалась невидимой. Раза два или три узник обращался к неведомому существу, приводившему их в движение, и спрашивал, какой нынче день или который час, но делал он это не потому, что и в самом деле хотел знать, какой был день недели или который был час, а для того, чтобы услышать звук человеческого голоса; но он так ни разу не получил никакого ответа на свои вопросы и довольно скоро прекратил все попытки, поняв, что они ни к чему не ведут.
На первых порах им овладело отчаяние, потом на смену отчаянию пришло полное безразличие; порою он спал теперь по двенадцати часов кряду. Он то катался по кровати, как дикарь, то часами сидел неподвижно, как слабоумный.
Одно время шевалье даже надеялся, что лишится рассудка, и, думая об этом, он разражался взрывами дикого хохота.
Но ему не было суждено это счастье. Подобно тому, как камень, брошенный в пруд, на короткое время взбаламучивает воду и на поверхность поднимается тина, так и удар, поразивший Роже в самое сердце, привел к тому, что гнев и отчаяние поднялись из недр его души и помрачили ум; но, как и вода в пруде постепенно успокаивается, становится чистой и прозрачной, так и ум узника постепенно успокоился, и уже через месяц после нового заточения шевалье, взглянув на него, можно было подумать, что он вновь стал спокоен, почти безмятежен.
Дело в том, что желчь, сперва помутившая рассудок Роже, теперь мало-помалу проникала в сердце, ожесточая его.
Тоща-то к нему и возвратилось внешнее спокойствие. У него был такой вид, словно он живет обычной жизнью; тело его пребывало в неподвижности, зато ум работал безотказно и четко, мысли обрели ясность. Вдумываясь в нынешнее свое положение, он постигал теперь множество скрытых обстоятельств, которых не замечал прежде, когда жил на свободе, на вольном воздухе, когда вращался в обществе: в ту пору, отвлекаемый внешними впечатлениями, он даже не подозревал о существовании этих обстоятельств.
Он перебирал в памяти день за днем, час за часом, чуть ли не минуту за минутой; он мысленно обозревал всю свою жизнь начиная с того самого дня, когда сделался мужем Сильвандир, и вплоть до того дня, когда его взяли под стражу прямо на улице в Кур-ла-Рен. Он пытался разобраться в той мимолетной любви, которую, по-видимому, все же питала к нему жена: то было всего лишь физическое влечение молодой женщины к тому, кто первый заставил ее испытать неведомые дотоле ощущения. Он припоминал теперь, как эта мнимая любовь мало-помалу исчезала, уступая место безразличию; припомнил он также, как зародились первые признаки той враждебности, какую Сильвандир постепенно начала выказывать по отношению к нему, и возникли они сразу же после появления в особняке д’Антилема маркиза де Руаянкура. Враждебность эта еще больше усиливалась оттого, что Сильвандир терпеть не могла друзей своего мужа. Именно с той поры и началась жестокая борьба между шевалье и его женою — двумя людьми, чьи натуры были столь несхожи. Каждый призвал к себе на помощь настоящих своих союзников. Роже призвал Кретте, д’Эрбиньи, Кло-Рено и других столь же прямодушных дворян: они-то и посоветовали ему вести войну с открытым забралом, они же потом надоумили его благоразумно отступить. А Сильвандир призвала маркиза де Руаянкура, метра Буто и, разумеется, иезуита Летелье: они, должно быть, прибегли к хитроумным маневрам, к тайным уловкам, к недостойным приемам и в конце концов добились своего. И теперь он, Роже, полностью оказался в их власти, над ним тяготело обвинение, не имевшее никакого отношения к истинной причине его ареста. Его могут продержать в темнице до тех пор, пока будет длиться страсть, любовь или просто прихоть, которая влечет маркиза де Руаянкура к Сильвандир, а может быть, и того дольше, ибо если сейчас маркиз должен опасаться гнева оскорбленного мужа, то впоследствии он станет бояться мести узника, освобожденного после стольких мук; да, он, Роже, может пробыть в темнице бесконечно — либо потому, что привязанность маркиза к Сильвандир устоит перед временем, либо потому, что страх Руаянкура перед шевалье д’Ангилемом окажется сильнее угрызений совести.
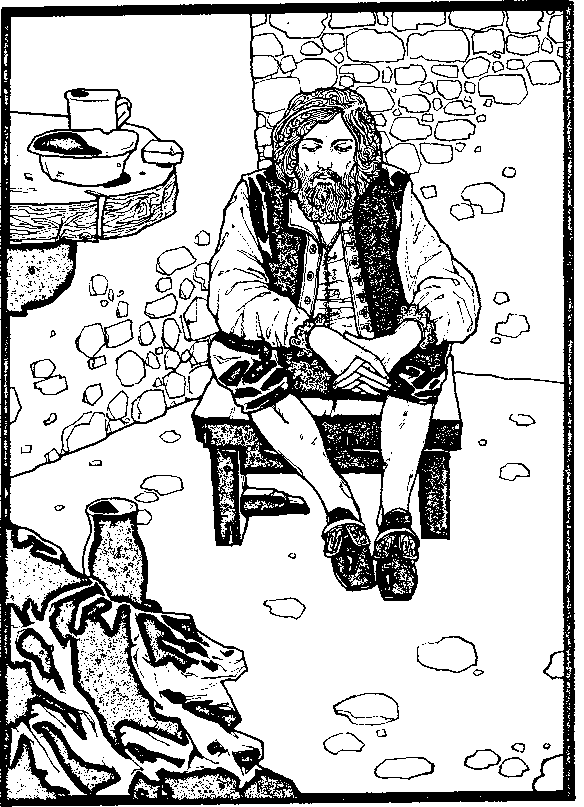
Затем Роже принимался разбирать свое собственное поведение так же тщательно, как он разбирал поведение других, и теперь он находил множество способов избежать тех бед, которые на него обрушились.
"Да, да, я вел себя как глупец, — рассуждал он сам с собою. — Мне следовало поступать так, как поступают многие известные мне мужья, они счастливы и пользуются общим уважением, они сейчас на свободе и спокойно прогуливаются по Парижу. Я должен был на многое закрыть глаза, взять себе в любовницы мадемуазель Пуссет, как весьма разумно советовал Кретте. Право же, все эти мужья — люди умные, один только я вел себя как болван.
Веди я себя по-другому, я бы не оказался в заточении, я не был бы теперь жалким узником, а командовал каким-нибудь полком. Правда, мне пришлось бы соблюдать пост три раза в неделю, но зато в остальные дни я преспокойно ел бы жирную пищу в обществе своей любовницы и друзей, для этого мне бы следовало только купить в Сент-Антуанском предместье хорошо обставленный, уютный, но не привлекающий к себе посторонних взглядов небольшой дом. Сам король благосклонно улыбался бы мне, раз в неделю я бы прикладывался к высохшей руке госпожи де Ментенон, я бы усиленно обхаживал отца Летелье, но зато мне, быть может, пожаловали бы титул герцога, я, возможно, стал бы пэром Франции.
Поистине, какой же я глупец!
Нет! Все-таки нет! Тысячу раз нет! Я поступил именно так, как должен был поступить, и если бы все повторилось сызнова, я все равно поступил бы так же! Ибо на этом свете существует только одно понятие о чести и только одна возможность сохранить ее. К тому же я любил эту женщину, правда, сердце мое навсегда принадлежит бедной Констанс, но я любил и Сильвандир, любил ее из тщеславия, любил потому, что она хороша собой, а также, быть может, и потому, что я так много для нее сделал, потому, что она всем мне обязана — словом, как бы то ни было, а я любил ее; вот почему я не должен был, я не мог допустить, чтобы ее у меня похитили. Значит, я поступил так, как должен был поступить, и не в том дело, что я будто бы глуп, а в том, что они негодяи.
Когда я в один прекрасный день выйду на свободу, я отомщу за себя!.. Но когда я выйду на свободу?.."
Все в конце концов сводилось к этому.
В Фор-л’Евеке шевалье решил, что, если ему вернут свободу, он все и всем простит. В Бастилии он уже мысленно делал кое-какие оговорки на сей счет. А в Шалоне он беспрестанно повторял себе: "Мне двадцать два года, а королю семьдесят пять. Если королю будет отпущено еще десять лет жизни, он проживет до восьмидесяти пяти, прожить дольше не может рассчитывать ни одна коронованная особа, как бы она ни была требовательна к судьбе. А после смерти короля двери темниц распахнутся, и, стало быть, если даже предположить самое худшее, мне, когда я выйду на свободу, будет всего тридцать два года".
Шевалье не раз спрашивал себя, что он предпочел бы: выйти из тюрьмы тотчас же, но при этом отказаться от мщения или же выйти из нее через десять лет, но зато всласть насладиться местью.
И он всякий раз отвечал себе, что предпочитает выйти из темницы через десять лет, но зато отомстить, причем отомстить так, как это делают люди осмотрительные и умные.
Таким образом, пробыв три месяца в одиночном заключении, шевалье превратился в глубокого мыслителя, в тонкого политика, в сущего Макиавелли.
Если бы кто-нибудь вдруг поглядел на Роже, то увидел бы, что он подолгу сидит на скамеечке, закинув ногу на ногу, упершись локтем в колено, подпирая подбородок рукою, пристально смотрит прямо перед собой и чему-то улыбается; и тоща этот нечаянный наблюдатель, верно, решил бы, что д’Ангилем думает о своем отце, о своей матери, о мадемуазель де Безри, о сладостных днях своей юности — словом, вспоминает о чем-то весьма приятном.
Нет, Роже думал о мщении.
Так прошло одиннадцать месяцев, и ни разу в сердце узника не закрадывалось отчаяние, ни разу мужество не изменило ему. Пожалуй, его загоревшее на солнце лицо несколько побледнело за время этой долгой ночи, а его богатырское тело немного исхудало из-за вынужденного поста, но зато бледность придала шевалье ту одухотворенность, какой ему прежде недоставало, но зато худоба придала ему ту элегантность, которую прежде тщетно пытались в нем отыскать. Роже был по-прежнему красив и силен, только теперь он стал лицемером.
Каждый вечер он громким голосом молил Бога даровать долгие дни королю и г-же де Ментенон, ибо он подозревал, что за ним подглядывают, чтобы знать, что он делает, и подслушивают, чтобы знать, что он говорит; правда, при этом он в глубине души посылал и короля и даму его сердца ко всем чертям, но делал это молча, и никто, кроме него самого да Господа Бога, об этом не ведал.
Однажды утром, когда шевалье с аппетитом грыз ломоть черствого хлеба, служивший ему завтраком, дверь в его камеру отворилась и знакомый голос донесся до слуха узника. Глаза его привыкли к темноте, ибо нередко он долгие часы и даже целые дни оставался без света, когда тюремщики забывали зажечь погасшую лампу, и поэтому он без труда разглядел пышно одетого дворянина; тот сделал два или три шага вперед и окликнул шевалье по имени.
Это был маркиз де Руаянкур; он с распростертыми объятиями приближался к д’Ангилему.
Шевалье схватил скамейку и поднял ее, намереваясь раскроить голову маркизу: ведь перед ним стоял враг. Надо было только опустить с силой массивное оружие, и он убил бы наглеца; Роже секунду помедлил, потом бросил скамеечку на кровать и тоже с распростертыми объятиями поспешил навстречу г-ну де Руаянкуру.
В камере было совершенно темно, и посетитель не заметил угрожающего движения, которое сделал Роже.
Два эти человека, смертельно ненавидевшие друг друга, обнялись как друзья, как братья.
— Так вот вы, оказывается, где, дорогой д’Ангилем! — воскликнул маркиз, схватив шевалье за руку и выводя его из камеры. — Нам долго пришлось вас разыскивать, и мы с таким трудом вас нашли!
Несмотря на все свое присутствие духа, Роже растерялся от такой наглости, однако он скрыл это под притворной улыбкой, принял руку, которую маркиз протянул ему, чтобы вывести из камеры, и, шагая вслед за своим врагом, сам горячо жал ему руку; так, рука об руку, они вошли в покои коменданта.
Подойдя к зеркалу, шевалье с трудом узнал себя. Теперь у него была длинная борода, всклокоченные волосы, а его одежда превратилась в лохмотья.
Он улыбался своему отражению такой же улыбкой, какой улыбался перед тем маркизу де Руаянкуру.
— Вы свободны, дорогой д’Ангилем, — сказал маркиз. — Но, Боже правый, как могло случиться, что вы целых пятнадцать месяцев не подавали о себе вестей? Впрочем, мы побеседуем об этом позднее. А теперь займемся более неотложными делами.
— Я полагаю, любезный мой освободитель, мой друг, мой брат, — сказал Роже, — я полагаю, что прежде всего надо бы спросить у коменданта замка, вправду ли я освобожден. Я пока еще не могу в это поверить.
— Вы свободны, дорогой шевалье, и свободны благодаря нашим настойчивым хлопотам, — перебил его маркиз.
— Поверьте, я вам бесконечно признателен. В таком случае самое неотложное — попросить у коменданта, чтобы он предоставил в мое распоряжение комнату, распорядился принести туда ванну и пригласил ко мне портного и цирюльника.
— Разумеется, дорогой шевалье, и все это сейчас будет к вашим услугам, за исключением портного, ибо он вам ни к чему. Я предвидел, что вам понадобится новая одежда, и у меня в карете ваше платье, я приказал слугам взять его у вас дома; сейчас платье принесут, а тем временем, если вы позволите, мой камердинер займется вашим туалетом.
— Вы так добры ко мне, любезный маркиз! Но я охотно принимаю ваши заботы: мне так приятно думать, что я вам всем обязан.
Роже проводили в какую-то комнату, туда принесли ванну, и камердинер маркиза де Руаянкура постриг и побрил его.
Приняв ванну, шевалье облачился в чистое платье.
И только тут он сам впервые по-настоящему понял, какая огромная перемена произошла в нем. Прежде Роже недоставало только одного: изящества и утонченности, этих непременных признаков породы; теперь такую утонченность придали ему страдания, вынужденный пост и, должно быть, глубокие размышления о жизни. Ныне шевалье д’Антлем стал подлинно светским человеком.
Увидев его таким, маркиз де Руаянкур был поражен. Теперь в д’Ангилеме угадывалась уверенная сила, которой раньше в нем никто не замечал, в его глазах светилась решимость, и маркиз внутренне содрогнулся. Он впервые подумал, что человеку, чьим врагом станет шевалье, придется круто.
Комендант пригласил обоих дворян позавтракать вместе с ним, но д’Ангилем с улыбкой ответил, что комендант, должно быть забыл о том, что ему уже приносили завтрак в камеру перед тем, как пожаловал маркиз де Руаянкур. Комендант пролепетал невнятные извинения, сославшись на то, что установленные в замке строгие правила не позволяют ему оказывать своим постояльцам все те знаки внимания, к каким они привыкли. На это Роже со своей неизменной улыбкой ответил, что был бы не прав, если б вздумал жаловаться, ибо с ним здесь обращались превосходно.
Карета уже ожидала у ворот, в нее были запряжены почтовые лошади; маркиз и шевалье сели в экипаж, и лошади понеслись во весь опор.
Долгие одиннадцать месяцев Роже дышал спертым и зловонным воздухом одиночной камеры, и теперь он с восторгом, с наслаждением вдыхал чистый, напоенный ароматами майский воздух. Долгие одиннадцать месяцев он постоянно видел перед глазами мрачные стены тесной камеры, а теперь его взору открылся необозримый простор с широкими равнинами и синеющими вдали горами; однако шевалье ничем не выдавал своего восторга и своей радости, по его непроницаемому лицу нельзя было угадать, чем переполнено его сердце, любовью или ненавистью: он с одинаковой улыбкой любовался милыми его душе картинами природы и смотрел на ненавистного врага.
Время от времени от отвечал на вопросы маркиза дружелюбным кивком или ласковыми словами и непрестанно повторял, что глубоко признателен и всегда будет глубоко предан ему.
Постепенно беседа, несколько натянутая оттого, что маркиз не мог до конца справиться с легким замешательством, а Роже не в силах был полностью побороть свое волнение, приняла более спокойный характер и потекла более плавно.
Шевалье призвал на помощь все свое мужество и недрогнувшим голосом осведомился о здоровье Сильвандир.
— Увы! Бедняжка! — воскликнул маркиз. — Вы причинили ей много горя, вы перед ней очень виноваты и должны подумать, как лучше загладить свою вину.
— Да, да, — пробормотал шевалье. — Вы совершенно правы.
— Конечно, прав, — подхватил маркиз. — Сначала, когда вы пригрозили жене, что покинете ее, она не поверила, что вы можете уехать, и решила, будто это шутка; но, когда она увидела, что прошел день, второй, третий, а вы все не возвращаетесь, ей пришлось взглянуть правде в лицо. И тогда бедняжка едва не лишилась рассудка, целую неделю она плакала да жаловалась на судьбу; наконец она собралась с силами и поехала к господину д’Аржансону, чтобы узнать, где вы находитесь. Однако он знал только, что вас больше нет во Франции. Сами понимаете, при этом известии она впала в еще более глубокое отчаяние; в один прекрасный день господин Буто, придя в ваш особняк, узнал, что Сильвандир утром уехала, дабы попытаться отыскать вас и остаться с вами. Целых три месяца мы не знали, что с нею сталось. Бедная женщина! Но вот король, которому ведомо все, что происходит в его королевстве, узнал и о вашей истории, он заявил, что вы дурной муж, что вы подаете опасный пример, и отдал приказ взять вас под стражу.
— О, наш добрый король! О, наш всемилостивейший монарх! — воскликнул шевалье самым проникновенным тоном.
— Вот тоща-то в вашем доме произвели обыск и нашли эти злополучные водевили, от них-то и произошли все беды.
— Как я сожалею, что хранил у себя подобные песенки! Надеюсь, вы не подумали, будто я их автор, не могли же вы допустить, что я способен на такую черную неблагодарность?
— О, я никогда так не думал, это-то и позволило мне столь решительно защищать вас, доказывая вашу невиновность.
— Вы мой спаситель! — вскричал д’Ангилем, завладевая обеими руками маркиза де Руаянкура. — Но, прошу вас, вернемся к Сильвандир.
— Так вот, дорогой друг, Сильвандир прибыла в Лондон в надежде отыскать вас; она узнала, что незадолго перед тем вы уехали обратно во Францию, и она тут же поспешила вслед за вами. В Дувр она приехала через день после вас; в Кале она оказалась спустя два часа после вашего отъезда оттуда.
— Милая Сильвандир! — тихо произнес Роже тоном самого любящего супруга.
— В Кале она узнала, что вы отправились в Париж, и, не теряя ни минуты, не пожелав даже отдохнуть с дороги, хотя она в этом очень нуждалась, в свою очередь, поспешила в столицу, надеясь догнать вас по дороге; но надежда ее не осуществилась. Тоща она решила, что вы уже дома, а вас и там не было; бедняжка просидела всю ночь напролет, даже не прилегла ни на минуту: она все ждала, что вы вот-вот вернетесь, однако вы так и не появились. Судите ж сами о ее горе!
— Ах, маркиз, маркиз! Сердце мое разрывается! — вскричал Роже, вытирая глаза носовым платком. — Что ж было дальше? Продолжайте же… И я смел подозревать такую женщину! Ах, вы правы, маркиз, я очень виноват перед нею! Но дальше, что было дальше?
— Что было дальше? — переспросил маркиз, обманутый тем, как натурально держал себя шевалье. — Ну что я вам могу сказать? День за днем она проводила в слезах, предаваясь своему горю, а вас все не было, и мы не могли понять, что с вами произошло.
— Стало быть, вы не знали, что я в тюрьме? Клянусь честью, я так и думал.
— О Господи, конечно, не знали! Господин д’Аржансон боялся, что ваша супруга будет осаждать его просьбами, что я буду на него наседать, а ему ведь известно, что я пользуюсь кое-каким влиянием, и потому он сообщил нам о том, что вы в заточении, лишь две недели назад. И тоща, сами понимаете, Сильвандир со своей стороны начала хлопоты, господин Буто и я со своей стороны повели атаку, и мы так просили, так умоляли госпожу де Ментенон, так донимали просьбами короля, что в конце концов нам удалось добиться вашего освобождения. Ах, мой дорогой д’Ангилем, — прибавил маркиз прочувствованным голосом, — право же, нам пришлось немало помучиться!
— А я тем временем обвинял всех вас в равнодушии. Ах, несчастный! Ах, неблагодарный! Вы-то меня простили, но как вы полагаете, маркиз, простит ли она меня когда-ни-будь?
— Сердце женщины — кладезь снисходительности, — напыщенно ответил маркиз де Руаянкур. — Так что надейтесь, надейтесь, любезный шевалье.
— А теперь, когда вы меня немного успокоили на сей счет, скажите, что вам известно о моих родителях, любезный маркиз. Вы сами видите, что супружеская любовь заставила меня забыть о сыновней любви. Уповаю, что барон и баронесса д’Ангилем в добром здравии?
— Да, благодарение Богу! И госпожа д’Ангилем позаботилась сообщить вашим родителям, что вы должны вот-вот возвратиться после долгого путешествия: ведь они, как и все мы, ничего не знали о вашем заточении.
— Славная Сильвандир!.. Ну а как поживают остальные наши знакомые — д’Эрбиньи, Кло-Рено, Кретте?
Последнее имя Роже не столько произнес, сколько чуть слышно обронил.
Маркиз попался на удочку: он поверил этому небрежному тону.
— Как вы знаете, — ответил он, — я редко вижусь с вашими друзьями, ведь они при дворе слывут вольнодумцами, завсегдатаями Пале-Рояля. Однако они, кажется, здоровы и благополучны, в частности господин де Кретте, с которым у меня, к сожалению, произошла небольшая стычка, но, слава Богу, все обошлось.
— Да, правда! У вас там что-то вышло из-за госпожи де Ментенон? Разумеется, Кретте не прав, напрасно он не жалует эту достойную, эту святую особу, но, как вы сами изволили заметить, он ведь вольнодумец, должно быть, он из компании де Брольи, Лафара и Канильяка.
— Эти несчастные люди губят свою душу! — воскликнул маркиз де Руаянкур с притворным сочувствием, молитвенно складывая руки.
— Если у них вообще есть душа, — подхватил шевалье.
Маркиз де Руаянкур с сомнением только передернул плечами, и разговор на время оборвался.
Роже был весьма доволен собою: он действовал в полном согласии с теми правилами поведения, какие обдумывал целых пятнадцать месяцев, проведенных за решеткой. Он увидел, что маркиз попался на его удочку, и теперь надеялся, что сумеет обмануть и свою жену, как только что обманул Руаянкура.
За этими и подобными разговорами прошел весь путь. Они ехали днем и ночью, лишь ненадолго остановились в Осере и буквально на одну минуту задержались в Фонтенбло.
Наконец они прибыли в Париж.
Шевалье издали увидел Фор-л’Евек и проехал под самыми стенами Бастилии.
Десять минут спустя экипаж остановился у ворот особняка д’Ангилема.
Роже тут явно ждали: все в доме были предупреждены, все было готово к его приезду. Войдя во двор, он увидел, что в дверях стоят слуги, а у открытого окна сидит его жена.
Шевалье выскочил из кареты и бегом кинулся в гостиную; Сильвандир в сопровождении метра Буто вышла навстречу мужу и уже стояла в дверях.
И в эту минуту, отведя взгляд от слащаво улыбающейся жены, Роже увидел позади нее висевшие на стене портреты своих родителей: отец и мать улыбались ему из рам. И хотя за время пятнадцатимесячного заключения сердце шевалье окаменело, слезы брызнули у него из глаз при виде этих самых преданных друзей, на которых только и может всегда рассчитывать человек.
Охватившее Роже волнение было таким сильным, что он лишился чувств.
Сильвандир могла подумать, будто силы оставили шевалье из-за любви к ней и от радости, что он вновь с нею свиделся; так она, без сомнения, и подумала.
Назад: XXIII О ТОМ, КАК ШЕВАЛЬЕ Д’АНГИЛЕМА ПЕРЕВЕЗЛИ ИЗ БАСТИЛИИ В ЗАМОК В ШАЛОН-СЮР-СОН, И О ТОМ, КАК ОН СОВЕРШИЛ ЭТОТ ПЕРЕЕЗД В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ОФИЦЕРА С ВЕСЬМА ВЕСЕЛЫМ НРАВОМ
Дальше: ХХV КАК ШЕВАЛЬЕ Д’АНГИЛЕМ УСТРОИЛ В СВОЕМ ОСОБНЯКЕ ПОЖАР ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОН СТАЛ ТЕМ, КЕМ ОПАСАЛСЯ СТАТЬ

