Книга: А.Дюма. Собрание сочинений. Том 11.
Назад: V КАК ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН НАПИСАЛ СВОЮ ПЕРВУЮ СКАЗКУ
Дальше: XVII СОПЕРНИКИ В ЛЮБВИ
XI
БРАЖЕЛОН ПРОДОЛЖАЕТ РАССПРАШИВАТЬ
Капитан находился при исполнении служебных обязанностей: он дежурил. Сидя в глубоком кожаном кресле, воткнув шпоры в паркет, со шпагою между ног, он читал, покручивая усы, письма, лежавшие перед ним целою грудой.
Заметив сына своего старинного друга, д’Артаньян пробурчал что-то радостное.
— Рауль, милый мой, по какому случаю король вызвал тебя?
Эти слова неприятно поразили слух юноши, и он ответил, усаживаясь на стул:
— Право, ничего об этом не знаю. Знаю лишь то, что я возвратился.
— Гм! — пробормотал д’Артаньян, складывая письма и окидывая пронизывающим взглядом своего собеседника. — Что ты там толкуешь, мой милый? Что король тебя вовсе не вызывал, а ты все же вернулся? Я тут чего-то не понимаю.
Рауль был бледен и, чувствуя себя неловко, вертел в руках шляпу.
— Какого черта ты строишь такую кислую физиономию и что за могильный тон? — сказал капитан. — Это что же, в Англии приобретают такие повадки? Черт подери! И я побывал в Англии, но возвратился оттуда веселый, как зяблик. Будешь ли ты говорить?
— Мне надо сказать слишком многое.
— Ах, вот как! Как поживает отец?
— Дорогой друг, извините меня. Я только что хотел спросить вас о том же.
Взгляд д’Артаньяна, проникавший в любые тайны, стал еще более острым. Он сказал:
— У тебя неприятности?
— Полагаю, что вы об этом отлично осведомлены, господин д’Артаньян.
— Я?
— Несомненно. Не притворяйтесь же, что вы удивлены этим.
— Я нисколько не притворяюсь, друг мой.
— Дорогой капитан, я очень хорошо знаю, что ни в уловках, ни в силе я не могу состязаться с вами и вы меня с легкостью одолеете. Видите ли, сейчас я непроходимо глуп, я жалкая, ничтожная тварь. Я лишился ума, и руки мои висят как плети. Так не презирайте же меня и окажите мне помощь! Я несчастнейший среди смертных.
— Это еще почему? — спросил д’Артаньян, расстегивая пояс и смягчая выражение лица.
— Потому, что мадемуазель де Лавальер обманывает меня.
Лицо д’Артаньяна не изменилось.
— Обманывает! Обманывает! И слова-то какие важные! Кто тебе про это сказал?
— Все.
— A-а, если все сказали тебе про это, значит, тут есть доля истины. Что до меня, то я верю, что где-то есть пламя, раз я увидел дым. Это смешно, но тем не менее это так.
— Значит, вы верите! — вскричал Бражелон.
— Если ты со мной делишься…
— Разумеется.
— Я не вмешиваюсь в дела подобного рода, и ты это хорошо знаешь.
— Как! Даже для друга? Для сына?
— Вот именно. Если б ты был чужим, посторонним, я сказал бы тебе… я бы ничего тебе не сказал… Не знаешь ли, как поживает Портос?
— Сударь! — воскликнул Рауль, сжимая руку д’Артаньяну. — Во имя дружбы, которую вы обещали моему отцу!
— Ах, черт! Я вижу, что ты серьезно заболел… любопытством.
— Это не любопытство, это любовь.
— Поди ты! Вот еще важное слово. Если б ты был влюблен по-настоящему, мой милый Рауль, это выглядело бы совсем по-иному.
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что, если б ты был охвачен настоящей любовью, я мог бы предполагать, что обращаюсь к твоему сердцу и ни к кому больше… Но это немыслимо.
— Поверьте же мне, я безумно люблю Луизу.
Д’Артаньян заглянул в самую глубину души Рауля.
— Немыслимо, повторяю тебе… Ты такой же, как все твои сверстники; ты не влюблен, ты безумствуешь.
— Ну, а если бы это было не так?
— Разумный человек никогда еще не мог повлиять на безумца, у которого голова идет кругом. За свою жизнь я раз сто обжигался на этом. Ты бы слушал меня, но не слышал; ты бы слышал меня, но не понял; ты бы понял меня, но не послушал моего совета.
— Но попробуйте все же, прошу вас, попробуйте!
— Скажу больше; если бы я имел несчастье и впрямь что-то знать и был бы настолько нечуток, чтобы поделиться с тобой тем, что знаю… Ведь ты говоришь, что считаешь себя моим другом?
— О да!
— Ну, так я бы с тобою рассорился. Ты бы никогда не простил мне, что я разрушил твою иллюзию, как говорится, в любовных делах.
— Господин д’Артаньян, вы знаете решительно все и оставляете меня в замешательстве, в полном отчаянии, в агонии! Это ужасно!
— Та-та-та!
— Вам известно, что я никогда ни на что не жалуюсь. Но так как Бог и мой отец никогда не простили бы мне, если б я пустил себе пулю в лоб, то я сейчас же уйду от вас и заставлю первого встречного рассказать мне то, чего вы не желаете сообщить; я обвиню его в том, что он лжет…
— И убьешь его? Вот это чудесно! Пожалуйста! Мне-то что за дело до этого? Убивай, мой милый, убивай, если это может доставить тебе удовольствие. Поступи как те, у кого болят зубы. Они говорят, обращаясь ко мне: "О, как я страдаю! Я готов был бы грызть от боли железо". На это я отвечаю им: "Ну и грызите, друзья, грызите его! Вы и впрямь, пожалуй, избавитесь от гнилого зуба".
— Нет, я не стану никого убивать, сударь, — сказал Рауль с мрачным видом.
— Ну да, вот вы, нынешние, обожаете подобные позы. Вы дадите себя убить, не так ли? До чего ж это мило! Ты думаешь, я о тебе пожалею? О нет, я без конца буду повторять в течение целого дня: "Что за ничтожная дрянь этот сосунок Бражелон, что за глупец! Всю свою жизнь я потратил на то, чтоб научить его как следует держать шпагу, а этот дурень дал себя проткнуть как цыпленка". Идите, Рауль, идите, дайте себя убить, друг мой. Не знаю, кто обучал вас логике, но прокляни меня Бог, как говорят англичане, если этот субъект не зря получал от вашего отца деньги.
Рауль молча закрыл руками лицо и прошептал:
— Нет на свете друзей, нет, нет!
— Вот как! — сказал д’Артаньян.
— Есть только насмешники и равнодушные.
— Вздор! Я не насмешник, хоть и чистокровный гасконец. И не равнодушный. Да если б я был равнодушным, я послал бы вас к черту уже четверть часа тому назад, потому что человека, обезумевшего от радости, вы превратили бы в печального, а печального уморили бы насмерть. Неужели же, молодой человек, вы хотите, чтобы я внушил вам отвращение к вашей милой и научил вас проклинать женщин, тогда как они честь и счастье человеческой жизни?
— Сударь, сообщите мне все, что вы знаете, и я буду благословлять вас до конца моих дней!
— Ну, мой милый, неужто вы воображаете, что я набивал себе голову всеми этими историями о столяре, о художнике, о лестнице и портрете и еще сотней тысяч таких же басен. Да я ошалел бы от этого!
— Столяр! При чем тут столяр?
— Право, не знаю. Но мне рассказывали, что какой-то столяр продырявил какой-то паркет.
— У Лавальер?
— Вот уж не знаю где.
— У короля?
— Если б это было у короля, то я так и пошел бы докладывать вам об этом, не так ли?
— Но все-таки у кого же?
— Уже битый час я повторяю вам, что решительно ни о чем не осведомлен.
— Но художник! И этот портрет?..
— Говорят, что король заказал портрет одной из придворных дам.
— Лавальер?
— Э, да у тебя на устах это имя и ничего больше! Кто ж тебе говорит, что это был портрет Лавальер?
— Но если речь идет не о ней, то почему вы предполагаете, что это может представлять для меня интерес?
— Я и не хочу, чтобы это представляло для тебя интерес. Ты спрашиваешь — я отвечаю. Ты хочешь знать скандальную хронику, я тебе выкладываю ее. Извлеки из нее все, что сможешь.
Рауль в отчаянии схватился за голову.
— Можно от всего этого умереть!
— Ты уже говорил об этом.
— Да, вы правы.
И он сделал шаг с намерением удалиться.
— Куда ты? — спросил д’Артаньян.
— К тому лицу, которое скажет мне правду.
— Кто это?
— Женщина.
— Мадемуазель де Лавальер собственной персоной, не так ли? — сказал с усмешкой д’Артаньян. — Чудесная мысль — ты жаждешь обрести утешенье — обретешь его тотчас же. О себе она дурного не скажет, иди!
— Вы ошибаетесь, сударь, — ответил Рауль, — женщина, к которой я хочу обратиться, скажет о ней много дурного.
— Держу пари, ты собираешься к Монтале!
— Да, к Монтале.
— Ах, приятельница? Женщина, которая по этой самой причине будет сильно преувеличивать в ту или другую сторону. Не говорите с Монтале, мой милый Рауль.
— Не разум вас наставляет, когда вы стремитесь не допустить меня к Монтале.
— Да, сознаюсь, это так… И, в сущности говоря, к чему мне играть с тобой, как кошка играет с бедною мышью? Ты, право, беспокоишь меня. И если я сейчас не хочу, чтобы ты говорил с Монтале, то лишь потому, что ты разгласишь свою тайну и этой тайной воспользуются. Подожди, если можешь.
— Не могу.
— Тем хуже! Видишь ли, Рауль, если б меня осенила какая-нибудь счастливая мысль… Но она не осеняет меня.
— Позвольте мне, друг мой, лишь делиться с вами своими печалями и предоставьте мне самостоятельно выпутываться из этой истории.
— Ах так! Дать тебе увязнуть в ней окончательно — вот ты чего захотел? Садись к столу и возьми в руку перо.
— Зачем?
— Чтобы написать Монтале и попросить у нее свидания.
— Ах! — воскликнул Рауль, хватая перо.
Вдруг отворилась дверь, и мушкетер, подойдя к д’Артаньяну, сказал:
— Господин капитан, здесь мадемуазель де Монтале, которая желает переговорить с вами.
— Со мной? — пробормотал д’Артаньян. — Пусть войдет, и я сразу увижу, со мной ли хотела она говорить.
Хитрый капитан угадал.
Монтале, войдя и увидев Рауля, вскрикнула:
— Сударь, сударь, вы тут! Простите, господин д’Артаньян.
— Охотно прощаю, сударыня, — сказал д’Артаньян, — я знаю, я в таком возрасте, что меня разыскивают только тогда, когда уж очень во мне нуждаются.
— Я разыскивала господина де Бражелона, — ответила Монтале.
— Как это удачно совпало! Я вас также хотел повидать.
— Рауль, не желаете ли выйти с мадемуазель Монтале?
— Всем сердцем!
— Идите!
И он тихонько вывел Рауля из кабинета; затем, взяв Монтале за руку, сказал шепотом:
— Будьте доброй девушкой. Пощадите его, пощадите ее.
— Ах, — ответила она так же тихо, — не я буду с ним разговаривать. За ним послала принцесса.
— Вот как, принцесса! — вскричал д’Артаньян. — Не пройдет и часа, как бедняжка поправится.
— Или умрет, — сказала Монтале с состраданием. — Прощайте, господин д’Артаньян!
И она побежала вслед за Раулем, который ожидал ее, стоя поодаль от дверей, встревоженный и озадаченный этим диалогом, не предвещавшим ему ничего хорошего.
XII
ДВЕ РЕВНОСТИ
Влюбленные нежны со всеми, кто имеет отношение к их возлюбленной. Как только Рауль остался наедине с Монтале, он с пылом поцеловал ее руку.
— Так, так, — грустно сказала девушка. — Вы плохо помещаете капитал своих поцелуев, дорогой господин Рауль, гарантирую, что они не принесут вам процентов.
— Как?.. Что?.. Объясните мне, милая Ора…
— Вам все объяснит принцесса. К ней-то я вас и веду.
— Что это значит?
— Тише… и не бросайте на меня таких испуганных взглядов. Тут окна имеют глаза, а стены — длинные уши. Будьте любезны больше не смотреть на меня; будьте любезны очень громко говорить со мной о дожде, о прекрасной погоде и о том, какие развлечения в Англии.
— Наконец…
— Ведь я предупреждала вас, что где-нибудь, я не знаю где, но где-нибудь у принцессы обязательно спрятано наблюдающее за нами око и подслушивающее нас ухо. Поймите, что мне вовсе не хочется быть выгнанной вон или попасть в тюрьму. Давайте говорить о погоде, повторяю еще раз, или лучше уж помолчим.
Рауль сжал кулаки и пошел быстрее. Он придал себе вид безгранично храброго человека — это верно, но то был храбрый человек, идущий на казнь. Монтале, легкая и настороженная, шла впереди него.
Рауля сразу же ввели в кабинет принцессы.
"Пройдет целый день, и я ничего не узнаю, — подумал Рауль. — Де Гиш пожалел меня, он сговорился с принцессой, и они оба, составив дружеский заговор, отдаляют решение этого больного вопроса. Ах, почему я не сталкиваюсь тут с откровенным врагом, например с этой змеею Бардом? Он, конечно, не преминул бы ужалить… но зато я бы не знал колебаний. Сомневаться… раздумывать… нет, лучше уж смерть!"
Рауль предстал перед принцессой.
Генриетта, которая была еще очаровательнее, чем всегда, полулежала в кресле; она положила свои прелестные ножки на бархатную вышитую подушку и играла с длинношерстным пушистым котенком, который покусывал ее пальцы и цеплялся за кружево, ниспадавшее с ее шеи. Принцесса была погружена в размышления. Только голоса Монтале и Рауля вывели ее из задумчивости.
— Ваше высочество посылали за мной? — повторил Рауль.
Принцесса встряхнула головой, как если б она только проснулась.
— Здравствуйте, господин де Бражелон, — сказала она, — да, я посылала за вами. Итак, вы вернулись из Англии?
— К услугам вашего высочества.
— Благодарю вас. Оставьте нас, Монтале.
Монтале вышла.
— Вы можете уделить мне несколько минут, не так ли, господин де Бражелон?
— Вся моя жизнь принадлежит вашему высочеству, — почтительно ответил Рауль, который за всеми этими любезностями принцессы предугадывал нечто мрачное. Но мрачность эта скорее была ему по душе, так как он был убежден, что чувства принцессы имеют нечто общее с его чувствами. И в самом деле, все умные люди при королевском дворе знали про капризный характер и взбалмошный деспотизм, свойственные принцессе.
Принцесса была свыше меры польщена вниманием короля; принцесса заставила говорить о себе и внушила королеве ту смертельную ревность, которая, как червь, разъедает всякое женское счастье, — словом, принцесса, желая исцелить оскорбленную гордость, воображала, что ее сердце сжимается от любви.
Мы с вами хорошо знаем, как поступила принцесса, чтобы вернуть Рауля, удаленного королем. Рауль, однако, не знал о ее письме к Карлу Второму; лишь один д’Артаньян догадался о нем.
Это необъяснимое сочетание любви и тщеславия, эту ни с чем не сравнимую нежность, это невиданное коварство— кто сможет их объяснить? Никто, даже демон, разжигающий в сердцах женщин кокетство. Помолчав еще некоторое время, принцесса наконец сказала:
— Господин де Бражелон, вы вернулись довольным?
Бражелон посмотрел на принцессу и увидел, что ее лицо покрывается бледностью; ее мучила тайна, которую она хранила в себе и которую страстно хотела открыть.
— Довольным? — переспросил Рауль. — Чем же я могу быть доволен или недоволен, ваше высочество?
— Но чем может быть доволен или недоволен человек вашего возраста и с вашей наружностью?
"Как ей не терпится! — подумал, ужаснувшись, Рауль. — Что вложит она в мое сердце?"
Затем, в страхе перед тем, что ему предстояло узнать, и желая отдалить столь вожделенный и вместе с тем столь страшный момент, он ответил:
— Ваше высочество, я оставил дорогого мне друга в добром здоровье, а, вернувшись, увидел его больным.
— Вы говорите о господине де Гише? — спросила принцесса с невозмутимым спокойствием. — Передают, что вы с ним очень дружны.
— Да, ваше высочество.
— Ну что ж, это верно, он был ранен, но теперь поправляется. О! Господина де Гиша жалеть не приходится, — добавила она быстро. Потом, как бы спохватившись, продолжала: — Разве его нужно жалеть? Разве он жалуется? Разве у него есть печали, которые не были б нам известны?
— Я говорю о его ране, ваше высочество, и ни о чем больше.
— Тогда ничего страшного, потому что во всем остальном господин де Гиш, как кажется, очень счастлив: он неизменно в радужном настроении. Знаете ли, господин де Бражелон, я уверена, что вы предпочли бы, чтобы вам нанесли телесную рану, как ему… Что такое телесная рана?
Рауль вздрогнул, подумав: "Она приступает к главному. Горе мне!" Он ничего не ответил.
— Что вы сказали? — спросила она.
— Ничего, ваше высочество.
— Ничего не сказали? Значит, вы не одобряете моих слов или, быть может, вы удовлетворены создавшимся положением?
Рауль подошел поближе к принцессе.
— Вашему высочеству угодно мне кое о чем рассказать, но естественное великодушие заставляет ваше высочество взвешивать свои слова. Я прошу ваше высочество ничего не утаивать. Я ощущаю в себе достаточно сил, я слушаю.
— На что вы, собственно, намекаете?
— На то, о чем ваше высочество хочет поставить меня в известность.
И, произнося эти слова, Рауль не смог удержаться от содрогания.
— Да, — прошептала принцесса, — это жестоко, но раз я начала…
— Да, раз вы снизошли к тому, чтобы начать, ваше высочество, снизойдите и к тому, чтобы кончить.
Генриетта поспешно встала и нервно прошлась по комнате.
— Что вам сказал де Гиш? — внезапно спросила она.
— Ничего.
— Ничего? Он ничего не сказал? О, как я узнаю его в этом!
— Он, несомненно, хотел пощадить меня.
— И вот это называется дружбой! Но господин д’Артаньян, от которого вы только что вышли, что вам сказал господин д’Артаньян?
— Не более, чем де Гиш.
Генриетта сделала нетерпеливое движение и сказала:
— Вам-то, по крайней мере, известно, о чем говорит весь двор?
— Мне ровно ничего не известно, ваше высочество.
— Ни сцена во время грозы?
— Ни сцена во время грозы…
— Ни встреча наедине в лесу?
— Ни встреча в лесу…
— Ни бегство в Шайо?
Рауль, клонившийся, как цветок, задетый серпом, сделал сверхчеловеческое усилие, чтоб улыбнуться, и ответил с трогательной простотой:
— Я имел честь сообщить вам, ваше высочество, что я решительно ничего не знаю. Я бедный, забытый всеми изгнанник, только что прибывший из Англии; между теми, кто здесь, и мною простиралось бурное море, и молва обо всем, о чем вы сказали, не могла достигнуть моего слуха.
Генриетта была тронута бледностью, кротостью и мужеством молодого человека. Но преобладающим желанием ее сердца в это мгновение была жажда услышать от обманутого влюбленного, что он по-прежнему помнит о той, которая причинила ему столько страданий.
— Господин де Бражелон, — сказала она, — то, что ваши друзья не пожелали сделать для вас, из уважения и любви к вам, сделаю я. Это я буду вашим истинным другом. Вы высоко держите голову, как истинно порядочный человек, и я не хочу, чтобы вы опустили ее под градом насмешек, а через неделю — я должна буду сказать это — перед всеобщим презрением.
— Ах! — прошептал смертельно побледневший Рауль. — Неужели дошло до этого?
— Если вы не осведомлены об этом, — сказала принцесса, — я вижу, что вы все же догадываетесь. Вы были женихом мадемуазель де Лавальер?
— Да, ваше высочество.
— Поскольку вы жених Лавальер, я обязана предуведомить вас: на днях я выгоню ее вон…
— Выгоните ее! — вскричал Бражелон.
— Без сомнения: неужели вы думаете, что я буду вечно считаться со слезами и просьбами короля? Нет, нет, мой дом недолго будет служить для вещей подобного рода. Но вы едва держитесь на ногах…
— Нет, простите, ваше высочество, — сказал Рауль, сделав над собою усилие, — мне показалось, что я умираю. Ваше высочество почтили меня сообщением, что король плакал, просил…
— Да, но напрасно.
И она рассказала Раулю о сцене в Шайо, об отчаянии короля по возвращении во дворец; она рассказала о своей снисходительности и об ужасной фразе, при помощи которой разгневанная принцесса, униженная кокетка, поборола гнев короля.
Рауль опустил голову.
— Что вы думаете об этом? — спросила она.
— Король любит ее, — ответил Рауль.
— Но вы как будто хотите сказать, что она не любит его.
— Увы, я все еще думаю о том времени, когда она любила меня, ваше высочество!
Генриетта на мгновение восхитилась этим возвышенным недоверием; затем, пожав плечами, она сказала:
— Вы мне не верите? О, как же вы ее любите! И вы сомневаетесь, что она отдала свою любовь королю?
— Пока я не получу доказательств. Простите меня, она дала мне слово, а она благородная девушка.
— Доказательств?.. Ну что же, пойдемте.
XIII
ОБЫСК
Принцесса повела Рауля через двор к тому крылу здания, где жила Лавальер, поднялась по лестнице, по которой этим утром он уже поднимался, и остановилась у двери, где молодой человек встретил столь странный прием со стороны Монтале.
Момент был выбран удачно; ничто не мешало принцессе приступить к исполнению ее плана; замок был пуст; король, придворные кавалеры и дамы уехали в Сен-Жермен; не поехала вместе со всеми лишь одна Генриетта, узнавшая о возвращении Бражелона и придумавшая, как использовать его возвращение; сославшись на нездоровье, она осталась у себя.
Итак, принцесса была уверена, что ни в комнате Лавальер, ни в апартаментах Сент-Эньяна она никого не застанет. Она вынула из кармана ключ и открыла дверь, ведущую в комнату ее фрейлины.
Бражелон обвел взглядом эту комнату, которую он сразу узнал, и вид ее заставил его сердце содрогнуться; но это было только начало мучений, которые его тут ожидали.
Принцесса внимательно посмотрела ему в глаза, и ее опытный взгляд проник в сердце молодого человека: она поняла, что в нем происходит.
— Вы просили у меня доказательств, — сказала она, — не удивляйтесь же, если я доставлю их вам. Впрочем, если вы не чувствуете в себе достаточно сил, еще не поздно, и мы можем удалиться.
— Благодарю вас, ваше высочество, но я пришел сюда, чтоб убедиться. Вы обещали убедить меня, убеждайте.
— Тогда войдите и заприте за собой дверь.
Бражелон повиновался и, повернувшись к принцессе, вопросительно посмотрел на нее.
— Известно ли вам, где вы находитесь? — спросила принцесса.
— Судя по всему, ваше высочество, я нахожусь в комнате мадемуазель Лавальер.
— Да, вы находитесь в ее комнате.
— Но я позволю себе заметить, что это — комната, но вовсе не доказательство.
— Погодите.
Принцесса прошла к кровати, сдвинула ширму и, наклонившись над паркетом, сказала:
— Нагнитесь и поднимите крышку этого люка.
— Люка! — повторил пораженный Рауль. Ему смутно припомнились слова д’Артаньяна: ведь и д’Артаньян как будто произнес это слово.
И Рауль стал искать глазами щель или прорезь, которые указали бы на отверстие, проделанное в полу, или кольцо, с помощью которого можно было бы поднять крышку над ним, но поиски его оказались тщетными.
— Ах, и в самом деле, — сказала, смеясь, Генриетта, — я забыла о скрытом механизме: четвертый листок на рисунке паркета. Нужно нажать в том месте, где на доске сучок. Следуйте этому указанию. Нажмите, виконт, вот здесь, нажимайте же!
Рауль, бледный как смерть, нажал пальцем на указанное ему принцессою место, в ту же секунду механизм пришел в движение, и кусок паркета поднялся.
— Это очень хитро, — сказала принцесса, — и архитектор, очевидно, предвидел, что пользоваться этим устройством придется маленькой ручке: смотрите, насколько легко открывается люк.
— Лестница! — воскликнул Рауль.
— Да, и даже очень изящная, — заметила Генриетта. — Посмотрите, виконт, у этой лестницы есть и перила, дабы воздушные создания, отваживающиеся спускаться по ней, не могли случайно свалиться; вот и я решаюсь спуститься. Следуйте за мною, виконт, следуйте.
— Но прежде чем пойти за вами, я хотел бы выяснить, куда ведет эта лестница.
— А, правда, я забыла сказать вам про это.
— Слушаю вас, ваше высочество, — едва дыша, произнес Рауль.
— Вам, быть может, известно, что граф де Сент-Эньян до недавнего времени жил рядом с покоями короля.
— Да, ваше высочество, мне это известно; до своего отъезда — и не раз — я имел честь посещать графа на его старой квартире.
— Так вот, король разрешил ему сменить его очень удобную и красиво отделанную квартиру, в которой вы были, на две небольшие комнаты, куда и ведет эта лестница. Комнаты вдвое меньше его прежней квартиры и в десять раз дальше от апартаментов короля, соседством с которым обыкновенно отнюдь не пренебрегают господа придворные кавалеры.
— Очень хорошо, ваше высочество, но продолжайте, прошу вас, так как я все еще ничего не понял.
— Вот и оказалось, конечно, совершенно случайно, что новые комнаты графа де Сент-Эньяна расположены под комнатами моих фрейлин, и в частности под комнатой Лавальер.
— Но к чему все-таки люк и лестница?
— Право, не знаю. Не хотите ли пройти вместе со мной к Сент-Эньяну? Быть может, там мы отыщем разгадку.
И принцесса, подавая пример, начала первая спускаться по лестнице. Рауль со вздохом пошел вслед за нею.
Каждая ступень, поскрипывавшая под ногами виконта де Бражелона, приближала его к таинственному приюту, в котором продолжал еще раздаваться голос мадемуазель Лавальер и сохранился сладчайший запах, исходивший от ее платья. Судорожно вдыхая воздух, Рауль сразу понял, что эта юная девушка, несомненно, проходила по лестнице.
Затем, после доказательств невидимых, пред ним предстали любимые ею цветы, книги, которые она выбирала. Если бы у Рауля оставалась хотя бы ничтожная доля сомнения, она бы исчезла при виде этой непостижимой гармонии ее вкусов и склонностей с находившимися здесь предметами повседневного обихода. Лавальер незримо присутствовала в убранстве, в тканях, даже в отблесках на шашках паркета.
Немой и раздавленный, он понял и постиг все до конца и следовал за своей безжалостной провожатой, как обреченный на смерть следует за палачом. Принцесса, жестокая, как всякая утонченная и нервная женщина, не щадила его и не скрыла ни единой подробности. Впрочем, надо сказать, что, несмотря на апатию, которая охватила его, ни одна из этих подробностей не ускользнула бы от Рауля, даже если б он находился здесь наедине с самим собою. Счастье любимой женщины, когда это счастье подарено ей соперником, — пытка для того, кто ревнив. Но для такого ревнивца, каким был Рауль, для этого сердца, которое впервые впитывало в себя яд желчи, счастье Луизы означало бесславную смерть, смерть и души и тела.
Пред его взором проносилось решительно все: сплетенные в объятиях руки, сближающиеся лица, губы, слитые в страстном порыве пред зеркалом, эта столь сладостная клятва влюбленных, жадно рассматривающих свое отражение, дабы крепче запечатлеть в памяти пленительную картину.
В своих мыслях он видел лобзания, скрытые непроницаемым пологом, который, колеблясь, выдавал объятия упоенных любовников, и красноречие ложа, таящегося в создаваемой этим пологом полутьме, причиняло ему жгучие муки.
Эта роскошь, эта изысканность, полная опьянения, это заботливое старание оградить возлюбленную от всякого неудовольствия или подарить ей прелестную неожиданность, это могущество всесильной любви, умноженное королевским могуществом, поразили Рауля смертельным ударом. О, если есть смягчение жгучих мук ревности, то его дает лишь сознание превосходства над человеком, которого вам предпочли. И напротив, если есть ад в аду, пытка, не имеющая названия на человеческом языке, то это — всемогущество Бога, предоставленное сопернику вместе с юностью, красотой, обаянием. В такое мгновение кажется, что сам Бог ополчился на покинутого любовника.
Несчастного Рауля ожидал последний удар: принцесса Генриетта подняла шелковый занавес, и за ним он увидел портрет Лавальер. Это не был портрет, это была сама Лавальер, юная, прекрасная, радостная, всеми порами впитывающая в себя жизнь, ибо для тех, кому восемнадцать лет, жизнь — это любовь.
— Луиза! Луиза! — прошептал Бражелон. — Итак, это правда? О, ты никогда не любила меня, ведь на меня ты так никогда не смотрела!
И ему показалось, что сердце сжалось в его груди.
Принцесса Генриетта разглядывала его и, наблюдая его страдания, испытывала странную зависть к Лавальер, хотя знала, что завидовать ей, в сущности, нечему и что де Гиш любит ее столь же пылко, как Бражелон любит свою Луизу. Рауль перехватил на себе взгляд принцессы и произнес:
— О, простите меня, простите! Я знаю, мне следовало бы лучше владеть собою в вашем присутствии. Но не дай Боже, владыка земли и неба, чтобы на вас когда-нибудь обрушился такой же удар, какой в этот день поразил меня. Ибо вы женщина и, конечно, не смогли бы снести этих мук. Простите меня, я бедный дворянин, и ничего больше, тогда как вы, вы принадлежите к числу тех счастливых, тех всемогущих, тех избранных…
— Господин де Бражелон, — ответила Генриетта, — сердце, подобное вашему, заслуживает забот и внимания самой королевы. Я ваш друг, виконт; поэтому я не хотела, чтобы вся ваша жизнь была отравлена вероломством и измарана беспощадной насмешкой. Я храбрее ваших друзей (я не говорю о графе де Гише); это я вызвала вас из Лондона; я доставила вам доказательства, бесспорно мучительные, но нужные, которые принесут вам исцеление, если вы умеете любить, как подобает мужчине, а ведь вы мужчина, а не вечно хнычущий Амадис. Не благодарите меня: лучше жалуйтесь на вашу судьбу и служите королю не хуже, чем прежде.
Рауль горестно усмехнулся.
— Да, это правда, я забыл, что король — мой господин.
— Дело идет о вашей свободе! О вашей жизни!
Ясный и прямой взгляд Рауля показал Генриетте, что она заблуждается и что последний из ее доводов — не из тех, которые способны воздействовать на виконта.
— Будьте осторожны, господин Бражелон, — сказала она, — не взвешивая всех ваших поступков, вы навлечете на себя гнев государя, который не умеет подчинять себя в таких случаях велениям разума; вы повергнете в печаль ваших друзей и вашу семью. Покоритесь, смиритесь, исцелите себя.
— Благодарю вас, ваше высочество, я ценю совет, который вы мне подаете, и постараюсь ему последовать. Но скажите мне еще несколько слов, прошу вас.
— Говорите.
— Будет ли нескромно спросить у вас, каким образом тайны этой лестницы, этого люка, наконец, тайна портрета стали известны вам?
— О, нет ничего проще: чтобы наблюдать за поведением моих фрейлин, я держу у себя вторые ключи от их комнат. Мне показалось странным, что Лавальер так часто запирается у себя, мне показалось странным, что граф де Сент-Эньян переменил квартиру; мне показалось странным, что король — ежедневный гость Сент-Эньяна, хотя он и прежде был с ним в тесной дружбе; наконец, мне показалось странным, что все это произошло после вашего отъезда отсюда и что многие привычки двора вдруг изменились. Я не хочу быть игрушкой в руках короля, не хочу служить ширмой его любовным делам; ведь после плаксивой Лавальер придет очередь хохотушки Монтале или певуньи Тонне-Шарант. Мне не пристало играть подобную роль. Я пренебрегла щепетильностью дружбы и открыла секрет… Я нанесла вам рану, простите меня, еще раз прошу вас об этом, но я должна была исполнить свой долг. Теперь дело сделано, вы предупреждены обо всем. Гром не замедлит грянуть, остерегайтесь!
— Все же вы чего-то не договариваете, ваше высочество, — твердо сказал Бражелон. — Ведь не думаете же вы, что я безмолвно снесу позор и измену?
— Поступайте так, как сочтете необходимым, господин Рауль. Но только не открывайте источника, из которого вы почерпнули правду; вот все, чего я хочу от вас, вот вознаграждение, которое я требую за оказанную услугу.
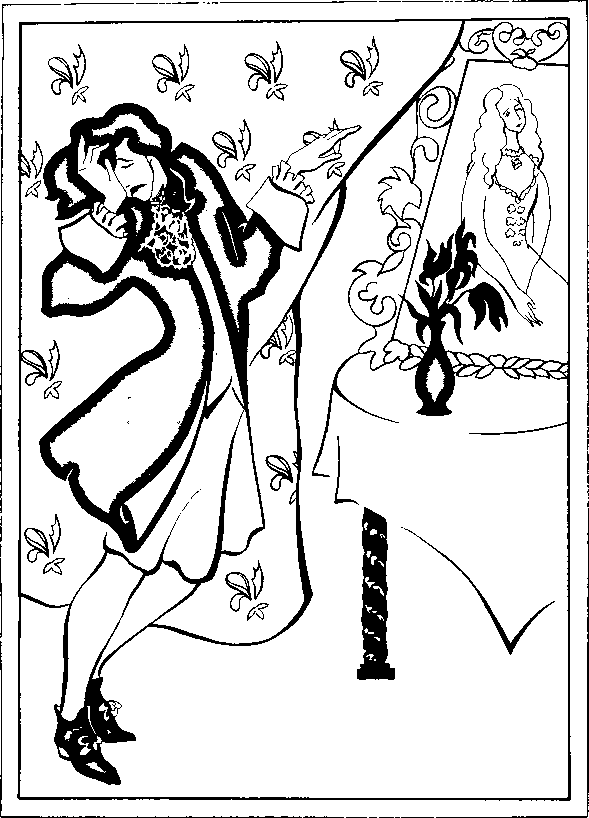
— Вам нечего опасаться, ваше высочество, — сказал с горькой усмешкою Бражелон.
— Я подкупила столяра, которого любовники использовали в своих интересах. Ведь вы могли сделать то же?
— Да, принцесса. Итак, ваше высочество не даете мне никакого совета и не требуете от меня ничего, кроме обязательства не компрометировать ваше высочество?
— Ничего, кроме этого.
— В таком случае я буду просить ваше высочество разрешить мне задержаться здесь еще на минуту.
— Без меня?
— О нет, это не важно. То, что мне предстоит сделать, я могу сделать и в вашем присутствии. Я прошу вас об этой минуте, чтобы написать кое-кому несколько слов.
— Это опасно, виконт. Берегитесь!
— Никто не узнает, что ваше высочество оказали мне честь, проводив меня в это место. Впрочем, я подписываю свое письмо.
Произнеся эти слова, Рауль вынул свою записную книжку и, вырвав листок, быстро написал следующее:
"Граф!
Не удивляйтесь, найдя здесь эту подписанную мною записку, до того, как один из моих друзей, которого я вскоре пришлю, будет иметь честь объяснить Вам причину моего визита.
Виконт Рауль де Бражелон".
Он свернул этот листок и сунул его в замочную скважину двери, ведущей в комнату обоих любовников. Убедившись, что письмо было хорошо видно и Сент-Эньян, возвращаясь домой, не мог бы не заметить его, он пошел за принцессой, которая уже успела подняться по лестнице.
На площадке они расстались. Рауль сделал вид, что бесконечно благодарен ее высочеству. Генриетта искренне или притворно еще раз посочувствовала несчастному, которого она только что обрекла на такие ужасные муки.
— О, — прошептала она, видя, как он удаляется, бледный, с налитыми кровью глазами, — о, если б я знала, я скрыла бы истину от бедного молодого человека.
XIV
МЕТОД ПОРТОСА
Изобилие действующих лиц, которых мы ввели в эту длинную повесть, приводит к тому, что каждый из них вынужден появляться только тогда, когда подойдет его очередь, и в зависимости от хода рассказа. Вот почему читатели не имели случая встретиться с нашим давнишним другом Портосом со времени его возвращения из Фонтенбло.
Почести, оказанные ему королем, не изменили спокойного и добродушного характера достойного дворянина; он всего лишь держал теперь голову чуточку выше, чем прежде, и с тех пор, как ему была оказана честь отобедать за королевским столом, в манерах его стало проскальзывать нечто величественное.
Обеденный зал его величества короля произвел на Портоса неизгладимое впечатление. Владелец Брасье и Пьерфона любил вспоминать, что во время этого достопамятного обеда целая толпа слуг и большое количество офицеров, находясь позади приглашенных, придавали обеду чрезвычайно торжественный вид и заполняли собою зал.
Портос решил наградить Мушкетона каким-нибудь соответствующим его положению званием, установить иерархию среди остальных слуг и устроить у себя своего рода маленький двор; этому не были чужды крупные полководцы, и в минувшем веке подобную роскошь позволяли себе господа де Тревиль, де Шомберг, де Ла Вьевиль, не говоря уже о Ришелье, Конде и Буйон-Тюренне.
Почему же Портосу, другу его величества короля и г-на Фуке, барону, королевскому инженеру, не насладиться всеми этими удовольствиями, связанными с богатством и большими заслугами?
Портоса стал забывать Арамис, занятый, как мы знаем, делами Фуке, немного забросил его и д’Артаньян, поглощенный своею службой. Трюшен и Планше успели ему изрядно наскучить, и он ловил себя на каких-то неясных ему самому мечтаниях. И всякому, кто спросил бы его, ощущает ли он, что ему чего-то недостает, он без колебаний ответил бы: "Да".
Как-то после обеда, когда Портос, немного повеселев от хороших вин, но снедаемый честолюбивыми мыслями, старался припомнить во всех подробностях королевский обед и собирался уже вздремнуть, его камердинер явился к нему с докладом, что с ним хочет переговорить виконт де Бражелон.
Выйдя в соседний зал, Портос обнаружил там своего юного друга, преисполненного, как мы знаем, серьезных намерений.
Рауль пожал руку Портосу, который, удивившись его мрачному виду, предложил ему сесть.
— Дорогой господин дю Валлон, я хочу попросить вас об услуге, — сказал Рауль.
— Вот и чудесно, — ответил Портос. — Только сегодня я получил из Пьерфона восемь тысяч ливров, и если вам нужны деньги…
— Нет, речь идет не о деньгах, благодарю вас, мой любезнейший друг.
— Очень жаль! Я не раз слышал, что это наиболее редкая из услуг, но вместе с тем и такая, которую легче всего оказать. Эти слова поразили меня, а я люблю повторять слова, которые меня поражают.
— У вас столь же доброе сердце, как здравый ум.
— Вы слишком добры ко мне. Быть может, желаете пообедать?
— О нет, я не голоден.
— Вот как! Что за ужасная страна Англия…
— Не очень. Но…
— Если б в ней не было превосходной рыбы и хорошего мяса, там было бы совсем нестерпимо.
— Да… Я пришел…
— Слушаю вас. Позвольте мне только утолить жажду. В Париже едят очень солоно. Фу!
И Портос велел принести бутылку шампанского.
Он наполнил стакан Рауля, потом свой, отпил большой глоток и возобновил разговор:
— Это было необходимо, чтобы внимательно слушать вас. Теперь я весь к вашим услугам. Что вам угодно, мой милый Рауль? Чего вы желаете?
— Выскажите, пожалуйста, свое мнение относительно ссор.
— Мое мнение? Изложите немного подробнее свою мысль, — ответил Портос, почесывая пальцами лоб.
— Я хочу спросить, в каком вы бываете настроении, если между кем-нибудь из ваших друзей и посторонним лицом произошла ссора?
— О, в прекраснейшем, как всегда.
— Отлично. Что же вы тогда делаете?
— Когда у моих друзей происходят ссоры, я держусь своего обычного принципа: потерянное время невозвратимо, и всякое дело хорошо улаживается, пока люди еще не остыли.
— Ах, неужели в этом ваш принцип?
— Вот именно. Поэтому, едва лишь возникла ссора, я тороплюсь свести друг с другом противные стороны. Вы понимаете, что при таких обстоятельствах невозможно, чтоб дело не было улажено как подобает.
— Я думал, — сказал удивленно Рауль, — что если повести его так, как вы говорите, то оно, напротив…
— Ни в коем случае. Представьте себе, за мою жизнь у меня было что-то вроде ста восьмидесяти или ста девяноста настоящих дуэлей, не считая случайных встреч.
— Вот это число! — сказал Рауль с невольной улыбкой.
— О, это сущие пустяки: я ведь чертовски спокойный. Вот д’Артаньян — он свои дуэли насчитывает сотнями. Правда, он суров и придирчив, и я нередко укорял его в этом.
— Значит, вы, как правило, стремились уладить порученные вам друзьями дела?
— Не было случая, чтоб я не улаживал их, — ответил Портос с таким добродушием и уверенностью, что Рауль едва не вскочил со своего кресла.
— Но соглашения, по крайней мере, бывали почетными?
— О, готов поручиться! Погодите минутку, я объясню вам, в чем состоит второй принцип, которого я придерживаюсь. Как только мой друг посвятил меня в свою ссору, я принимаюсь действовать следующим образом: я немедленно отправляюсь к его противнику, вооружаюсь отменной любезностью и хладнокровием, которые безусловно необходимы при этом…
— Вот потому-то, — с горечью промолвил Рауль, — вы так удачно и уверенно улаживаете дела этого рода.
— Полагаю, что так. Итак, я отправляюсь к противнику и говорю ему: "Сударь, невозможно, чтобы вы не отдавали себе отчета, до какой степени вы оскорбили моего друга".
Рауль нахмурился.
— Иногда, и даже часто, — продолжал Портос, — мой друг не подвергался никаким оскорблениям, больше того, он первым наносил оскорбление. Судите-ка сами, ловко ли я приступаю к делу?
Портос расхохотался. И пока гремел его смех, Рауль думал:
"Мне решительно не везет. Де Гиш заморозил меня своей холодностью, д’Артаньян издевается надо мной, а Портос слишком мягок — никто не хочет уладить это дело так, как я считаю нужным. А я-то обратился к Портосу в надежде встретить, наконец, шпагу вместо рассуждений и уговоров… До чего же мне не везет!"
Портос отдышался и продолжал:
— Итак, я одной этой фразою превращаю противника в виновную сторону.
— Это как когда, — рассеянно заметил Рауль.
— Нет, это способ проверенный… превращаю его в виновную сторону; тут я расстилаю перед ним всю доступную мне учтивость, дабы довести свой замысел до счастливой развязки. И вот я подхожу с приветливым видом, беру противника за руку…
— О! — нетерпеливо воскликнул Рауль.
— И говорю: "Сударь, теперь, когда вы убедились, что нанесли оскорбление, мы можем быть уверены в том, что вы не откажетесь ответить за свои действия. Отныне между моим другом и ваши возможны лишь безукоризненно любезные отношения. Ввиду этого мне поручено сообщить вам размеры шпаги моего друга".
— Как? — воскликнул Рауль.
— Погодите, это не все. "Размеры шпаги моего друга… Внизу у меня есть запасная лошадь; мой друг ожидает вас там-то и там-то; я увожу вас с собой, по дороге мы захватим вашего секунданта. И дело улажено".
— И вы мирите противников на месте дуэли? — спросил Рауль, побледнев от досады.
— Как? — перебил Портос. — Мирю? Это зачем же?
— Но вы говорите, что дело улажено?
— Разумеется, раз мой друг ожидает.
— Ну, если он ожидает…
— Если он ожидает, то лишь затем, чтобы предварительно размять себе ноги. А у противника тело напряжено после езды. Они занимают позицию, мой друг убивает врага. Вот и все.
— Ах, он убивает его? — воскликнул Рауль.
— Еще бы! Разве я выбираю себе друзей среди тех, кто дает убивать себя? У меня сто один друг, во главе которых могут быть названы ваш почтенный отец, Арамис и д’Артаньян, а они, как кажется, люди, о которых не скажешь, что пред тобою покойники.
— О, милый барон! — воскликнул в восторге Рауль. И он с жаром поцеловал Портоса.
— Значит, вы одобряете этот метод? — спросил великан.
— Одобряю, и так одобряю, что обращусь к вашей помощи сегодня же, без промедления, сию же минуту. Вы как раз тот человек, которого мне не хватало.
— Отлично! Я к вашим услугам. Вы желаете драться?
— Во что бы то ни стало.
— Это вполне естественно… С кем же?
— С господином де Сент-Эньяном.
— Я его знаю… Это очаровательный молодой человек, и он был чрезвычайно любезен со мной, когда я имел честь обедать у короля. Разумеется, я ему также отвечу любезностью, даже если б это не входило в мои привычки. Что же, он оскорбил вас?
— Смертельно.
— Черт подери! Я могу употребить слово "смертельно"?
— Если угодно, даже какое-нибудь еще посильнее.
— Это очень удобно.
— Вот и улажено дело, не так ли? — улыбаясь, сказал Рауль.
— Разумеется… Где вы намерены дожидаться его?
— О, это сложно, простите. Граф де Сент-Эньян — близкий друг короля.
— Я это слышал.
— И если мне доведется убить его…
— Вы его несомненно убьете. Но вы сами должны позаботиться насчет своей безопасности; ведь эти вещи делаются теперь без больших затруднений. Если б вы жили в мои времена, вот было бы славно!
— Милый друг, вы меня не поняли. Я хочу сказать, что эту дуэль не так-то просто устроить; ведь де Сент-Эньян— друг короля, и король может узнать заранее…
— Ну нет! Вам же знаком мой метод: "Сударь, вы оскорбили моего друга и…"
— Да, я знаю.
— А потом: "Сударь, лошадь внизу". И я увожу его прежде, чем он успеет с кем-нибудь перемолвиться хотя бы словечком.
— Но даст ли он так легко увезти себя?
— Черт подери! Хотел бы я поглядеть! Он был бы первый… Правда, современные молодые люди… Ну что ж, если понадобится, я унесу его на руках.
И Портос, присовокупив к словам дело, поднял Рауля вместе со стулом.
— Отлично, — сказал молодой человек со смехом. — Теперь нам остается еще уяснить последний вопрос.
— Какой вопрос?
— Вопрос об оскорблении, которое мне нанес де Сент-Эньян.
— Но тут больше не о чем говорить.
— Нет, дорогой господин дю Валлон, у современных людей, как вы выражаетесь, существует правило, согласно которому причины вызова должны быть объяснены.
— Да, по вашей новой системе оно действительно так. В таком случае расскажите мне суть вашего дела.
— Видите ли…
— Проклятье! Вот уж и затруднение. В прежние времена нам никогда не приходилось вдаваться в подробности. Дрались, потому что дрались. Что до меня, я никогда не искал лучшей причины.
— Вы совершенно правы, друг мой.
— Слушаю вас. Каковы же ваши мотивы?
— Долго рассказывать. Но так как все же придется вдаваться в подробности…
— Да, да, черт подери. Это нужно в соответствии с требованиями новой системы.
— И так как, повторяю, придется вдаваться в подробности и, с другой стороны, дело мое представляет множество затруднений и требует полной тайны…
— Еще бы!
— …вы сделаете мне величайшее одолжение, если передадите графу де Сент-Эньяну — и он поймет — только то, что он оскорбил меня, во-первых, своим переездом.
— Переездом… Хорошо, — сказал Портос и принялся загибать пальцы на руке. — Дальше.
— Далее, тем, что устроил люк в своей новой квартире.
— Понимаю — люк. Черт, это существенно! Понятно, что это должно было вызвать в вас ярость. И как смел этот бездельник устраивать люки, не переговорив предварительно с вами! Люки! Тысяча чертей! Да у меня и то нет ничего похожего, если не считать моей подземной тюрьмы в Брасье!
— Вы добавите, что последнее мое основание считать себя оскорбленным, — это портрет, который хорошо знаком графу де Сент-Эньяну.
— Ну вот еще и портрет!.. Подумать только! Переезд, люк и портрет. Но, друг мой, и одного из этих трех оснований достаточно, чтобы все дворяне Франции и Испании перерезали друг другу горло, а ведь это немало.
— Значит, милый мой, вы теперь в достаточной мере осведомлены?
— Я беру с собой и вторую лошадь. Выбирайте место вашего поединка и, пока вы будете дожидаться, поупражняйтесь в плие и в выпадах, это придаст телу редкую гибкость.
— Благодарю вас. Я буду ждать в Венсенском лесу, возле монастыря Меньших Братьев.
— Прекрасно… но где же мне искать этого графа де Сент-Эньяна?
— В королевском дворце.
Портос зазвонил в колокольчик солидных размеров. Появился слуга.
— Мое придворное платье, — приказал он, — и мою лошадь. И еще одну лошадь со мной.
Слуга поклонился и вышел.
— Ваш отец знает об этом? — спросил Портос.
— Нет, но я напишу ему.
— А д’Артаньян?
— Господин д’Артаньян тоже не знает. Он осторожен и отговорил бы меня от дуэли.
— Однако д’Артаньян — умный советчик, — сказал Портос, удивленный в своей благородной скромности, что можно обращаться к нему, когда на свете есть д’Артаньян.
— Дорогой господин дю Валлон, — продолжал Рауль, — умоляю вас, не расспрашивайте меня. Я сказал все, что мог. Я жажду действий и хочу, чтобы они были суровыми и решительными, такими, какими вы сумеете сделать их благодаря предварительной подготовке. Вот почему я обратился именно к вам.
— Вы будете мной довольны, — сказал Портос.
— И помните, дорогой друг, что, кроме нас с вами, никто не должен знать об этой дуэли.
— Об этих вещах, однако, догадываются, когда находят в лесу мертвеца. Ах, милый друг, обещаю вам все на свете, но только не стану я прятать покойника. Он тут, его увидят, этого не избежать. У меня принцип не зарывать его в землю. От этого пахнет убийством. От риска к риску, как говорят нормандцы.
— Храбрый и дорогой друг, за дело!
— Доверьтесь мне, — сказал великан, приканчивая бутылку, в то время как его лакей раскладывал на креслах роскошное платье и кружева.
Рауль вышел от Портоса с тайною радостью в сердце; он говорил себе:
"О коварный король! О предатель! Я не могу поразить тебя: короли — особы священные! Но твой сообщник, твой сводник, который представляет тебя, этот подлец заплатит за твое преступление! В его лице я убью тебя, а потом подумаем и о Луизе".
XV
ПЕРЕЕЗД, ЛЮК И ПОРТРЕТ
Портос, чрезвычайно довольный возложенным на него поручением, которое некоторым образом молодило его, облачился в придворное платье, потратив на свой туалет, по крайней мере, на полчаса меньше обычного.
Как человек, который бывал в большом свете, он начал с того, что послал своего лакея узнать, дома ли граф де Сент-Эньян. Ему ответили, что г-н граф имел честь сопровождать короля в Сен-Жермен вместе со всем двором и только что возвратился. Услышав этот ответ, Портос поспешил и вошел в квартиру графа де Сент-Эньяна в тот самый момент, когда с него только что принялись стаскивать сапоги.
Прогулка была превосходной. Король, все более и более влюбленный, все более и более счастливый, был очаровательно любезен со всеми. Он расточал вокруг несравненные милости, как выражались в те дни поэты.
Наши читатели не забыли, что граф де Сент-Эньян был стихотворцем и находил, что доказал это при достаточно памятных обстоятельствах, обеспечивающих за ним это звание. В качестве неутомимого любителя рифм он всю дорогу засыпал четверостишиями, шестистишиями и мадригалами сначала короля, затем Лавальер.
Король был также в ударе и сочинил дистих. Что же касается Лавальер, то как всякая влюбленная женщина, она сочинила два премилых сонета.
Как видит читатель, день для Аполлона был неплохой.
Возвратившись в Париж, де Сент-Эньян, знавший заранее, что его стихи распространятся по всему городу, занялся с большей придирчивостью, чем во время прогулки, содержанием и формой своих творений. Поэтому он, словно нежный отец, которому предстоит вывезти своих детей в свет, все время задавал себе один и тот же вопрос— найдет ли публика стройными, приглаженными и изящными создания его воображения.
И вот, чтобы снять с души это тяжелое бремя, Сент-Эньян произносил вслух мадригал, который по памяти прочел королю и который обещал дать ему по возвращении в переписанном виде:
Ирис, я замечал, что ваш лукавый глаз Дает не тот ответ, что сердцем был подсказан.
Зачем же я судьбой печальною наказан
Любить лишь то, чем я обманут был не раз?
Этот мадригал, хоть и очень изящный для устного чтения, теперь, переходя в разряд рукописной поэзии, не вполне удовлетворял Сент-Эньяна. Несколько человек напита мадригал превосходным, и первым среди них был сам автор. Но при ближайшем рассмотрении эти стихи поблекли в его глазах.
Сент-Эньян сидел за столом, положив ногу на ногу, и, почесывая висок, повторял свои строки.
— Нет, последний стих решительно не удался. Надо мной будут издеваться мои собратья-бумагомаратели. Мои стихи назовут стихами вельможи, и, если король услышит, что я слабый поэт, ему может прийти в голову уверовать в это.
Предаваясь подобным размышлениям, Сент-Эньян раздевался. Он только что снял камзол и собирался надеть халат, как ему доложили, что его желает видеть барон дю Валлон де Брасье де Пьерфон.
— Что за гроздь имен! Я не знаю такого.
— Это дворянин, — ответил лакей, — который имел честь обедать с господином графом за столом короля во время пребывания его величества в Фонтенбло.
— У короля в Фонтенбло! — вскричал де Сент-Эньян. — Скорей, скорей, просите сюда этого дворянина.
Лакей поспешил выполнить приказание. Портос вошел.
У Сент-Эньяна была память придворного: он сразу узнал провинциального сеньора с несколько забавной репутацией, который, несмотря на улыбки стоявших вокруг офицеров, был обласкан в Фонтенбло королем. Де Сент-Эньян, помня об этом, встретил Портоса с изъявлениями глубокого уважения, что Портос нашел совершенно естественным, так как, входя к противнику, он неуклонно придерживался правил такой же утонченной учтивости.
Де Сент-Эньян приказал лакею, доложившему о посетителе, пододвинуть стул Портосу. Последний, не видя ничего особенного в такой любезности, сел и откашлялся. Они обменялись обычными приветствиями, после чего граф в качестве хозяина, принимающего гостя, спросил:
— Господин барон, какому счастливому случаю обязан я чести вашего посещения?
— Именно это я и хотел иметь честь объяснить вам, господин граф, но простите…
— Что такое, барон?
— Я чувствую, что ломаю ваш стул.
— Нисколько, барон, нисколько, — сказал Сент-Эньян.
— Но я все-таки ломаю его, господин граф, и если не потороплюсь встать, то упаду и окажусь в положении, совершенно неприличном для того серьезного поручения, с которым явился.
Портос встал, и вовремя, так как ножки стула подогнулись и сиденье опустилось на несколько дюймов. Сент-Эньян стал искать глазами более крепкое кресло, чтобы усадить в него своего гостя.
— Современная мебель, — сказал Портос, пока граф занимался этими поисками, — современная мебель стала до смешного непрочной. В моей юности, когда я усаживался гораздо энергичнее, чем теперь, я не помню, чтобы мне пришлось сломать хоть когда-нибудь стул, если не говорить о тех случаях, когда я ломал их руками в трактире.
Де Сент-Эньян ответил на эту шутку любезной улыбкой.
— Но, — продолжал Портос, садясь на кушетку, которая заскрипела, но все-таки выдержала, — к несчастью, дело не в этом.
— Как, к несчастью? Разве вы пришли, барон, с дурной вестью?
— Дурной вестью для дворянина? О нет, господин граф! — вежливо ответил Портос. — Я явился затем, чтобы заявить, что вы жестоко оскорбили одного из моих друзей.
— Я, сударь? — воскликнул де Сент-Эньян. — Я оскорбил одного из ваших друзей? Кого же, скажите, прошу вас!
— Виконта Рауля де Бражелона!
— Я оскорбил господина де Бражелона! Право же, сударь, я никак не мог это сделать, так как господин де Бражелон, которого я почти не знаю, которого, могу сказать, я даже совсем не знаю, находится в Англии. Не видя его очень давно, я не мог нанести ему оскорбление.
— Господин де Бражелон, сударь, в Париже, — сказал невозмутимый Портос, — что же касается оскорбления, то ручаюсь, что вы действительно оскорбили виконта де Бражелона… раз он сам сказал мне об этом. Да, граф, вы оскорбили его жестоко, смертельно, повторяю — смертельно.
— Невозможно, барон, клянусь вам, решительно невозможно!
— Впрочем, — добавил Портос, — вы не можете не знать этого обстоятельства, так как виконт де Бражелон сообщил мне в беседе, что предупредил вас запиской.
— Я не получал никакой записки. Даю вам слово.
— Поразительно! — ответил Портос. — А Рауль говорит…
— Вы сейчас убедитесь, что я действительно не получал этой записки, — сказал Сент-Эньян и позвонил.
— Баск, сколько в мое отсутствие принесли записок и писем?
— Три, господин граф.
— Какие?
— Записку от господина де Фьеска, записку от госпожи де Ла Ферте и письмо от господина де Лас Фуэнтес.
— Это все?
— Все, господин граф.
— Говори правду перед господином бароном, самую истинную правду, слышишь! Из-за тебя я буду в ответе.
— Господин граф, была еще записка от…
— От кого? Говори скорей!
— От мадемуазель де Лаваль…
— Достаточно, — перебил Портос, побуждаемый к этому деликатностью. — Прекрасно, я верю вам, господин граф.
Де Сент-Эньян выслал лакея и собственноручно закрыл за ним дверь. Возвращаясь к своему гостю и глядя прямо перед собой, он вдруг заметил, что из замочной скважины двери, ведущей в соседнюю комнату, торчит бумажка, которая была всунута туда Бражелоном.
— Что это такое? — спросил он.
— О, о! — воскликнул Портос.
— Записка в замочной скважине!
— Быть может, это и есть наша записка, господин граф, — сказал Портос. — Посмотрите!
Сент-Эньян вынул бумажку и тотчас воскликнул:
— Записка от господина де Бражелона!
— Видите, я оказался прав. О, если я что-нибудь утверждаю…
— Принесена сюда самим виконтом де Бражелоном, — пролепетал граф, бледнея. — Но это возмутительно! Как он проник сюда?
Сент-Эньян позвонил снова, и опять появился Баск.
— Кто приходил сюда, пока я был на прогулке с его величеством королем?
— Никто, господин граф.
— Невозможно! Кто-то здесь был.
— Нет, господин граф, никто не мог проникнуть сюда, так как ключи были в моем кармане.
— И тем не менее вот записка, которая была вложена в замочную скважину. Кто-то сунул ее туда. Не могла же она появиться сама по себе!
Баск развел руками в знак полного недоумения.
— Возможно, что это сделал господин де Бражелон, — заметил Портос.
— Значит, он входил сюда?
— Несомненно, сударь.
— Но как же, раз ключ был при мне? — продолжал настаивать Баск.
Де Сент-Эньян прочитал записку и смял ее.
— Здесь что-то скрывается, — пробормотал он в раздумье.
Портос, предоставив ему несколько мгновений на размышления, возвратился затем к первоначальному предмету их разговора.
— Не желаете ли вернуться к нашему делу? — спросил он де Сент-Эньяна, когда лакей удалился.
— Но его объясняет, по-видимому, эта записка, столь непонятным образом попавшая сюда. Виконт де Бражелон сообщает, что меня посетит один из его друзей.
— Этот друг — я; выходит, что он сообщает вам о моем посещении.
— С тем, чтобы передать вызов?
— Вот именно.
— И он утверждает, что я оскорбил его?
— Жестоко, смертельно.
— Но каким образом, объясните, пожалуйста. Его действия столь таинственны, что мне затруднительно обнаружить в них какой-нибудь смысл.
— Сударь, — ответил Портос, — мой друг должен располагать достаточными причинами; что же до его действий, то, если они, как вы говорите, таинственны, — обвиняйте в этом лишь самого себя.
Последние слова Портос произнес таким уверенным тоном, что человек, который знал его недостаточно хорошо, должен был бы подумать, что они полны глубокого смысла.
— Тайна! Допустим. Давайте постараемся разобраться в ней, — сказал де Сент-Эньян.
Но Портос наклонил голову и изрек:
— Для вас предпочтительнее, чтобы я не входил в ее рассмотрение; на это есть исключительно серьезные основания.
— Я очень хорошо понимаю их. Отлично, сударь. Ограничьтесь лишь самым легким намеком; я слушаю вас.
— Прежде всего тем, — сказал Портос, — что вы переехали со старой квартиры.
— Это правда, я переехал.
— Вы, стало быть, признаете это? — спросил Портос с видимым удовольствием.
— Признаю ли? Ну да, признаю. С чего вы взяли, что я могу отпираться?
— Вы признали? Отлично, — отметил Портос, поднимая вверх один палец.
— Послушайте, сударь, каким образом мой переезд может причинить какой-либо вред виконту де Бражелону? Отвечайте же! Я совершенно не понимаю того, о чем вы толкуете.
Портос остановил графа и важно сказал:
— Сударь, это лишь первое обвинение среди тех, которые выдвигает против вас господин де Бражелон. Если он выдвигает его, значит, он почувствовал себя оскорбленным.
Сент-Эньян нетерпеливо ударил ногой по паркету.
— Это похоже на неприличную ссору, — сказал он.
— Нельзя иметь неприличной ссоры с таким порядочным человеком, как виконт де Бражелон, — продолжал Портос. — Итак, вы ничего не можете прибавить по поводу переезда?
— Нет. Дальше?
— Ах дальше? Но заметьте, сударь, что вот уже одно обвинение, на которое вы не ответили или, вернее сказать, ответили плохо. Как, сударь, вы переезжаете со старой квартиры, это оскорбляет господина де Бражелона, и вы не приносите своих извинений. Очень хорошо!
— Как! — воскликнул де Сент-Эньян, выведенный из себя флегматичностью своего собеседника, — я должен советоваться с господином де Бражелоном, переезжать мне или остаться на прежнем месте? Помилуйте, сударь!
— Обязательно, сударь, обязательно. Однако вы увидите, что это ничто по сравнению со вторым обвинением.
Портос принял суровый вид.
— А о люке, сударь, что скажете вы о люке?
Сент-Эньян мертвенно побледнел. Он так резко отодвинул стул, что Портос, при всей своей детской наивности, догадался о силе нанесенного им удара.
— О люке? — пробормотал Сент-Эньян.
— Да, сударь, объясните, пожалуйста, если можете, — сказал Портос, встряхнув головой.
Де Сент-Эньян потупился и прошептал:
— О, я предан! Известно все, решительно все!
— Все в конце концов делается известным, — заметил Портос, который, в сущности, ничего не знал.
— Вы видите, я так поражен, до того поражен, что теряю голову!
— Нечистая совесть, сударь! О, очень нехорошо!
— Милостивый государь!
— И когда свет узнает, и пойдут пересуды…
— О сударь, такую тайну нельзя сообщить даже духовнику! — вскричал граф.
— Мы примем меры, и тайна далеко не уйдет.
— Но сударь, — продолжал де Сент-Эньян, — господин де Бражелон, узнав эту тайну, отдает ли себе отчет в опасности, которой он подвергается и подвергает других?
— Господин де Бражелон не подвергается никакой опасности, сударь; никакой опасности не боится, и с Божьей помощью вы на себе самом вскоре испытаете это.
"Он сумасшедший! — подумал де Сент-Эньян. — Чего ему от меня нужно?"
Затем он продолжал вслух:
— Давайте, сударь, забудем об этом деле.
— Вы забываете о портрете! — произнес Портос громовым голосом, от которого у графа похолодела кровь.
Так как речь шла о портрете Лавальер и так как на этот счет не могло быть ни малейших сомнений, де Сент-Эньян почувствовал, что он прозревает.
— А-а! — вскричал он. — Вспоминаю, господин де Бражелон был ее женихом.
Портос напустил на себя важность — эту величавую личину невежества.
— Ни меня, ни вас также не касается, — сказал он, — был ли мой друг женихом той особы, о которой вы говорите. Больше того, я поражен, что вы позволили себе столь неосторожное слово. Оно может, сударь, причинить вам немало вреда.
— Сударь, вы — сам разум, сама деликатность, само благородство, совмещающиеся в одном лице. Наконец-то я понял, о чем, собственно, идет речь.
— Тем лучше! — сказал Портос.
— И вы дали мне понять это самым точным и умным образом. Благодарю вас, сударь, благодарю.
Портос напыжился.
— Но теперь, — продолжал Сент-Эньян, — теперь, когда я постиг все до конца, позвольте мне объяснить…
Портос покачал головой, как человек, не желающий слушать, но де Сент-Эньян продолжал:
— Я в отчаянии, поверьте мне* я в полном отчаянии от всего, что случилось, но что бы вы сделали на моем месте? Ну, между нами, скажите, что бы вы сделали?
Портос поднял голову.
— Дело не в том, молодой человек, что бы я сделал и чего бы не сделал. Вы осведомлены о трех обвинениях, разве не так?
— Что касается первого среди них, сударь, — и здесь я обращаюсь к человеку разума и чести, — раз было высказано августейшее пожелание, чтобы я перебрался в другие комнаты, следовало ли мне, мог ли я пойти против него?
Портос открыл было рот, но де Сент-Эньян не дал ему заговорить.
— Ах, моя откровенность трогает вас, — сказал он, объясняя по-своему движение Портоса. — Вы согласны, что я прав?
Портос ничего не ответил.
— Я перехожу к этому проклятому люку, — продолжал де Сент-Эньян, касаясь плеча Портоса, — к этому люку, причине зла, орудию зла; люку, устроенному для того… вы знаете для чего. Неужели вы и впрямь можете предположить, что я по собственной воле в подобном месте велел сделать люк, предназначенный… О, вы не верите в это, и здесь также вы чувствуете, вы угадываете, вы видите волю, стоящую надо мной. Вы понимаете, что тут увлечение, я не говорю о любви, этом неодолимом безумии… Боже мой! К счастью, я имею дело с человеком сердечным, чувствительным, иначе… какое несчастье и позор для нее, бедной девушки… и для того… кого я не хочу называть!
Портос, оглушенный и сбитый с толку красноречием и жестикуляцией для Сент-Эньяна, застывший на своем месте, делал тысячу усилий, принимая на себя это извержение слов, из которых он не понимал ни единого.
Де Сент-Эньян увлекся своею речью; придавая новую силу голосу, жестикулируя все стремительней и порывистей, он продолжал:
— Что до портрета (я очень хорошо понимаю, что портрет — главное обвинение), что до портрета, то подумайте, разве я в чем-нибудь виноват? Кто захотел иметь этот портрет? Неужели я? Кто ее любит? Неужели я? Кто желает ее? Неужели я? Кто овладел ею? Разве я? Нет, тысячу раз нет! Я знаю, что господин де Бражелон должен быть в отчаянии, я знаю, что такие несчастья переживаются крайне мучительно. Знаете, я и сам страдаю. Но сопротивление невозможно. Он будет бороться? Его высмеют. Если он будет упорствовать, то погубит себя. Вы мне скажете, что отчаяние — это безумие; но ведь вы благоразумны, и вы меня поняли! Я вижу по вашему сосредоточенному, задумчивому, даже, позволю себе сказать, озабоченному лицу, что серьезность положения поразила и вас. Возвращайтесь же к виконту де Бражелону; поблагодарите его от моего имени, поблагодарите за то, что он выбрал в качестве посредника человека ваших достоинств. Поверьте, что со своей стороны я сохраню вечную благодарность к тому, кто так тонко, с таким пониманием уладил наши раздоры. И если злому року было угодно, чтоб эта тайна принадлежала не трем, а четырем лицам, тайна, которая могла бы составить счастье самого честолюбивого человека, я радуюсь, что разделяю ее вместе с вами, радуюсь от всего сердца. Начиная с этой минуты располагайте мною, я в вашем распоряжении. Что я мог бы сделать для вас? Чего я должен просить, больше того, чего должен требовать? Говорите, барон, говорите!
И по фамильярно-приятельскому обычаю придворных той эпохи де Сент-Эньян обнял Портоса и нежно прижал к себе. Портос с невозмутимым спокойствием позволил обнять себя.
— Говорите, — повторил де Сент-Эньян, — чего вы просите?
— Сударь, — сказал Портос, — у меня внизу лошадь, будьте добры сесть на нее, она превосходна и не причинит вам ни малейшего беспокойства.
— Сесть на лошадь? Зачем? — спросил с любопытством де Сент-Эньян.
— Чтобы отправиться со мною туда, где нас ожидает виконт де Бражелон.
— Ах, он хотел бы поговорить со мной, я понимаю. Чтобы узнать подробности? Увы, это такая деликатная тема. Но сейчас я никак не могу, меня ожидает король.
— Король подождет, — пробасил Портос.
— Но где же дожидается меня господин де Бражелон?
— У Меньших Братьев, в Венсенском лесу.
— Мы с вами шутим, не так ли?
— Не думаю; по крайней мере, я совсем не шучу. — И, придав своему лицу суровое выражение, Портос добавил — Меньшие Братья — это место, где встречаются, чтобы драться.
— В таком случае что же мне делать у Меньших Братьев?
Портос, не торопясь, обнажил шпагу.
— Вот длина шпаги моего друга, — показал он.
— Черт возьми, этот человек спятил! — воскликнул де Сент-Эньян.
Краска бросилась в лицо Портосу.
— Сударь, — проговорил он, — если б я не имел чести быть у вас в доме и исполнять поручение виконта де Бражелона, я выбросил бы вас в ваше собственное окно! Но этот вопрос мы отложим на будущее, и вы ничего не потеряете от отсрочки. Едете ли вы в Венсенский лес, сударь?
— Э, э…
— Едете ли вы туда по-хорошему?
— Но…
— Я потащу вас силой, если вы не желаете по-хорошему. Берегитесь!
— Баск! — закричал де Сент-Эньян.
Баск вошел и сообщил:
— Король вызывает к себе господина графа.
— Это другое дело, — промолвил Портос, — королевская служба прежде всего. Мы будем ждать вас до вечера, сударь.
И, поклонившись де Сент-Эньяну со своей обычной учтивостью, Портос вышел в восторге, считая, что уладил и это дело.
Де Сент-Эньян посмотрел ему вслед; затем, поспешно надев парадное платье, он побежал к королю, повторяя:
— В Венсенский лес!.. Венсенский лес!.. Посмотрим, как король отнесется к этому вызову. Он направлен, черт возьми, ему самому, и никому больше!
XVI
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОПЕРНИКИ
После столь прибыльной для Аполлона прогулки, во время которой каждый участник ее отдал дань музам, как говорили в ту пору поэты, король застал у себя Фуке, дожидавшегося его возвращения.
Немедля вошел и Кольбер, который подстерегал короля в коридоре и теперь следовал за ним по пятам, как бдительная и ревнивая тень, все тот же Кольбер со своей квадратною головой, в своем грубо-роскошном, но дурно сидящем платье, придававшем ему сходство с налившимся пивом фламандским вельможей.
При виде врага Фуке остался невозмутимо-спокойным. В течение всей последующей сцены он старался не выдать своих истинных чувств, хотя это и было нелегко для человека высшего ранга, сердце которого переполнено до краев презрением и который опасается выказать это презрение, полагая, что и оно слишком большая честь для противника.
Кольбер не скрывал своей радости, столь оскорбительной для Фуке. По его мнению, Фуке плохо сыграл свою партию, и, хотя она еще не закончена, положение его безнадежно. Кольбер принадлежал к той школе политических деятелей, которая восхищается одной только ловкостью и способна уважать лишь успех.
К тому же он был не только завистником и честолюбцем, но и человеком, глубоко преданным интересам короны, так как отличался той особой честностью, которая свойственна людям, посвятившим свою жизнь служению цифрам, и, таким образом, ненавидя и толкая на гибель Фуке, он мог находить для себя оправдание — а оно крайне необходимо всякому, кто ненавидит, — хотя бы в том, что действует не ради себя, но ради блага всего государства и достоинства короля.
Ни одна из этих тончайших подробностей не ускользнула от проницательного взора Фуке. Через нависшие брови своего врага, несмотря на непрерывное мигание его век, он читал в глазах Кольбера все, что таило в своей глубине его сердце, и видел ненависть и торжество.
Но, проникая своим взглядом повсюду, Фуке хотел оставаться непроницаемым. На лице его царила полная безмятежность; он улыбнулся очаровательной, милой улыбкой, какой он один умел улыбаться, и, придавая своему поклону исключительно благородную и изящную непринужденность, сказал:
— По вашему веселому виду, ваше величество, я заключаю, что прогулка, которую вы совершили, была весьма и весьма приятной.
— Очаровательной, господин суперинтендант, очаровательной. И вы напрасно не поехали с нами, напрасно отвергли мое приглашение.
— Государь, я работал.
— Ах, деревня, деревня, господин Фуке! — воскликнул король. — Боже, как было бы хорошо жить постоянно в деревне, на вольном воздухе, среди зелени!
— Надеюсь, ваше величество, вы еще не устали от трона? — спросил Фуке.
— Нет, не устал, но троны из зелени так изумительно хороши!
— Ваше величество, говоря такие слова, воистину предвосхищает мои упования. У меня есть ходатайство к вам, ваше величество.
— От кого, господин суперинтендант?
— От нимф, обитательниц Во.
— Ах!
— Король удостоил меня обещанием, — сказал Фуке.
— Да, да! Помню.
— Празднество в Во, знаменитое празднество в Во, не так ли, ваше величество? — вставил Кольбер, стремясь показать этим вмешательством в разговор, что он пользуется расположением короля.
Фуке, полный презрения, не удостоил Кольбера ответом; он вел себя так, словно Кольбер не высказал никакой мысли, словно его вообще не существовало.
— Ваше величество знает, что я избрал мое имение в Во для приема любезнейшего из государей, могущественнейшего из королей.
— Сударь, — сказал, улыбаясь, Людовик XIV, — я обещал; королевское слово не нуждается в подтверждении.
— А я, ваше величество, пришел доложить, что весь к вашим услугам.
— Вы обещаете много чудес, господин суперинтендант?
И Людовик XIV взглянул на Кольбера.
— Чудеса? О нет, ваше величество, я не берусь поражать вас чудесами; но надеюсь, что могу обещать немного веселья, быть может, даже немного забвения королю.
— Нет, господин Фуке, я настаиваю на слове чудо. Ведь вы волшебник, мы знаем ваше могущество; мы знаем, что вы отыщете золото, даже если его и вовсе не станет на свете. Ведь недаром же народ говорит, что вы его делаете.
Фуке почувствовал удар, направленный с двух сторон: король метнул стрелу не только из своего лука, но и из лука Кольбера. Фуке рассмеялся.
— О, народ отлично осведомлен, из каких россыпей я беру это золото. Он знает это, и знает, быть может, чересчур хорошо. И к тому же, — добавил он гордо, — могу заверить ваше величество, что золото для оплаты праздника в Во не будет стоить народу ни крови, ни слез. Оно будет стоить пота, но этот пот будет оплачен.
Людовик смутился. Он хотел было взглянуть на Кольбера. Тот хотел было ответить, но орлиный, благородный, почти королевский взгляд, брошенный на него Фуке, остановил слова на устах помощника интенданта.
Тем временем король оправился от смущения и, обратившись к Фуке, сказал:
— Значит, вы приглашаете нас?
— Да, государь.
— На какой день?
— Какой вы сочтете удобным, ваше величество.
— Вы говорите точно волшебник, которому достаточно захотеть, и все уже сделано. Я бы не решился на подобный ответ, господин Фуке.
— Вашему величеству, когда вы пожелаете, будет доступно решительно все, что может и должен свершить король. Король Франции располагает слугами, которые не остановятся ни перед чем ради службы ему и его удовольствий.
Кольбер сделал попытку посмотреть суперинтенданту в лицо, чтобы выяснить, не означают ли эти слова поворота к менее неприязненным чувствам, но Фуке даже не взглянул на своего врага. Кольбер не существовал для него.
— В таком случае через неделю, хотите? — предложил король.
— Итак, через неделю.
— Или нет. Сегодня вторник. Давайте отложим до следующего воскресенья, хотите?
— Отсрочка, благосклонно предоставленная мне вашим величеством, весьма благоприятно скажется на работах, которые предпринимают мои архитекторы, дабы развлечь ваше величество и ваших друзей.
— Кого же, господин Фуке, вы разумеете, говоря о моих друзьях?
— Король — хозяин повсюду, где бы он ни был. Король составляет список и отдает свои приказания. Кто удостоится его приглашения, тот и будет моим уважаемым гостем.
— Благодарю вас, — сказал король, тронутый благородным чувством, выраженным столь благородным образом.
Поговорив еще немного о различных делах и простившись с Людовиком XIV, Фуке откланялся. Он чувствовал, что Кольбер задержится у короля, что они будут говорить о нем и ни тот ни другой не станут щадить его.
И у него возникло желание нанести своему врагу последний страшный удар, который возместил бы все то, что ему пришлось вытерпеть от него. И вот, уже взявшись за ручку двери, Фуке поспешно вернулся на прежнее место и, обращаясь к королю, произнес:
— Простите, ваше величество!
— В чем я должен простить вас, сударь? — любезно спросил король.
— Я совершил тяжкий проступок, сам того не приметив.
— Проступок! Вы? Ах, господин Фуке, ничего не поделаешь, придется простить. Против чего или кого вы согрешили?
— Против приличия, ваше величество. Я забыл сообщить вам о довольно существенном обстоятельстве.
— Каком?
Кольбер вздрогнул; он подумал, что дело идет о доносе, что с него сорвана маска. Одно слово Фуке, одно приведенное им доказательство, и юное благородство Людовика XIV одолеет расположение, которое он к нему, Кольберу, питает. И Кольбера охватил страх, как бы смелый удар врага не разрушил его хитрого сооружения. И действительно, ход был настолько хорош, что Арамис, ловкий игрок, не преминул бы сделать его.
— Ваше величество, — сказал невозмутимо Фуке, — раз вы были так милостивы, что простили меня, я с легкой душою могу сделать признание: сегодня утром я продал одну из своих должностей.
— Одну из должностей, которые вы занимаете! — воскликнул король. — Но какую же?
Кольбер мертвенно побледнел.
— Ту, ваше величество, которая давала мне право на долгополую мантию и суровый облик, — должность генерального прокурора.
Король невольно вскрикнул и взглянул на Кольбера. У Кольбера на лбу выступил пот; ему показалось, что еще немного — и его хватит удар.
— Кому же вы продали эту должность, господин Фуке? — поинтересовался король.
Кольбер прислонился к камину.
— Одному парламентскому советнику, ваше величество, его зовут господин Ванель.
— Ванель?
— Одному из друзей интенданта финансов господина Кольбера, — добавил Фуке с такой неподражаемою небрежностью и с таким безразличием и простодушием, что художник, актер и поэт должны раз навсегда отказаться воспроизвести их кистью, жестом или пером.
Произнеся эти слова и раздавив Кольбера своим превосходством, суперинтендант снова почтительно склонился перед королем и вышел, наполовину отмщенный изумлением властителя и унижением фаворита.
— Возможно ли это? — сказал, обращаясь к самому себе, Людовик XIV после ухода Фуке. — Он продал должность генерального прокурора?
— Да, ваше величество, — отчеканил Кольбер.
— Он сошел с ума! — заметил король.
На этот раз Кольбер ничего не ответил. Он прочитал мысль своего господина, и эта мысль также была его мщением. К его ненависти присоединилась еще и зависть; и если его план состоял в том, чтобы довести суперинтенданта до разорения, то теперь над Фуке нависла еще и угроза опалы.
Отныне, и Кольбер это почувствовал, его враждебность к Фуке не встретит больше противодействия со стороны Людовика XIV и первый же промах Фуке, который можно было бы использовать как предлог, повлечет за собой беспощадное наказание. Фуке выронил из своих рук оружие. Ненависть и зависть только что подобрали его.
Король пригласил Кольбера на празднество; Кольбер поклонился как человек, который уверен в себе, и принял королевское приглашение, как тот, кто оказывает одолжение.
Король принялся составлять список приглашаемых в Во. Когда он дошел до имени де Сент-Эньяна, лакей доложил о приходе графа де Сент-Эньяна. При появлении королевского Меркурия Кольбер скромно ретировался.

