XI
ОПИСЬ ГЕРЦОГА ДЕ БОФОРА
Разговор с Планше о д’Артаньяне и отъезд Планше из Парижа в деревню были для Атоса и его сына как бы прощанием со столичным шумом и с их былой жизнью. Что оставляли за собой эти люди? Один исчерпал славу прошлого века, другой — все страдание новейшего времени. Очевидно, что ни тому ни другому нечего было ждать от своих современников.
Оставалось лишь посетить герцога де Бофора, чтобы окончательно условиться об отъезде.
Парижский дом герцога отличался пышностью и великолепием. Герцог жил на широкую ногу, как жили, по воспоминаниям нескольких доживающих свой век стариков, во времена Генриха III, пору расточительства.
Тогда и впрямь некоторые вельможи были богаче самого короля. Они знали об этом и не лишали себя удовольствия унизить при случае его величество. Это была та эгоистическая аристократия, которую Ришелье заставил платить дань кровью, деньгами и почтительными поклонами, короче говоря, принудил к тому, что с тех пор стали называть королевскою службой.
От Людовика XI, страшного косаря великих мира сего, до Ришелье, — сколько семейств снова подняло голову! И сколько семейств склонило головы, чтобы никогда не поднять их больше, от Ришелье до Людовика XIV! Но герцог де Бофор родился принцем, и в его жилах текла такая кровь, которая проливается на эшафоте только по приговору народа.
Итак, этот принц сохранил привычку жить на широкую ногу. Как оплачивал он расходы на лошадей, бесчисленных слуг и изысканный стол? Никто этого хорошенько не знал, а он — меньше, чем кто-либо. Просто в те времена сыновья королей имели ту привилегию, что никто не отказывал им в кредите, одни из почтительности и преданности, другие в уверенности, что когда-нибудь их счет будет оплачен.
Атос и Рауль нашли дом герцога в таком же беспорядке и таким же заваленным грудами разных вещей, как дом бакалейщика.
Герцог тоже составлял опись своего имущества, то есть попросту раздавал друзьям, которые все до одного были его кредиторами, сколько-нибудь ценные вещи. Будучи должен что-то около двух миллионов, что по тем временам было очень большой суммой, герцог де Бофор рассчитал, что не сможет отправиться в Африку, не имея при себе круглой суммы, и, чтобы добыть эту сумму, он принялся раздавать своим кредиторам оружие, драгоценности, посуду и мебель. Это производило большее впечатление и было выгодней, чем пустить те же вещи в продажу.
И в самом деле, как человеку, давшему в свое время в долг десять тысяч ливров, отказаться принять подарок стоимостью в шесть тысяч, подарок, еще более ценный тем, что он исходит от потомка Генриха IV? А унося такой подарок с собой, как отказать в новых десяти тысячах такому щедрому и обаятельному вельможе?
Так и случилось. У герцога больше не было дома, так как адмиралу, живущему на корабле, дом не нужен. У него больше не было коллекций оружия, он ведь находился теперь посреди своих пушек; не было драгоценностей, ибо их могло поглотить море; но зато у него в сундуках было триста или четыреста тысяч экю.
Везде в доме царило веселое оживление, поддерживаемое людьми, полагавшими, что они грабят герцога.
Герцог достиг высокого мастерства в искусстве осчастливливать самых несчастных из своих кредиторов. Ко всякому человеку, стесненному в средствах, ко всякому опустевшему кошельку он относился с терпением и пониманием.
Одним он говорил:
— Хотел бы я обладать тем, чем обладаете вы; в этом случае я бы подарил вам все, что имею.
Другие слышали от него:
— У меня нет ничего, кроме этого серебряного кувшина; он все же стоит ливров пятьсот, возьмите его.
Любезность — те же наличные деньги, и благодаря ей недостатка в новых кредиторах у герцога никогда не бывало.
На этот раз он обходился без церемоний; можно было подумать, что тут происходит грабеж: герцог отдавал решительно все. Восточная сказка, повествующая о бедном арабе, уносящем из разграбленного дворца котел, на дне которого он скрыл мешок с золотом, арабе, свободно проходящем среди толпы и не вызывающем ничьей зависти, эта сказка в доме герцога де Бофора сделалась явью.
Толпы людей опустошили его гардеробные и кладовые.
Герцог де Бофор кончил тем, что роздал своих лошадей и запасы своего сена. Он осчастливил тридцать человек своей кухонной посудой и утварью и триста — вином из своих погребов. К тому же все уходили из его дома в уверенности, что поведение герцога легко объяснимо, ибо он рассчитывает на новое состояние, которое добудет в арабских шатрах.
Разоряя его дворец, всякий повторял себе самому, что король посылает его в Джиджелли, дабы он мог восстановить свое растраченное богатство; что все африканские сокровища будут поровну разделены между адмиралом и королем; что эти богатства скрываются в копях, в которых добывают алмазы и прочие баснословные драгоценные камни. Что же касается золотых и серебряных россыпей в Атласских горах, то эта безделица не заслуживала даже упоминания.
Но, помимо копей и россыпей, которые можно будет разрабатывать лишь после войны, найдется, разумеется, и другая добыча, захваченная на поле сражения. Герцог отнимет все то, что бороздящие Средиземное море пираты награбили у христиан со времени битвы при Лепанто. Миллионы, которые достанутся герцогу, уже не считали.
Зачем же ему беречь обстановку, среди которой он жил до этого времени? Ведь он отправляется за новыми, более редкостными сокровищами. Из этого следовало, что беречь добро того, кто сам себя так плохо оберегает, незачем.
Таково было положение в доме герцога, и Атос, с присущей ему проницательностью, определил это с первого взгляда.
Адмирал Франции был в несколько рассеянном настроении, так как только что вышел из-за стола после ужина на пятьдесят человек, во время которого обильно и долго пили за успех экспедиции; после десерта остатки пиршества были отданы слугам, а пустые блюда— желающим взять их себе. Герцог был опьянен и своим разорением, и своей популярностью. Он пил свое старое, выдержанное вино за здоровье вина, которое у него будет.
Увидев Атоса с Раулем, он громко воскликнул:
— Вот мне и привели моего адъютанта! Входите, граф, входите, виконт!
Атос искал прохода между грудами белья и посуды.
— Шагайте прямо! — посоветовал герцог.
И предложил Атосу полный стакан вина.
Атос выпил; Рауль едва пригубил.
— Вот вам первое поручение, — сказал герцог Раулю. — Я рассчитываю на вас. Вы поедете впереди меня до Антиба.
— Слушаю, монсеньер.
— Держите приказ. Знакомо ль вам море?
— Да, монсеньер, я путешествовал с принцем.
— Великолепно. Все эти транспортные суда будут дожидаться моего прибытия, чтобы перевозить припасы разного рода. Необходимо, чтобы войска через две недели, а то и раньше могли бы начать погрузку.
— Все будет исполнено, монсеньер.
— Этот приказ дает вам право посещать и обыскивать прибрежные острова; если сочтете необходимым, проведите там рекрутский набор и забирайте все, что может пригодиться в походе.
— Будет исполнено, герцог.
— А так как вы человек деятельный и будете много работать, вам понадобятся крупные суммы.
— Надеюсь, что нет, монсеньер.
— А я уверен, что да. Мой управляющий заготовил чеки по тысяче ливров каждый; по этим чекам можно будет получать деньги в любом городе юга Франции. Вам дадут сто таких чеков. Прощайте, виконт.
Атос перебил герцога:
Берегите деньги, монсеньер; для войны с арабами потребуется столько же золота, сколько свинца.
— Я хочу попытаться вести ее, употребляя только свинец; и потом вам известны мои мысли об этом походе: много шуму, много огня, и я исчезну, если так будет нужно, в дыму.
Произнеся эти слова, герцог де Бофор хотел было снова расхохотаться, но понял, что в присутствии Атоса и Рауля это было бы неуместно.
— Ах, — сказал он с прикрытым любезностью эгоизмом, свойственным его положению и его возрасту, — вы оба принадлежите к разряду людей, с которыми не следует встречаться после обеда; вы оба холодны, сухи и сдержанны, тогда как я — огонь, пыл и хмель. Нет, дьявол меня возьми! Я буду встречаться с вами, виконт, лишь натощак, а с вами, граф, если вы будете продолжать в том же духе, я и вовсе не буду встречаться.
Он говорил это, пожимая руку Атосу, который, улыбаясь, ответил ему:
— Монсеньер, не роскошествуйте, потому что у вас сейчас много денег. Предсказываю, что через месяц, стоя перед своим сундуком, вы будете сдержанным, сухим и холодным, и тогда вас удивит, что Рауль, находясь рядом с вами, весел, полон жизни и щедр, потому что, располагая новенькими экю, он предоставит их в ваше распоряжение.
— Да услышит вас Бог! — вскричал, придя в восторг, герцог. — Вы остаетесь со мной, граф! Решено.
— Нет, я еду с Раулем; поручение, которое вы на него возложили, трудное и хлопотливое. Выполнить его одному виконту было бы почти невозможно. Сами того не замечая, вы дали ему, монсеньер, чрезвычайно высокий пост, и к тому же во флоте.
— Это правда! Но разве такие, как он, не добиваются всего, чего только ни захотят?
— Монсеньер, вы ни в ком не найдете столько старания и ума, столько истинной храбрости, как в Рауле; но если ваша погрузка на суда не удастся, пеняйте на себя самого.
— Вот теперь он бранит меня!
— Монсеньер, чтобы снабдить провиантом флот, чтобы собрать флотилию, чтобы укомплектовать экипажи рекрутами, даже адмиралу был бы необходим целый год. А Рауль — капитан кавалерии, и вы даете ему всего две недели!
— Я убежден, что он справится.
— Надеюсь, но я помогу ему.
— Я рассчитывал на вас, дорогой граф; больше того, полагаю, что, доехав с ним до Тулона, вы и дальше не отпустите его одного.
— О! — воскликнул Атос и покачал головой.
— Терпение! Терпение!
— Монсеньер, разрешите откланяться. Нам пора!
— Идите, и да поможет вам мое счастье!
— Прощайте, монсеньер; да поможет и вам ваше счастье!
— Чудесное начало для экспедиции за море! — сказал Атос своему сыну. — Ни провианта, ни резервов, ни грузовой флотилии — что можно с этим поделать?
— Если все едут туда за тем же, за чем я еду, — пробормотал Рауль, — то в провианте недостатка не будет.
— Сударь, — строго сказал Атос, — не будьте несправедливы и безумны в своем эгоизме или, если хотите, страдании. Если вы едете на войну с намерением быть убитым, вы ни в ком не нуждаетесь, чтобы выполнить это намерение, и мне незачем было рекомендовать вас герцогу де Бофору. Но, сделавшись приближенным главнокомандующего, приняв ответственный пост в рядах армии, вы больше не вправе располагать собой. Отныне вы не принадлежите себе; вы принадлежите этим бедным солдатам, которые, подобно вам, имеют душу и тело, которые будут тосковать по родной стороне и страдать от всех горестей и печалей, одолевающих род человеческий. Знайте, Рауль, что офицер — лицо не менее полезное, чем священник, и в любви к своему ближнему он должен превосходить священника.
— Граф, я всегда знал об этом и поступал в соответствии с этим, я поступал бы так же и впредь… но…
— Вы забываете о том, что принадлежите стране, гордящейся своей военною славой. Если хотите умереть, умирайте, но не без славы и пользы для Франции. Ну, Рауль, не огорчайтесь моими словами; я люблю вас и хотел бы видеть вас совершенным во всех отношениях.
— Мне приятно слушать ваши упреки, — тихо ответил молодой человек, — они врачуют меня и служат доказательством, что кто-то еще любит меня.
— А теперь едем, Рауль; погода так божественно хороша, небо так чисто, небо, которое мы будем видеть над своей головой, которое в Джиджелли будет еще чище, чем здесь, и будет вам напоминать в чужих краях обо мне, как оно напоминает мне здесь о Боге.
Договорившись об этом основном пункте и обменявшись мнениями о сумасбродствах, творимых герцогом, отец и сын пришли к выводу, что экспедиция за море не послужит на пользу Франции, ибо затевается она достаточно непродуманно и без подобающей подготовки. И, определив политику этого рода словом "тщеславие", отец и сын отправились в путь, увлекаемые в большей мере своими желаниями, чем предначертаниями судьбы.
Заклание жертвы свершилось.
XII
СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
Путешествие было очень приятным. Атос и Рауль пересекли Францию, делая по пятнадцати льё в день, а порою и больше — это бывало тогда, когда горе Рауля особенно обострялось. Чтобы прибыть в Тулон, им понадобилось пятнадцать дней. Уже в Антибе они потеряли след д’Артаньяна.
Все говорило о том, что капитан мушкетеров по каким-то причинам пожелал ехать дальше инкогнито; по крайней мере, Атос, собирая сведения о д’Артаньяне, узнал, что всадник, которого он описывал, при выезде из Авиньона сменил верховых лошадей на карету и что окна в этой карете были тщательно занавешены.
Рауль был в отчаянии оттого, что они не встретились с д’Артаньяном. Его нежному сердцу хотелось проститься с ним, оно жаждало утешений, исходящих от этого твердого, как сталь, человека.
Атос знал на основании давнего опыта, что д’Артаньян замыкается в себе и становится непроницаемым, когда занят чем-то серьезным, будь то его личное дело или королевская служба.
К тому же он опасался, что слишком настойчивыми расспросами о д’Артаньяне он, быть может, оскорбит своего друга или принесет ему вред. Случилось, однако, что уже после того как Рауль занялся вербовкой рекрутов и собиранием шаланд и плашкоутов для отправки в Тулон, один из рыбаков сказал графу, что его лодка была в починке, пострадав во время поездки, предпринятой им с одним дворянином, торопившимся поскорее уехать.
Атос, полагая, что этот человек лжет, дабы освободиться от тяжелой повинности и заработать побольше на рыбной ловле, когда его товарищи отправятся в назначенное им место, стал настаивать на подробностях.
Рыбак рассказал ему, что приблизительно неделю назад, поздней ночью, к нему пришел незнакомый ему человек, чтобы нанять его лодку для поездки на остров Сент-Онора. Сговорились о плате. Этот дворянин приехал с большим ящиком вроде кареты, снятой с колес, который он хотел погрузить на лодку, несмотря на трудности всякого рода в связи с малыми размерами лодки и непомерной величиной груза. Рыбак решил отказаться от сговора и, так как дворянин был очень настойчив, пустил в ход угрозы, которые, однако, повели лишь к тому, что дворянин исполосовал его спину своею тростью. Осыпая его проклятиями, рыбак отправился за защитой к старшине рыбаков в Антибе, но дворянин достал из кармана бумагу, при виде которой старшина отвесил ему поклон до земли и велел рыбаку оказывать дворянину полное повиновение, выбранив рыбака за упрямство. После этого они отплыли вместе с грузом.
— Но все это нисколько не объясняет, при каких обстоятельствах ваша лодка разбилась.
— Сейчас расскажу и об этом. Я шел на Сент-Онора, как было приказано дворянином, но вдруг он переменил решение, уверяя, что я не смогу пройти мимо аббатства с юга. Правда, против четырехугольной Башни бенедиктинцев, на юг от нее, есть банка Монахов.
— Риф? — спросил Атос.
— Над поверхностью воды и под водой; это и впрямь опасный проход, но я проходил им добрую тысячу раз. Так вот, дворянин начал требовать, чтобы я высадил его на острове Сент-Маргерит.
— Что же дальше?
— Дальше, сударь? Моряк я, черт возьми, или сухопутная крыса? — вскричал рыбак, выговаривая слова на провансальский лад. — Знаю ли я свою дело или не знаю? Я заупрямился и хотел настоять на своем. Тогда дворянин вцепился мне в горло и, не повышая голоса, заявил, что немедленно задушит меня. Мой помощник и я взялись за топоры. Нам полагалось еще рассчитаться с ним за оскорбление, которое он нанес нам минувшею ночью. На дворянин с такой быстротой принялся размахивать шпагой, что мы не могли подступиться к нему. Я собирался метнуть свой топор ему в голову (ведь я был прав — не правда ли, сударь? Моряк на своем судне— хозяин, так же как горожанин у себя в доме), так вот, я собирался, чтоб защитить себя, разрубить моего дворянина на две половины, как вдруг, — хотите верьте, сударь, хотите не верьте, — как вдруг не знаю, как это случилось, открывается этот ящик-карета, и из нее выходит наружу какое-то привидение в черном шлеме, с черной маской, что-то и впрямь ужасное, и грозит нам кулаком.
— Кто ж это был?
— Это был дьявол, сударь! Ибо дворянин, увидев его, радостно закричал: "Тысяча благодарностей, монсеньер!"
— Странно! — пробормотал граф, посмотрев на Рауля.
— Что же вы сделали? — спросил рыбака виконт.
— Вы и сами понимаете, сударь, что даже с двумя дворянами мы, двое простых людей, не могли бы справиться, а уж против дьявола — и говорить нечего! Мы с товарищем, не сговариваясь, одновременно прыгнули в море; мы были в семистах — восьмистах футах от берега.
— И тогда?
— Тогда, сударь, лодка пошла по ветру на юго-запад, и ее прибило к пескам Сент-Маргерит.
— О… а те путешественники?
— Ну, об этом не беспокойтесь. Вот вам еще одно доказательство, что один из них дьявол и что он покровительствовал своему спутнику: когда мы подплыли к лодке, вместо того чтобы увидеть двух мертвецов или калек — а лодка здорово ударилась о прибрежные камни, — мы не нашли в ней ничего, даже этой бесколесной кареты.
— Странно, странно! — повторил граф. — Ну, а с тех пор что же вы делаете?
— Я пожаловался губернатору Сент-Маргерит, но он натянул мне нос и сказал, что, если я буду плести перед ним подобные небылицы, он оплатит мои убытки плетьми.
— Губернатор?
— Да, сударь. А между тем моя лодка совершенно разбита; ее нос остался на мысе Сент-Маргерит, и за ее починку плотник требует с меня сто двадцать ливров.
— Хорошо, — ответил Рауль, — вы освобождаетесь от службы. Идите.
— Поедем на Сент-Маргерит, хотите? — спросил Атос Бражелона.
— Да, граф; здесь кое-что подлежит выяснению. Мне кажется, что едва ли этот человек был до конца правдивым в своем рассказе.
— Я тоже так думаю. Эта история о дворянине в маске и исчезнувшей бесследно карете производит на меня впечатление попытки скрыть насилие, учиненное, быть может, в открытом море этим негодяем над своим пассажиром в отместку за настойчивость, с какою тот добивался получения его лодки в свое распоряжение.
— И у меня зародилось такое же подозрение, и я думаю, что в карете были скорее ценности, чем человек.
— Мы это выясним. Этот дворянин, несомненно, походит на д’Артаньяна; я узнаю его образ действий. Увы! Мы уже больше не те молодые и непобедимые люди, какими были когда-то. Кто знает, не удалось ли топору или лому этого жалкого лодочника свершить то, чего не могли сделать в течение сорока лет ни искуснейшие в Европе шпаги, ни пули, ни ядра.
В тот же день они отправились на остров Сент-Маргерит на небольшом суденышке, которое вызвали из Тулона.
Когда они подъезжали к берегам острова, им показалось, что перед ними обетованная земля. Остров был полон цветов и плодов; его возделываемую часть занимал губернаторский сад. Апельсинные, гранатовые и фиговые деревья гнулись под тяжестью золотых и фиолетово-синих плодов. Вокруг сада, в невозделанной части острова, красные куропатки бегали в кустах можжевельника и терновника целыми стаями, и при каждом шаге Рауля или Атоса перепуганный насмерть кролик выскакивал из зарослей вереска и несся к своей норе.
Этот блаженный остров был необитаем. Плоский, имеющий лишь одну бухту, в которую входили все прибывавшие сюда лодки и барки, он служил для контрабандистов временным убежищем и складом. Они делились своими доходами с губернатором и взяли на себя обязательство не обворовывать сада и не истреблять дичи. Благодаря столь счастливому компромиссу губернатор довольствовался гарнизоном из восьми человек, охранявшим крепость, в которой ржавело двенадцать пушек. Таким образом, этот губернатор был скорее удачливым фермером, собиравшим в свои погреба виноград, фиги, масло и апельсины и раскладывавшим сушить лимоны и померанцы на солнце в крепостных казематах.
Над крепостью, опоясанной довольно глубоким рвом, который, в сущности, один только и охранял ее, возвышались, словно три головы, три невысокие башни, соединенные между собою поросшими мхом террасами.
Атос и Рауль некоторое время шли вдоль забора, окружавшего сад, в тщетной надежде встретить кого-нибудь, кто бы ввел их к губернатору. В конце концов они нашли вход, через который проникли в сад. Это был самый жаркий час дня. В это время все прячется в траве или под камнями. Небо расстилает повсюду огненную завесу как бы затем, чтобы заглушить всякий шум, чтобы укутать в нее все сущее на земле. Куропатки спят в зарослях дрока, муха в тени листа, волна под куполом неба.
Все было объято мертвою тишиной. Вдруг на террасе между первой и второй башней Атос заметил солдата, который нес на голове нечто похожее на корзину с провизией. Этот человек через мгновение показался уже без корзины и исчез в тени сторожевой будки.
Атос понял, что он относил кому-то обед и, исполнив свою обязанность, возвратился к себе и сейчас сам примется за еду. Внезапно Атос услышал, что кто-то зовет его; подняв голову, он увидел между решетками высоко поднятого окна что-то белое, словно то была машущая рука, затем что-то блестящее, словно то было оружие, на которое упали солнечные лучи.
Прежде чем он отдал себе отчет в том, что видит, ослепительная полоса, мелькнувшая в воздухе и сопровождаемая свистом быстро падающего предмета, отвлекла его внимание от башни на землю.
Второй, на этот раз глухой звук раздался во рву, и Рауль, побежав на звук, поднял серебряное блюдо, откатившееся в сторону и слегка зарывшееся в сухой песок. Рука, швырнувшая блюдо, сделала знак обоим дворянам и тотчас же исчезла.
Рауль подошел к Атосу, и они оба принялись рассматривать запылившееся при падении блюдо. На нем кончиком ножа была выцарапана надпись, гласившая следующее:
"Я брат французского короля, сегодня узник, завтра умалишенный. Дворяне Франции и христиане, молитесь Господу о душе и разуме потомка ваших властителей".
Атос выронил блюдо из рук. Рауль задумался, ломая голову над смыслом этих ужасных слов.
В этот момент с башни послышался крик. Рауль, быстрый как молния, наклонил голову и заставил отца сделать то же. В расщелине стены блеснул ствол мушкета. Белый дымок, словно развевающийся султан, выскочил из дула мушкета, и в камень на расстоянии шести дюймов от обоих дворян ударилась пуля. Показался второй мушкет, который стал медленно опускаться.
— Черт возьми, — воскликнул Атос, — здесь занимаются тем, что злодейски убивают людей, так, что ли? Спускайтесь, трусы!
— Спускайтесь] — крикнул вслед за ним разъяренный Рауль, показывая кулак.
Второй из тех, что были видны на стене, тот, который собирался стрелять, ответил на эти крики восклицанием, выражающим изумление, и так как его товарищ хотел вторично разрядить свой мушкет, он толкнул его, и тот выстрелил в воздух.
Атос и Рауль, увидев, что люди, стрелявшие в них, ушли со стены, подумали, что те направились к ним, и стали спокойно ждать их приближения.
Не прошло и пяти минут, как бой барабана созвал восьмерых солдат гарнизона, показавшихся с мушкетами в руках на той стороне рва. Во главе этих солдат стоял офицер, который стрелял в них первым, — его узнал виконт де Бражелон. Этот человек приказал солдатам зарядить ружья.
— Нас расстреляют! — вскричал Рауль. — За шпагу, по крайней мере, и на ту сторону рва! Каждый из нас убьет хотя бы по одному из этих бездельников, после того как они выстрелят и их мушкеты окажутся без пуль.
И, претворяя свои слова в действие, Рауль вместе с Атосом уже устремился вперед, как вдруг у них за спиной раздался хорошо знакомый им голос:
— Атос! Рауль!
— Д’Артаньян! — разом вскричали они.
— К ноге, черт вас возьми! — приказал солдатам капитан мушкетеров. — Я был убежден в правоте своих слов!
Солдаты опустили мушкеты.
— Что это значит? — спросил Атос. — В нас стреляют без всякого предупреждения.
— Это я собирался убить вас, — отвечал д’Артаньян, — и если губернатор промазал, то я, дорогие друзья, будьте уверены, никогда не промахнулся бы. Какое счастье, что у меня привычка подолгу целиться! Мне показалось, что я узнаю вас! Ах, друзья мои, какое счастье!
И д’Артаньян вытер лоб, так как бежал сюда во всю мочь, и волнение его было непритворно.
— Как! — сказал граф. — Человек, стрелявший в нас, — губернатор этой крепости?
— Он самый.
— Но с какой стати он начал пальбу? В чем мы виноваты пред ним?
— Черт возьми! Вы подняли тот предмет, который вам швырнул узник.
— Да, верно.
— А на этом блюде… узник что-нибудь написал, так ведь?
— Да.
— Я так и думал… Ах, Боже мой!
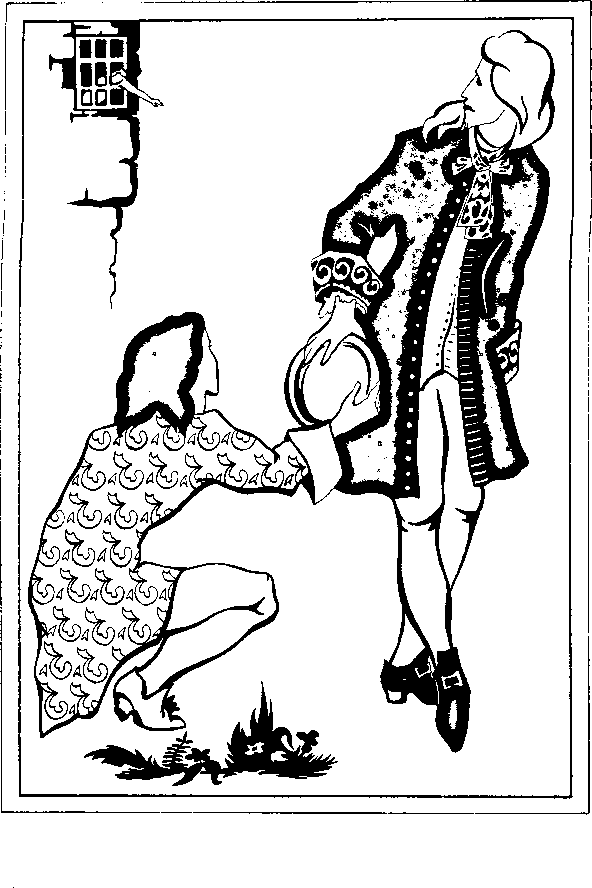
И д’Артаньян в смертельном беспокойстве схватил блюдо, чтобы прочитать надпись. Не успел он прочесть ее, как лицо его стало белым как полотно.
— О Боже мой! — повторил он. — Молчание! К нам идет губернатор.
— Но что же в конце концов он сделает с нами? Разве это наша вина? — спросил Рауль.
— Итак, это правда? — прошептал Атос. — Это правда?
— Молчание, говорю вам, молчание! Если решат, что вы грамотны, если заподозрят, что вы поняли надпись… Я вас очень люблю, дорогие друзья, я дал бы себя убить за вас… но…
— Но? — повторили Атос и Рауль.
— Быть может, я мог бы спасти вас от смерти, но от вечного заключения… никогда! Итак, молчание, молчание!
Губернатор уже переходил ров по деревянному мостику.
— В таком случае, — спросил Атос д’Артаньяна, — что же вас останавливает?
— Вы испанцы, — тихо сказал капитан, — вы ни слова не понимаете по-французски. — Ну, я был прав, — обратился он к губернатору, — эти господа — испанские офицеры, с которыми я познакомился прошлый год в Ипре… Они не знают по-французски ни слова.
— А-а, — подозрительно произнес губернатор и, взяв блюдо, попытался прочитать надпись.
Д’Артаньян отнял у него блюдо и затер надпись острием своей шпаги.
— Что вы делаете? — воскликнул губернатор. — Почему я не могу прочитать выцарапанных здесь слов?
— Это государственная тайна, — твердо сказал д’Артаньян, — и поскольку вам известен приказ короля, согласно которому проникшему в нее полагается смертная казнь, я, если желаете, дам вам прочесть, что здесь написано, но сразу же после этого велю расстрелять вас на месте.
Пока д’Артаньян полусерьезным-полушутливым тоном произносил это, Атос и Рауль хладнокровно молчали.
— Немыслимо, — протянул губернатор, — чтобы эти господа ничего не понимали, ни одного слова.
— Оставьте. Даже если б они понимали разговорную речь, они все равно не в ладу с грамотой. Они не могли бы прочитать и того, что написано по-испански. Благородному испанцу — помните хорошенько об этом — полагается быть неграмотным.
Губернатору пришлось удовлетвориться такими объяснениями, но он был упрям и сказал д’Артаньяну:
— Пригласите этих господ посетить нашу крепость.
— Очень хорошо, я хотел предложить вам то же, — ответил д’Артаньян.
На самом деле мушкетеру хотелось совсем обратного, и он был бы рад, если б его друзья были уже за сто льё. Но ему нужно было продолжать начатую комедию, и он обратился по-испански к своим друзьям с приглашением, которое они вынуждены были принять. Все направились к крепости, и восемь солдат, потревоженных на короткое время этим неслыханным происшествием, вернулись к привычной праздности.
ХIII
ПЛЕННИК И ТЮРЕМЩИКИ
Они вошли в замок, и, пока губернатор отдавал кое-какие распоряжения, относящиеся к приему гостей, Атос попросил д’Артаньяна:
— Объясните мне вкратце, пока мы одни, что тут у вас происходит.
— Совершенно простая вещь, — отвечал мушкетер. — Я привез сюда узника, видеть которого, по приказу короля, запрещается кому бы то ни было; вы приехали, он бросил вам какой-то предмет через решетку своего окна; в это время я обедал у губернатора и, заметив, что из окна летит этот предмет, увидел также, как Рауль поднял его. Мне не требуется много времени, чтобы постигнуть суть дела. Я решил, что вы заговорщики и таким способом общаетесь с моим узником. И вот…
— И вот вы приказали, чтобы нас застрелили.
— Признаюсь… приказал; но если я и был первым схватившимся за мушкет, то, к счастью, был последним, кто взял вас на мушку.
— Если б вы убили меня, д’Артаньян, на мою долю выпало бы счастье умереть за королевскую династию Франции. И это большая честь — умереть от вашей руки, руки самого благородного и верного защитника этой династии.
— Что вы толкуете тут, Атос, о королевской династии? — не очень уверенным тоном сказал д’Артаньян. — Неужели вы, граф, человек благоразумный и обладающий огромным жизненным опытом, верите глупостям, написанным сумасшедшим?
— Верю.
— С тем большим основанием, дорогой шевалье, — добавил Рауль, — что у вас есть приказ убивать всякого, кто в них поверит.
— Потому что всякая басня этого рода, если она уж очень бессмысленна, — отвечал мушкетер, — почти наверняка становится в конце концов общераспространенной.
— Нет, д’Артаньян, — совсем тихо проговорил Атос, — нет, потому что король не хочет, чтобы тайна его семьи просочилась в народ и покрыла позором палачей сына Людовика Тринадцатого.
— Ну что вы, что вы, не произносите этих ребяческих слов, Атос, или я больше не буду считать вас рассудительным человеком. Объясните-ка мне, каким образом сын Людовика Тринадцатого мог бы оказаться на острове Сент-Маргерит?
— Добавьте: сын, которого вы привезли сюда в маске на утлой рыбачьей лодке. Разве не так?
Д’Артаньян осекся.
— В рыбачьей лодке? Откуда вы знаете? — спросил он, мгновение помолчав.
— Эта лодка доставила вас на Сент-Маргерит с каретой, снятой с колес, и в этой карете находился ваш узник; узник, к которому вы обращались, именуя его монсеньером. О, я знаю!
Д’Артаньян покусывал ус.
— Даже если правда, что я привез сюда узника в маске, ничто не доказывает, что этот узник — принц… принц французского королевского дома.
— Спросите об этом у Арамиса, — холодно ответил Атос.
— У Арамиса? — воскликнул повергнутый в изумление мушкетер. — Вы видели Арамиса?
— Да, после его неудачной попытки в Во; я видел бегущего, преследуемого, обесчещенного Арамиса, и Арамис сказал мне достаточно, чтобы я верил жалобам, которые начертал на серебряном блюде этот несчастный.
Д’Артаньян удрученно опустил голову.
— Вот как Господь потешается над всем тем, что люди зовут своей мудростью! Хороша тайна, обрывками которой владеет добрая дюжина лиц… Будь проклят случай, столкнувший вас в этом деле со мною, потому что теперь…
— Разве ваша тайна, — сказал Атос со своей сдержанной мягкостью, — разве ваша тайна перестала быть тайной оттого, что я знаю ее? Разве не скрывал я всю свою жизнь столь же серьезных тайн? Вспомните хорошенько, друг мой.
— Никогда вы не скрывали в себе более пагубной тайны, — продолжал с грустью капитан мушкетеров. — У меня роковое предчувствие, что все, кто прикоснется к ней, умрут, и умрут плохо.
— Да свершится воля Господня! Но вот ваш губернатор.
Д’Артаньян и его друзья снова принялись за свою комедию.
Губернатор, суровый и подозрительный человек, проявлял по отношению к д’Артаньяну учтивость, граничившую с подобострастием. Что же касается путешественников, то он удовольствовался лишь тем, что угостил их отменным обедом, во время которого не сводил с них своего пытливого взгляда.
Атос и Рауль заметили, что он старался смутить их внезапной атакой или поймать врасплох. Но и тот и другой неизменно держались настороже. То, что сказал о них д’Артаньян, могло казаться правдоподобным, даже если бы губернатор и не считал это правдой.
Когда встали из-за стола, Атос по-испански спросил д’Артаньяна:
— Как зовут губернатора? У него отталкивающее лицо.
— Де Сен-Мар, — отвечал капитан.
— Он и будет тюремщиком юного принца?
— Откуда мне знать об этом? Быть может, и я пробуду на Сент-Маргерит до конца моих дней.
— Что вы? С чего вы взяли?
— Друг мой, я нахожусь в положении человека, который среди пустыни нашел сокровище. Он хочет унести его и не может; хочет оставить на месте и не решается. Король не вернет меня, опасаясь, что никто не будет сторожить узника столь же усердно, как я, но вместе с тем он жалеет, что я так далеко, понимая, что никто не будет служить ему так же, как я. Впрочем, на все Божья воля.
— Спросите у этих господ, — перебил Сен-Мар, — зачем они приехали на Сент-Маргерит?
— Они приехали, зная, что на Сент-Онора есть бенедиктинский монастырь, осмотреть который было бы весьма любопытно, а на Сент-Маргерит — превосходнейшая охота.
— Она к их услугам, равно как и к вашим, — ответил Сен-Мар.
Д’Артаньян поблагодарил губернатора.
— Когда они уезжают?
— Завтра.
Сен-Мар отправился проверить посты, оставив д’Артаньяна в обществе мнимых испанцев.
— Вот, — заговорил мушкетер, — жизнь и сожитель, которые мне очень не по душе. Этот человек находится у меня в подчинении, а он, черт возьми, стесняет меня!.. Знаете что, давайте поохотимся немного на кроликов. Прогулка прекрасная и вовсе не утомительная. В длину остров — всего-навсего полтора льё, в ширину — пол-лье, настоящий парк. Давайте-ка развлекаться.
— Пойдемте куда хотите, д’Артаньян, но не для того, чтобы предаваться забаве, а чтобы свободно поговорить.
Д’Артаньян подал знак солдату, который сразу же его понял и, принеся дворянам охотничьи ружья, вернулся в замок.
— А теперь, — начал мушкетер, — ответьте-ка на вопрос, который задал мне этот мрачный Сен-Мар: чего ради приехали вы на эти забытые острова?
— Чтобы проститься с вами.
— Проститься? Как? Рауль уезжает?
— Да.
— Держу пари, что с герцогом де Бофором!
— Да, с герцогом де Бофором. О, вы, как всегда угадали, дорогой друг.
— Привычка.
Еще в начале этого разговора Рауль с тяжелою головой и стесненным сердцем присел на поросший мхом камень, положив свой мушкет на колени. Он смотрел на море, смотрел на небо и слушал голос своей души. Он не стал догонять охотников. Д’Артаньян заметил его отсутствие и спросил:
— Он все еще страдает от раны?
— Да, но он ранен насмерть, — ответил Атос.
— О, вы преувеличиваете, друг мой. Рауль — человек отличной закалки. У всех благородных сердец есть еще одна оболочка, предохраняющая их словно броня. Если первая кровоточит, вторая задерживает кровотечение.
— Нет, — ответил Атос, — Рауль умрет с горя.
— Черт возьми! — мрачно проговорил д’Артаньян.
После минутного молчания он спросил:
— Почему же вы его отпускаете?
— Потому, что он хочет этого.
— А почему вы сами не едете с ним?
— Потому, что не хочу быть свидетелем его смерти.
Д’Артаньян пристально посмотрел на друга.
— Вы знаете, — продолжал граф, опираясь на руку д’Артаньяна, — вы знаете, что всю мою жизнь я боялся очень немногого. А теперь меня преследует страх, непрестанный, терзающий, неодолимый. Я боюсь, что придет день, когда я буду держать в объятиях труп моего сына.
— Полноте! — сказал д’Артаньян.
— Он умрет, я в этом твердо уверен, я это знаю, и я не хочу присутствовать при его смерти.
— Послушайте, Атос, вы находитесь с глазу на глаз с человеком, про которого вы говорили, что он самый храбрый из всех, кого вы когда-либо знали, с преданным вам д’Артаньяном, не имеющим себе равных, как вы некогда называли его, и, скрестив на груди руки, вы говорите ему, что страшитесь смерти вашего сына, и это вы, повидавший на своем веку все, что только можно увидеть на свете! Ну что ж, допустим; но откуда, Атос, у вас этот страх? Человек, пока он пребывает на этой бренной земле, должен быть ко всему готовым, должен бестрепетно идти навстречу всему.
— Выслушайте меня, друг мой. Прожив столько лет на этой бренной земле, о которой вы говорите, я сохранил только два сильных чувства. Одно из них связано с моей земной жизнью — это чувство к моим друзьям, чувство отцовского долга; второе имеет отношение к моей жизни в вечности — это любовь к Богу и чувство благоговения перед ним. И теперь я ощущаю всем своим существом, что, если Господь допустит, чтобы мой друг или сын испустил в моем присутствии дух… Нет, д’Артаньян, я не в силах даже произнести что-либо подобное…
— Говорите, говорите же.
— Я вынесу все что угодно, кроме смерти тех, кого я люблю. Только против этого нет лекарства. Кто умирает— выигрывает, кто видит, как умирает близкий, — теряет. Знать, что никогда, никогда не увижу я больше на этой земле того, кого всегда встречал с радостью; знать, что нигде больше нет д’Артаньяна, нет Рауля! О!.. Я стар и утратил былое мужество; я молю Бога пощадить мою слабость; но если он поразит меня в самое сердце, я прокляну его. Христианину-дворянину не подобает проклинать своего Бога; достаточно и того, что я проклял моего короля.
— Гм… — пробормотал д’Артаньян, смущенный этой неистовой бурей страдания.
— Д’Артаньян, друг мой, вы любите Рауля; так взгляните же на него: посмотрите на эту грусть, ни на мгновение не покидающую его. Знаете ли вы что-нибудь более страшное, чем неотлучно наблюдать агонию этого бедного сердца?
— Позвольте мне поговорить с ним, Атос. Кто знает?
— Попробуйте, но я убежден, что вы ничего не достигнете.
— Я не стану докучать ему утешениями, я предложу ему помощь.
— Вы?
— Конечно. Разве это первый случай женской неверности? Я направляюсь к нему.
Атос покачал головой и дальше пошел один. Д’Артаньян вернулся через кустарник и, подойдя к Раулю, протянул ему руку.
— Вам надо поговорить со мной? — спросил он Рауля.
— Я хочу попросить вас об услуге.
— Просите.
— Вы когда-нибудь вернетесь во Францию?
— По крайней мере, надеюсь.
— Нужно ли мне написать мадемуазель Лавальер?
— Нет, не надо.
— Но мне столько надо ей сказать!
— Поезжайте и говорите с ней!
— Никогда!
— Почему же вы думаете, что ваше письмо будет обладать силой, которой не имеют ваши слова?
— Вы правы.
— Она любит короля, — резко сказал д’Артаньян, — и она честная девушка.
Рауль вздрогнул.
— А вас, вас, который покинут ею, она любит, быть может, еще больше, чем короля, но иначе.
— Д’Артаньян, вы уверены в ее любви к королю?
— Она обожает его. Ее сердце недоступно никакому другому чувству. Но если б вы продолжали жить близ нее, вы были бы ее лучшим другом.
— Ах! — со страстным порывом вздохнул Рауль, готовый проникнуться скорбной надеждой.
— Вы этого жаждете?
— Это было бы трусостью.
— Вот глупое слово, способное внушить мне презрение к вашему разуму, мой милый Рауль. Никогда не бывает проявлением трусости подчинение силе, стоящей над вами! Если ваше сердце подсказывает вам: "Иди туда или умри", — идите, Рауль. Была ли она трусливою или смелою, когда, любя вас, предпочла вам короля, потому что ее сердце властно велело ей оказать ему предпочтение? Нет, она была самой смелой женщиной на свете. Поступите ж и вы как она, и подчинитесь себе самому. Знаете ли, Рауль, я убежден, что, увидев ее вблизи глазами ревнивца, вы забудете о вашей любви.
— Вы меня убедили, дорогой д’Артаньян…
— Ехать, чтобы увидеть ее?
— Нет, ехать, чтобы никогда ее больше не видеть. Я хочу вечно любить ее.
— По правде говоря, вот вывод, которого я совсем не ожидал.
— Слушайте, друг мой, вы отправитесь к ней и отдадите ей это письмо, которое объяснит и ей и вам происходящее в моем сердце. Прочтите письмо, я написал его минувшей ночью. Что-то подсказывало моей душе, что сегодня мы с вами встретимся.
И он протянул письмо д’Артаньяну, который прочел в нем следующее:
"Сударыня, Вы нисколько не виноваты в том, что меня не любите. Вы виноваты лишь в том, что позволили мне поверить в Вашу любовь. Это заблуждение будет стоить мне жизни. Я прощаю Вам Вашу вину, но не прощаю себе своего заблуждения. Говорят, что счастливые влюбленные глухи к стенаниям тех, кто был ими любим, а затем отвергнут. Но с Вами это едва ли возможно, потому что Вы не любили меня, а если и испытывали ко мне какое-то чувство, то оно сопровождалось сомнениями и душевной тревогой. Я уверен, что, если бы я стремился превратить эту дружбу в любовь, Вы уступили бы из боязни убить меня или нанести ущерб уважению, которое я к Вам питал. Мне будет сладостно умирать, зная, что Вы свободны и счастливы.
Но Вы полюбите меня настоящей любовью, когда Вам нечего будет больше бояться моего взгляда или упрека. Вы будете любить меня, потому что, как бы упоительна для Вас ни была Ваша нынешняя любовь, Бог создал меня ни в чем не ниже того, кого Вы избрали, а моя преданность, моя жертва, мой скорбный конец поставят меня в Ваших глазах выше его. Я упустил по наивной доверчивости моего сердца сокровище, которым владел. Многие говорят, что Вы меня любили достаточно, чтобы полюбить безраздельно. Эта мысль уничтожает во мне всякую горечь обиды и побуждает считать своим врагом лишь себя самого.
Вы примете от меня это последнее "прости" и благословите меня за то, что я скрылся в том недосягаемом убежище, где гаснет всякая ненависть и пребывает только любовь.
Прощайте, сударыня. Если б нужно было всей моей кровью купить Ваше счастье, я отдал бы всю свою кровь. Ведь приношу же я ее в жертву своему страданию!
Рауль, виконт де Бражелон".
— Письмо написано хорошо, — сказала капитан, — но одно мне все же не нравится в нем.
— Что же, скажите! — воскликнул Рауль.
— То, что оно говорит обо всем, кроме того, что изливается, словно смертельный яд, из ваших глаз, из вашего сердца: кроме безумной любви, все еще сжигающей вас.
Рауль побледнел и замолк.
— Почему бы вам не написать просто: "Сударыня! Вместо того чтоб послать Вам свое проклятие, я люблю Вас и умираю".
— Это правда, — ответил Рауль с мрачной радостью.
И, разорвав письмо, которое он успел взять из рук д’Артаньяна, он написал на листке из записной книжки следующее:
"Чтобы иметь счастье сказать Вам еще раз, что я Вас люблю, я малодушно пишу Вам об этом, и чтобы наказать себя за свое малодушие, я умираю".
И, подписав, он спросил д’Артаньяна:
— Вы отдадите ей этот листок, капитан, не так ли?
— Когда?
— В тот день, — произнес Бражелон, указывая на последнее перед подписью слово, — когда вы поставите дату под этими строчками.
И он стремительно побежал к Атосу, который медленными шагами шел по направлению к ним.
Когда они возвращались назад, поднялись волны, и с яростной быстротой, свойственной Средиземному морю, легкое волнение превратилось в настоящую бурю. Какой-то темный предмет неопределенной формы, замеченный ими на берегу, остановил на себе их внимание.
— Что это — лодка? — спросил Атос.
— Нет, не думаю, — ответил д’Артаньян.
— Простите, — перебил Рауль, — но это все-таки лодка, спешащая в гавань.
— Там, в бухте, действительно видна лодка, которая хорошо делает, ища здесь убежище, но то, на что указывает Атос, вон на песке… разбитое…
— Да, да, вижу.
— Это карета, которую я выбросил в море, когда пристал к суше со своим узником.
— Позвольте дать вам совет, д’Артаньян, — сказал Атос, — сожгите эту карету, чтобы не осталось от нее и следа. Иначе антибские рыбаки, решившие, что им довелось иметь дело с дьяволом, попытаются доказать, что ваш узник был всего-навсего человеком.
— Хвалю ваш совет, Атос, и сегодня же ночью прикажу привести его в исполнение или, вернее, сам займусь этим делом. Но давайте войдем под крышу, начинается дождь, и сверкают уж очень страшные молнии.
Когда они проходили по валу, желая укрыться в галерее, от которой у д’Артаньяна был ключ, они увидели Сен-Мара, направляющегося в камеру узника. По знаку д’Артаньяна они спрятались за поворотом, который делала лестница.
— Что это? — спросил Атос.
— Сейчас увидите. Смотрите. Узник возвращается из часовни.
И при свете багровой молнии, в фиолетовом сумраке грозового неба, они увидели медленно шедшего в шести шагах позади губернатора человека, одетого во все черное, голова которого была скрыта шлемом, а лицо — забралом из вороненой стали. Небесный огонь бросал рыжие отблески на полированную поверхность забрала, и эти отблески, причудливо вспыхивая, казались гневными взглядами, которые метал этот несчастный вместо того, чтобы разражаться проклятиями. Посреди галереи узник на минуту остановился; он созерцал далеко открывающийся горизонт, вдыхал аромат бури и жадно пил теплый дождь.
Вдруг из его груди вырвался вздох, напоминающий скорее рычание.
— Идите, сударь, — резко сказал Сен-Мар, так как его стало уже беспокоить, что узник слишком долго смотрит за пределы крепостных стен, — идите же, сударь!
— Называйте его монсеньер! — крикнул Сен-Мару из своего угла граф де Ла Фер таким страшным и торжественным голосом, что губернатор вздрогнул.
Атос, как всегда, требовал уважения к поверженному величию.
Узник обернулся.
— Кто это сказал? — спросил Сен-Мар.
— Я, — проговорил д’Артаньян, появляясь перед губернатором. — Вы хорошо знаете, что на этот счет есть приказ.
— Не зовите меня ни сударем, ни монсеньером, — сказал узник голосом, проникшим в самое сердце Рауля, — зовите меня проклятым.
И он прошел мимо. За ним заскрипела железная дверь.
— Вот где несчастный человек, — глухо прошептал мушкетер, показывая Раулю камеру принца.
XIV
ОБЕЩАНИЯ
Едва д’Атаньян вошел со своими друзьями в комнату, которую занимал, как один из гарнизонных солдат явился к нему с извещением, что губернатор хотел бы встретиться с ним. Лодка, которую Рауль видел в море и которая торопилась укрыться в бухте, прибыла на Сент-Маргерит с депешей для мушкетера.
Вскрыв письмо, д’Артаньян узнал руку Людовика.
"Я полагаю, — писал король, — что Вы уже выполнили мои приказания, господин д'Артаньян, поэтому немедленно возвращайтесь в Париж; Вы найдете меня в моем Лувре".
— Вот и кончена моя ссылка! — радостно вскричал мушкетер. — Слава Богу, я перестаю быть тюремщиком.
И он дал Атосу прочесть это письмо.
— Значит, вы покидаете нас? — с грустью спросил Атос.
— Чтобы быть неразлучно вами, дорогой друг. Ведь Рауль — человек взрослый и отлично может отправиться с герцогом де Бофором; и он предпочтет, чтоб его отец возвращался в обществе д’Артаньяна, чем ехал бы в одиночестве двести льё до Ла Фера. Не так ли, Рауль?
— Конечно, — невнятно проговорил Рауль с выражением нежного сожаления.
— Нет, друг мой, — перебил Атос, — я покину Рауля только в тот день, когда его корабль исчезнет на горизонте. Пока он во Франции, я не оставлю его.
— Как хотите, мой дорогой; но мы, по крайней мере, вместе уедем с Сент-Маргерит; воспользуйтесь моей шлюпкой, она довезет и вас и меня до Антиба.
— С величайшей готовностью. Мне хочется как можно скорее оказаться подальше от этой крепости и того зрелища, которое только что так опечалило нас.
Итак, трое друзей, простившись с губернатором, покинули маленький остров и в последних вспышках удаляющейся грозы в последний раз взглянули на белевшие стены крепости.
Д’Артаньян расстался со своими друзьями в эту же ночь; он успел увидеть на берегу Сент-Маргерит яркое пламя: то горела подожженная в соответствии с его указаниями по распоряжению Сен-Мара карета.
Обнявшись на прощание с Атосом, перед тем как садиться в седло, д’Артаньян сказал:
— Друзья мои, вы очень похожи на двух солдат, каждый из которых бросил свой пост. Что-то подсказывает мне, что Раулю в его служебных делах понадобится ваша поддержка, Атос. Хотите, я попрошу короля, чтобы и меня отправили в Африку с сотней молодцов-мушкетеров? Его величество не откажет мне, и я возьму вас с собой.
— Господин д’Артаньян, — ответил Рауль, с жаром пожимая руку, протянутую ему капитаном, — благодарю вас за предложение, превосходящее самые смелые упования графа, а также мои. Мне требуется занять свои мысли и физически уставать, так как я молод; графу же нужен полнейший покой. Вы его лучший друг: поручаю его вашему попечению. Берегите его, и наши души в ваших руках.
— Надо трогаться в путь: вот и коню моему больше не терпится, — заметил д’Артаньян, у которого быстрая смена мыслей и тем в разговоре всегда была признаком живейших душевных переживаний. — Скажите, граф, сколько дней проведет тут Рауль?
— Не больше чем три.
— А сколько дней вы собираетесь затратить на возвращение?
— О, точно не знаю, — ответил Атос. — Я не хочу слишком поспешно отрываться от моего дорогого Рауля. Время и без того с достаточной быстротой отнимет его у меня, и я не хочу, чтобы тому же способствовало пространство. Спешить я не стану.
— Вы не правы, друг мой. Медленная езда нагоняет тоску, и к тому же человеку вашего возраста отнюдь не подходит жизнь в придорожных трактирах.
— Я прибыл сюда на почтовых лошадях, но теперь хочу купить двух хороших лошадок. Чтобы привести их домой в свежем виде, нельзя гнать их больше семи-восьми лье за сутки.
— Где Гримо?
— Он приехал вчера рано утром, и я разрешил ему отоспаться как следует.
— Ну что же, возвращаться к этому больше нечего, — вырвалось у д’Артаньяна. — До свидания, Атос, и если вы поторопитесь, я буду иметь удовольствие вскоре снова заключить вас в объятия.
Сказав это, он занес ногу в стремя, которое держал ему Рауль.
— Прощайте, — сказал юноша, целуя его.
— Прощайте, — проговорил д’Артаньян, усаживаясь в седле. Конь рванул с места и унес мушкетера.
Эта сцена происходила в предместье Антиба, перед домом, в котором остановился Атос и куда д’Артаньян велел привести после ужина свою лошадь.
Отсюда начиналась дорога, белая и расплывчатая в ночном тумане. Конь полною грудью вдыхал терпкий, солоноватый воздух, приносимый с солончаковых топей, обильных в этих местах.
Д’Артаньян пустил коня рысью. Атос и Рауль печально и медленно направились к своему дому. Вдруг они услышали приближающийся топот конских копыт. Они решили сначала, что это один из тех обманчивых звуков, которые вводят в заблуждение слух человека при каждом повороте дороги.
Но это и в самом деле был д’Артаньян, галопом возвращавшийся к ним. Они вскрикнули от радости и изумления, а капитан, соскочив на землю с юношеской прытью, подбежал к только что покинутым им друзьям и обнял сразу обоих, прижав к своему сердцу и того и другого. Он долго держал их молча в объятиях, и ни один вздох не вырвался из его груди. Затем, с той же внезапностью, с какой он вернулся, он уехал, пришпорив свою горячую лошадь.
— Увы… — совсем тихо проговорил граф, — увы!
"Дурное предзнаменование! — думал со своей стороны д’Артаньян, нагоняя потерянное время. — Я не мог улыбнуться им. Плохая примета!"
На следующее утро Гримо был уже на ногах. Поручения герцога де Бофора выполнялись успешно. Флотилия, собранная стараниями Рауля для отправки в Тулон, вышла по назначению. За ней в почти невидимых над водой лодочках следовали жены и друзья рыбаков и контрабандистов, мобилизованных для обслуживания флота.
Короткое время, которое отцу и сыну оставалось провести вместе, летело с удвоенной быстротой, как ускоряет свое движение все стремящееся низвергнуться в бездну вечности.
Атос и Рауль вернулись в Тулон, который был весь наполнен громыханьем повозок, бряцанием оружия и ржанием коней. Гремели трубы и барабаны. Улицы были запружены солдатами, слугами и торговцами.
Герцог де Бофор находился одновременно повсюду, торопя посадку войск на суда и погрузку со рвением и заботливостью хорошего военачальника. Он был ласков и обходителен даже с самыми скромными из своих подчиненных и нещадно бранил даже самых важных из них.
Артиллерия, продовольствие и другие припасы — во все это он входил лично и сам осматривал; он проверил снаряжение каждого отплывающего солдата, удостоверился в хорошем состоянии каждой отправляемой лошади. Чувствовалось, что этот легкомысленный, хвастливый и эгоистичный в своем дворце вельможа становится настоящим солдатом, требовательным военачальником перед лицом ответственности, которую он взял на себя.
Впрочем, необходимо признать, что как бы старательно ни проводилась подготовка к отплытию, в ней тем не менее ощущалась спешка и беззаботность и то отсутствие какой бы то ни было предусмотрительности, которое делает французского солдата первым солдатом в мире, ибо какой же другой солдат должен в такой же мере рассчитывать исключительно на себя, на свои физические и душевные силы?
Адмирал был доволен или, по крайней мере, казался довольным; похвалив Рауля, он отдал последние распоряжения, касающиеся выхода в море. Он приказал сниматься с якоря на заре следующего дня.
Накануне он пригласил графа с Раулем к обеду. Они, однако, отказались от этого приглашения под предлогом неотложных служебных дел. Отправившись к себе в гостиницу, расположенную в тени деревьев на большой площади, они, не засиживаясь за столом, торопливо проглотили обед, и Атос повел сына на скалы, господствовавшие над городом. Это были высокие каменные громады, с которых открывался бескрайний вид на море с такой далекой линией горизонта, что казалось, будто она находится на одной высоте со скалами.
Ночь, как всегда в этих счастливых краях, была исключительно хороша. Луна, поднявшись из-за зубцов скал, заливала серебряным светом голубой ковер моря. На рейде, занимая положенное им по диспозиции место, маневрировали в полном безмолвии корабли.
Море, насыщенное фосфором, расступалось пред барками, перевозившими снаряжение и припасы; малейшее покачивание кормы зажигало пучину белесоватым пламенем, и всякий взмах веслом рассыпал мириадами капель горящие алмазы.
Время от времени доносились голоса моряков, радостно встречавших щедроты своего адмирала или напевавших свои бесхитростные тягучие песни. Это зрелище и эти гармоничные звуки заставляли сердце то сжиматься, как эго бывает, когда оно полно страха, то раскрываться и расширяться, как это бывает, когда его заполняют надежды. От всей этой жизни веяло дыханием смерти.
Атос и Рауль уселись на высоком скалистом мысу, заросшем мохом и вереском. Над их головами взад и вперед сновали большие летучие мыши, которых вовлекала в этот бешеный хоровод их неутомимая охота. Ноги Рауля свешивались над краем утеса, в той пустоте, от которой кружится голова и спирает дыхание и которая манит в небытие.
Когда полная луна поднялась на небе, лаская своим сиянием соседние пики в горах, когда зеркало вод осветилось во всю свою ширь, когда маленькие красные огоньки, пронзив черную массу кораблей, замелькали здесь и там в ночном сумраке, Атос, собравшись с мыслями, вооружившись всем своим мужеством, сказал, обращаясь к Раулю.
— Бог создал все, что мы видим, Рауль; он также создал и нас. Мы ничтожные атомы, брошенные им в просторы великой Вселенной. Мы блестим, как эти огни и звезды, мы вздыхаем, как волны, мы страдаем, как эти огромные корабли, которые изнашиваются, разрезая волны и повинуясь ветру, несущему их к намеченной цели, так же как дыхание Бога несет нас в вожделенную тихую гавань. Все любят жизнь, Рауль, и в живом мире все и в самом деле прекрасно.
— У нас перед глазами действительно прекрасное зрелище, — отвечал молодой человек.
— Как д’Артаньян добр, — тотчас перебил Рауля Атос, — и какое счастье опираться всю свою жизнь на такого друга! Вот чего вам не хватало, Рауль.
— Друга? Это у меня не было друга? — воскликнул молодой человек.
— Господин де Гиш — славный товарищ, — холодно продолжал граф, — но мне кажется, что в ваше время, Рауль, люди занимаются своими личными делами и удовольствиями значительно больше, нежели в мои времена. Вы стремились к уединенной жизни, и это счастье, но вы растратили в ней вашу силу. Мы же, четверо неразлучных, не знавшие, быть может, той утонченности, которая доставляет вам радость, мы обладали большей способностью к сопротивлению, когда нам грозила опасность.
— Я прерываю вас, граф, совсем не затем, чтобы сказать, что у меня был друг, и этот друг — де Гиш. Конечно, он добр и благороден, и он любит меня. Но я жил под покровительством другой дружбы, столь же прочной, как та, о которой вы говорите, и эта дружба с вами, отец.
— Я не был для вас другом, Рауль, потому что я показал вам лишь одну сторону жизни; я был печален и строг, увы! Не желая того, я срезал живительные ростки, выраставшие непрестанно на стволе вашей юности. Короче говоря, я раскаиваюсь, что не сделал из вас очень живого, очень светского, очень шумного человека.
— Я знаю, почему вы так говорите, граф. Нет, вы не правы, это не вы сделали меня тем, что я представляю собой, но любовь, охватившая меня в таком возрасте, когда у детей бывают только симпатии; это прирожденное постоянство моей натуры, постоянство, которое у других бывает только привычкой. Я считал, что всегда буду таким, каким был! Я считал, что Бог направил меня по торной, прямой дороге, по краям которой я найду лишь плоды да цветы. Меня постоянно оберегали ваша бдительность, ваша сила, и я думал, что это я бдителен и силен. Я не был подготовлен к препятствиям, я упал, и это падение отняло у меня мужество на всю жизнь. Я разбился, и это точное определение того, что случилось со мной. О нет, граф, вы были счастьем моего прошлого, вы будете надеждой моего будущего. Нет, мне не в чем упрекнуть ту жизнь, которую вы для меня создали; я благословляю вас и люблю со всем жаром моей души.
— Милый Рауль, ваши слова приносят мне облегчение. Они показывают, что, по крайней мере, в ближайшем будущем вы будете в своих действиях немного считаться со мной.
— Я буду считаться лишь с вами и больше ни с кем.
— Рауль, я никогда не делал этого прежде для вас, но я это сделаю. Я сделаюсь вашим другом, я буду отныне не только вашим отцом. Мы заживем с вами открытым домом, вместо того чтобы жить отшельниками, и это случится, когда вы вернетесь. Ведь это произойдет очень скоро, не так ли?
— Конечно, граф, подобная экспедиция не может быть продолжительной.
— Значит, скоро, Рауль, скоро, вместо того чтобы скромно жить на доходы, я вручу вам капитал, продав мои земли. Его хватит, чтобы жить светской жизнью до моей смерти, и я надеюсь, что до этого времени вы утешите меня тем, что не дадите угаснуть нашему роду.
— Я сделаю все, что вы прикажете, — ответил с чувством Рауль.
— Не подобает, Рауль, чтобы ваша адъютантская служба увлекала вас в слишком опасные предприятия. Вы уже доказали свою храбрость в сражениях, вас видели под огнем неприятеля. Помните, что война с арабами — это война ловушек, засад и убийств из-за угла. Попасть в западню не слишком большая слава. Больше того, бывает и так, что те, кто попался в нее, не вызывают ничьей жалости. А те, о ком не жалеют, те пали напрасно. Вы понимаете мою мысль, Рауль? Сохрани Боже, чтобы я уговаривал вас уклоняться от встречи с врагом!
— Я благоразумен по своему складу характера, и мне к тому же очень везет, — ответил Рауль с улыбкою, заставившей похолодеть сердце опечаленного отца, — ведь я, — поторопился добавить молодой человек, — побывал в двадцати сражениях и отделался лишь одною царапиной.
— Затем, — продолжал Атос, — следует опасаться климата. Смерть от лихорадки — ужасный конец. Людовик Святой молил Бога наслать на него лучше стрелу или чуму, но только не лихорадку.
— О граф, при трезвом образе жизни и умеренных физических упражнениях…
— Я узнал от герцога де Бофора, что свои донесения он будет отсылать во Францию раз в две недели. Вероятно, вам, как его адъютанту, будет поручена их отправка. Вы, конечно, меня не забудете, правда?
— Нет, граф, не забуду, — произнес Рауль сдавленным голосом.
— Наконец, Рауль, вы, как и я, — христианин, и мы должны рассчитывать на особое покровительство Бога и ангелов-хранителей, опекающих нас. Обещайте, что если с вами случится несчастье, то вы прежде всего вспомните обо мне. И позовете меня.
— О, конечно, сразу же!
— Вы видите меня когда-нибудь в ваших снах, Рауль?
— Каждую ночь, граф. В моем раннем детстве я видел вас спокойным и ласковым, и вы клали руку на мою голову, и вот почему я спал так безмятежно… когда-то.
— Мы слишком любим друг друга, чтобы теперь, когда мы расстаемся, наши души не сопровождали одна другую и моя не была бы с вами, а ваша — со мной. Когда вы будете печальны, Рауль, я почувствую, и мое сердце погрузится в печаль, а когда вы улыбнетесь, думая обо мне, знайте, что вы посылаете мне из заморских краев луч вашей радости.
— Я не обещаю вам быть всегда радостным, но будьте уверены, что я не проведу ни одного часа, чтобы не вспомнить о вас, ни одного часа, клянусь вам, пока буду жив.
Атос не мог больше сдерживаться. Он обеими руками обхватил шею сына и изо всех сил обнял его.
Лунный свет уступил место предрассветному сумраку, и на горизонте, возвещая приближение дня, показалась золотая полоска.
Атос накинул на плечи Рауля свой плащ и повел его к походившему на большой муравейник городу, в котором уже сновали носильщики с ношею на плечах.
На краю плоскогорья, которое только что покинули Атос и Рауль, они увидели темную тень, которая то приближалась к ним, то, наоборот, удалялась от них, словно боясь, что ее могут заметить. Это был верный Гримо, который, обеспокоившись, пошел по следу своих господ и поджидал их возвращения.
— Ах, добрый Гримо, — воскликнул Рауль, — зачем ты сюда пожаловал? Ты пришел сказать, что пора ехать, не так ли?
— Один? — сказал Гримо, указывая на Рауля Атосу с таким откровенным упреком, что было видно, до какой степени старик был взволнован.
— Да, ты прав! — согласился граф. — Нет, Рауль не уедет один, нет, он не будет один на чужбине, без друга, который смог бы утешить его и который напоминал бы ему обо всем, что он когда-то любил.
— Я? — спросил Гримо.
— Ты? Да, да! — вскричал растроганный этим проявлением преданности Рауль.
— Увы, — вздохнул Атос, — ты очень стар, мой добрый Гримо.
— Тем лучше, — молвил Гримо с невыразимой глубиной чувства и тактом.
— Но посадка на суда, сколько я вижу, уже начинается, — сказал Рауль, — а ты не готов.
— Готов! — ответил Гримо, показывая ключи от своих сундуков вместе с ключами своего юного господина.
— Но ты не можешь оставить графа, — попытался возразить юноша, — графа, с которым ты никогда прежде не расставался?
Гримо потемневшим взором взглянул на Атоса, как бы сравнивая силу своих хозяев. Граф молчал.
— Граф предпочтет, чтобы я отправился с вами, — сказал Гримо.
— Да, — подтвердил Атос кивком головы.
В этот момент раздалась барабанная дробь и весело запели рожки. Из города выходили полки, которым предстояло участвовать в экспедиции.
Их было пять, и каждый состоял из сорока рот. Королевский полк, солдат которого можно было узнать по белым мундирам с голубыми отворотами, шел впереди. Над разделенными на четыре лиловых и желтых поля ротными знаменами, усеянными шитыми золотом лилиями, возвышалось белое полковое знамя с крестом из геральдических лилий.
По бокам — мушкетеры со своими напоминающими рогатины упорами для стрельбы, которые они держали в руках, и мушкетами на плече, в центре — пикинёры с четырнадцатифутовыми пиками весело шагали к лодкам, которым предстояло доставить их по-ротно на корабли.
За королевским полком следовали пикардийский, наваррский и нормандский полки с гвардейским морским экипажем. Герцог де Бофор знал, кого отобрать для предстоящей экспедиции за море. Сам он со своим штабом замыкал шествие.
Прежде чем он успеет добраться до гавани, пройдет еще добрый час.
Рауль вместе с Атосом медленно направлялся к берегу, чтобы занять свое место при герцоге, когда он поравняется с ними.
Гримо, деятельный, как юноша, распоряжался отправкой на адмиральский корабль вещей Рауля.
Атос, шедший под руку со своим сыном, с которым должен был вскоре расстаться, и оглушенный шумом и суетой, был погружен в скорбные мысли.
Вдруг один из офицеров герцога приблизился к ним и сообщил, что герцог выразил желание видеть Рауля возле себя.
— Будьте добры сказать герцогу, сударь, — возразил юноша, — что я прошу его предоставить мне этот последний час; я хотел бы провести его в обществе графа.
— Нет, нет, — перебил Атос, — адъютант не должен покидать своего генерала. Будьте любезны передать герцогу, сударь, что виконт без промедления явится к его светлости.
Офицер пустился вскачь догонять герцога.
— Расставаться нам тут или там, все равно нас ожидает разлука, — произнес граф.
Он старательно почистил рукой одежду Рауля и на ходу погладил его по голове.
— Рауль, — сказал он, — вам нужны деньги; герцог любит вести широкую жизнь, и я уверен, что и вам захочется покупать оружие и лошадей, которые в тех краях очень дороги. Но так как вы не служите ни королю, ни герцогу и зависите лишь от себя самого, вы не должны рассчитывать ни на жалованье, ни на щедрость герцога де Бофора. Я хочу, чтобы в Джиджелли вы ни в чем не нуждались.
Здесь двести пистолей. Истратьте их, если хотите доставить мне удовольствие.
Рауль пожал руку отцу. На повороте улицы они увидели герцога де Бофора верхом на великолепном белом коне; конь, отвечая на приветствия женщин, с необыкновенным изяществом выделывал перед ними курбеты.
Герцог подозвал Рауля и протянул руку графу. Он так долго и ласково беседовал с ним, что сердце опечаленного отца немножко утешилось.
Но обоим, и отцу и сыну, показалось, что они идут крестным путем, в конце которого их ожидает пытка. Наступил самый тяжелый момент: солдаты и матросы, покидая берег, прощались с семьями и друзьями, — последний момент, когда, несмотря на безоблачность неба, знойное солнце, свежие запахи моря, которыми напоен воздух, несмотря на то, что в жилах течет молодая кровь, все кажется черным и горьким, все повергает в уныние, все толкает к сомнениям в существовании Бога, хотя все это от него же исходит.
В те времена адмирал вместе со свитой всходил на корабль последним, и лишь после того как он показывался на палубе флагмана, раздавался могучий пушечный выстрел.
Атос, забыв и адмирала, и флот, и свое собственное достоинство сильного человека, открыл объятия сыну и судорожно привлек к себе.
— Проводите нас на корабль, — сказал тронутый герцог, — вы выиграете добрые полчаса.
— Нет, — ответил Атос, — нет, я уже попрощался и не хочу прощаться вторично.
— Тогда прыгайте в лодку, виконт, и поскорее, — добавил герцог, желая избавить от слез этих двух людей; глядя на них, он ощущал, как сердце его наполняется жалостью. С отцовской нежностью, с силой Портоса он увлек за собою Рауля и посадил его в шлюпку, на которой, по его знаку, гребцы тотчас же взялись за весла. И, нарушая церемониал, он подбежал к борту шлюпки и оттолкнул её от причала.
— Прощайте! — крикнул Рауль.
Атос ответил лишь жестом. Он почувствовал что-то горячее на руке: то был почтительный поцелуй Гримо, последнее прощание преданного слуги.
Поцеловав руку своего господина, Гримо соскочил со ступеньки пристани в шаланду, которую взяла на буксир двенадцативесельная галера.
Атос присел на молу, измученный, оглушенный, покинутый. Каждое мгновение стирало одну из дорогих ему черт, какую-нибудь из красок на бледном лице его сына.
Море унесло понемногу и лодки и лица на такое расстояние, когда люди становятся только точками, а любовь — воспоминанием.
Атос видел, как Рауль поднялся по трапу адмиральского корабля, видел, как он оперся о борт, став таким образом, чтобы быть заметным отцу. И хотя прогремел пушечный выстрел и на кораблях прокатился продолжительный гул, на который ответили бесчисленными восклицаниями на берегу, и хотя грохот пушек должен был оглушить уши отца, а дым выстрелов — застлать дорогой образ, привлекавший к себе все его помыслы, он все же явственно видел Рауля до последней минуты, и нечто постепенно теряющее свои очертания, сначала черное, потом блеклое, потом белое и, наконец, уж вовсе неразличимое, исчезло в глазах Атоса много позднее, чем исчезли для глаз всех остальных могучие корабли и их вздувшиеся белые паруса.
К полудню, когда солнце уже поглощало все видимое глазу пространство и верхушки мачт едва возвышались над горизонтом, Атос увидел нежную, воздушную, мгновенно расплывшуюся в воздухе тень: то был дым от пушечного салюта, которым герцог в последний раз прощался с берегом Франции.
Когда и эта тень растаяла в небе, Атос, чувствуя себя совершенно разбитым, вернулся к себе в гостиницу.
XV
СРЕДИ ЖЕНЩИН
Д’Артаньян, вопреки желанию скрыть от друзей свои чувства, не смог сделать это в той мере, в какой хотел. Непоколебимый солдат, бесстрастный воин, одолеваемый страхами и предчувствиями, он отдал минутную дань человеческой слабости. Но, заставив замолчать свое сердце и поборов дрожь своих мышц, он повернулся к своему молчаливому и исполнительному слуге и сказал:
— Рабо, да будет тебе известно, что я должен проезжать по тридцать льё в день.
— Отлично, господин капитан, — ответил Рабо.
И с этого момента, слившись в одно целое со своей лошадью, как настоящий кентавр, д’Артаньян не занимал больше своих мыслей ничем, то есть, иначе говоря, думал обо всем понемногу.
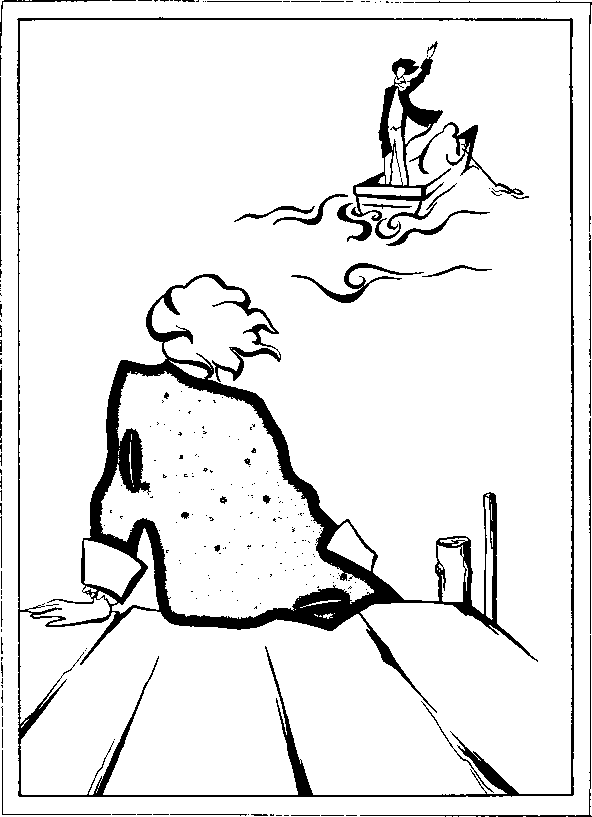
Он спросил себя, по какой причине король вызвал его; он задал себе также вопрос, почему Железная Маска бросил блюдо к ногам Рауля.
Что касается первого из этих вопросов, то ответить на него удовлетворительным образом д’Артаньян оказался не в состоянии. Он достаточно хорошо знал, что король, вызывая его, делает это потому, что нуждается в нем; он знал, что Людовик XIV испытывает крайнюю необходимость в беседе с глазу на глаз с тем, кого знание столь важной государственной тайны поставило в один ряд с наиболее могущественными вельможами королевства. Но установить в точности, что именно побудило короля к этому шагу, он все же не мог.
Мушкетер не в меньшей степени понимал, какая причина заставила несчастного Филиппа открыть, кто он такой и что он королевского рода. Филипп, навсегда погребенный под своею железною маской, удаленный в края, где люди, казалось, были рабами стихий; Филипп, лишенный даже общества д’Артаньяна, относившегося к нему предупредительно и с почтительностью; понимая, что в этом мире на его долю остаются лишь призрачные мечты и страдания, да еще отчаяние, начинавшее жестоко мучить его, — излился в жалобах и стенаниях, рассчитывая, что если он откроет свою ужасную тайну, то, быть может, явится мститель, который вступится за него.
Вспоминая о том, что он едва не убил своих ближайших друзей, о судьбе, столь причудливым образом столкнувшей Атоса с государственной тайной, о прощании с бедным Раулем, о смутном будущем, которое его ожидает и поведет к ужасной и неминуемой гибели, д’Артаньян мало-помалу возвратился к своим печальным предчувствиям, и даже быстрая скачка не могла отвлечь его, как бывало, от этих грустных мыслей.
Потом д’Артаньян перешел к думам о Портосе и Арамисе, объявленным вне закона. Он видел их беглецами, которых травят, словно дичь, окончательно разоренными, их, упорно созидавших себе состояние, а теперь вынужденных потерять все до гроша. И поскольку король вызывал его, исполнителя своей воли, еще не остыв от гнева и пылая жаждой мщения, д’Артаньян содрогался при мысли о том, что его, быть может, ждет поручение, которое заставит кровоточить его сердце.
Порой, когда дорога шла в гору и запыхавшаяся лошадь, раздувая ноздри и подбирая бока, переходила на шаг, д’Артаньян, располагая большей возможностью сосредоточиться, принимался думать о поразительном гении Арамиса, гении хитрости и интриги, воспитанном Фрондой и гражданской войной. Солдат, священник и дипломат, любезный, жадный и хитрый, Арамис никогда в своей жизни не творил ничего хорошего без того, чтобы не смотреть на это хорошее как на ступеньку, которая поможет ему подняться еще выше. Благородный ум, благородное, хотя, быть может, и не безупречное сердце, Арамис творил зло лишь затем, чтобы добавить себе еще чуточку блеска. В конце своего жизненного пути, в момент, когда он достиг, казалось, поставленной цели, он сделал так же, как знаменитый Фиеско, свой ложный шаг на палубе корабля и погиб в морской пучине.
Но Портос, этот добряк и простак Портос! Увидеть Портоса в позоре, Мушкетона — без золотых галунов, быть может, запертым в тюрьму; увидеть, как Пьерфон, Брасье будут сровнены с землей, как будут осквернены их чудесные мачтовые леса, — вероятность такого исхода также причиняла терзания д’Артаньяну, и, всякий раз, как его поражала какая-нибудь тягостная мысль этого рода, он вздрагивал, как вздрагивал его конь, когда ощущал укус слепня, двигаясь под сводами густого леса.
Умный человек никогда не томится, если тело его преодолевает усталость; здоровый человек никогда не находит жизнь тяжелой, если ум его чем-нибудь занят. Так д’Артаньян, все время в седле, все время предаваясь своим размышлениям, добрался до Парижа свежий и бодрый, точно атлет, подготовивший себя к состязанию.
Король так скоро не ждал его и только что уехал охотиться куда-то к Мёдону. Д’Артаньян, вместо того чтобы пуститься вдогонку, как он поступил бы в прежние времена, велел стащить с себя сапоги, разделся и вымылся, отложив свидание с королем до приезда его величества, усталого и запыленного. В течение пяти часов ожидания он, как говорится, принюхивался к дворцовому воздуху и запасался надежной броней против всех неожиданностей неприятного свойства.
Он узнал последние новости: уже две недели король неизменно мрачен, королева-мать больна и крайне подавлена, принц, брат короля, стал набожным, принцесса Генриетта очень расстроена, а де Гиш отправился в одно из своих поместий.
Еще он узнал, что Кольбер сияет, а Фуке каждый день советуется о своем здоровье с новым врачом, но болезнь его, однако, не из числа тех, которые исцеляют врачи, и она может уступить лишь политическому врачу, если можно так выразиться.
Король, как сказали д’Артаньяну, был чрезвычайно любезен с Фуке и ни на шаг не отпускал его от себя; но суперинтендант, пораженный в самое сердце, подобно дереву, в котором завелся червь, погибал, несмотря на королевские милости, это животворное солнце придворных деревьев.
Д’Артаньян также узнал, что король больше не может прожить ни минуты без Лавальер и что если он не берет ее с собой на охоту, то по нескольку раз в день сочиняет для нее письма, и уже не в стихах, но, что гораздо хуже, чистейшею прозой, и притом на многих страницах.
Вот почему случалось, что "первый в мире король", как выражались поэты, его современники, сходил "с несравненным пылом" с коня и, приложив лист бумаги на шляпу, исписывал его нежными фразами, которые де Сент-Эньян, его несменяемый адъютант, отвозил Лавальер, рискуя загнать лошадей.
А в это время фазаны и лани, за которыми никто не охотился, разлетались и разбегались в разные стороны, и искусство охоты при королевском дворце Франции рисковало совсем захиреть.
Д’Артаньян вспомнил о просьбе бедняжки Рауля и о том безнадежном письме, которое он написал женщине, жившей в вечных надеждах. Так как капитан любил философствовать, он решил воспользоваться отсутствием короля, чтобы побеседовать несколько минут с Лавальер.
Это оказалось делом весьма простым: пока король был на охоте, Луиза прогуливалась в обществе нескольких дам по одной из галерей Пале-Рояля, как раз там, где капитану мушкетеров нужно было проверить охрану. Д’Артаньян был убежден, что, если ему удастся завести с Луизой разговор о Рауле, у него будет повод написать бедному изгнаннику что-нибудь приятное его сердцу, а он знал, что надежда или хотя бы слова утешения в том состоянии, в каком находился Рауль, были бы солнцем, были бы жизнью для двух людей, столь дорогих нашему капитану.
Итак, он направился прямо туда, где рассчитывал встретить Лавальер. Он нашел ее в многолюдном обществе. При всем том, что она была одинока, ей расточали столько же, как королеве, если только не больше, знаков внимания, которыми так гордилась принцесса Генриетта в те времена, когда король не отрывал от нее своих взоров и побуждал тем самым и придворных не сводить с нее глаз.
Д’Артаньян, хотя и не был дамским угодником, все же встречал со стороны женщин лишь ласковый и любезный прием; он был учтив, как подобает настоящему храбрецу, и его страшная репутация доставляла ему дружбу мужчин и восхищение женщин.
Увидев капитана, придворные дамы засыпали его приветствиями и вопросами. Началось с вопросов: где он был, куда ездил, почему так давно не гарцевал на своем чудесном коне под балконом его величества, вызывая восторг любопытных?
Д’Артаньян ответил, что только что возвратился из страны апельсинов. Дамы рассмеялись. В те времена путешествовали все, но путешествие за сто льё нередко бывало предприятием, которое оканчивалось смертью.
— Из страны апельсинов? — повторила мадемуазель де Тоне-Шарант. — Из Испании?
— Нет, не то, — сказал д’Артаньян.
— С Мальты? — вставила Монтале.
— Честное слово, сударыня, вы приближаетесь.
— С какого-нибудь острова? — спросила Лавальер.
— Сударыня, не хочу вас дольше томить, я приехал из тех краев, откуда в настоящий момент господин де Бофор грузится на суда, чтобы перебраться в Алжир.
— Вы видели армию? И флот? — поинтересовалось несколько воинственных дам.
— Все видел.
— Есть ли там наши друзья? — задала вопрос мадемуазель де Тоне-Шарант холодным, но рассчитанным на привлечение общего внимания тоном.
— Да, — отвечал д’Артаньян, — там де Ла Гилотьер, де Муши, де Бражелон.
Лавальер побледнела.
— Господин Бражелон? — воскликнула коварная Атенаис. — Как! Он отправился на войну?..
Монтале наступила ей на ногу, но это никак не подействовало.
— Знаете ли вы мою мысль? — продолжала она безжалостно. — Мне кажется, что мужчины, уехавшие на эту войну, — незадачливые влюбленные, ищущие у черных женщин утешения от жестокостей белых.
Некоторые дамы весело рассмеялись; Лавальер начинала терять присутствие духа; Монтале кашляла так, что могла бы разбудить мертвого.
— Сударыня, — перебил д’Артаньян, — вы напрасно думаете, что женщины в Джиджелли черные. Они не черные и не белые, они желтые.
— Желтые?
— О, не думайте, что это так уж плохо; я никогда не видел более красивого цвета кожи в сочетании с черными глазами и коралловыми губами.
— Тем лучше для господина де Бражелона, — выразительно проговорила мадемуазель де Тоне-Шарант. — Он там излечится, бедный малый.
После этих слов воцарилось молчание.
Д’Артаньян подумал, что женщины, эти нежные горлинки, обращаются друг с другом, пожалуй, более жестоко, чем тигры или медведи.
Для Атенаис было, однако, мало заставить побледнеть Лавальер; ей хотелось, чтобы Луиза вдобавок еще и покраснела.
Она снова заговорила:
— Знаете, Луиза, на вашей совести теперь тяжкий грех!
— Какой грех, мадемуазель? — пролепетала несчастная, тщетно пытаясь найти опору среди окружающих.
— Да ведь вы были обручены с этим молодым человеком, он любил вас всем сердцем, а вы отвергли его.
— Это обязанность всякой порядочной женщины, — вставила Монтале поучающим тоном. — Когда знаешь, что не можешь составить счастье того, кто тебя любит, лучше отвергнуть его.
Луиза не знала, благодарить ли ей за такую защиту или негодовать.
— Отвергнуть! Отвергнуть! Все это превосходно, — заметила Атенаис. — Но не в этом грех мадемуазель Лавальер. Настоящий грех, в котором она может себя упрекнуть, заключается в том, что это она послала на войну бедного Бражелона — на войну, где его могут убить.
Луиза провела рукой по своему холодному как лед лбу.
— И если он умрет, — продолжала безжалостная Атенаис, — это будет означать, что это вы, Луиза, убили его; вот в этом и заключается грех, о котором я говорила.
Луиза, едва держась на ногах, подошла к капитану мушкетеров, чтобы взять его под руку; лицо его выдавало непривычное для него волнение.
— Вам надо было о чем-то поговорить со мною, господин д’Артаньян, — начала она прерывающимся от гнева и страдания голосом. — Что вы хотели сказать?
Д’Артаньян, взяв Лавальер под руку, направился с ней по галерее. Когда они оказались достаточно далеко от других, он ответил:
— То, что я собирался сказать вам, только что высказала мадемуазель де Тоне-Шарант, быть может, грубо, но с исчерпывающей полнотой.
Луиза едва слышно вскрикнула и, изнемогая от этой новой раны, кинулась прочь, как бедная, пораженная насмерть птичка, ищущая тени в густом кустарнике, чтобы там умереть. Она исчезла в одной из дверей в тот самый момент, когда король появился в другой.
Первый взгляд короля был направлен на пустое кресло его возлюбленной, и, не найдя нигде Лавальер, король нахмурился, но в то же мгновение он увидел д’Артаньяна, который отвешивал ему низкий поклон.
— Ах, сударь, — сказал Людовик, — вы проявили истинное усердие, и я вами весьма доволен.
Это было высшее проявление королевского удовольствия. Было немало таких, кто дал бы себя убить, лишь бы заслужить эти слова короля.
Придворные дамы и кавалеры, почтительно окружившие короля при его входе, расступились, заметив, что он желает остаться наедине с капитаном мушкетеров.
Король направился к выходу и увел д’Артаньяна из залы, после того как еще раз поискал глазами мадемуазель Лавальер, не понимая причины ее отсутствия.
Оказавшись вдали от любопытных ушей, он спросил:
— Итак, господин д’Артаньян, узник?..
— В тюрьме, ваше величество.
— Что он дорогою говорил?
— Ничего, ваше величество.
— Что он делал?
— Был момент, когда рыбак, в лодке которого я переправлялся на Сент-Маргерит, взбунтовался и сделал попытку убить меня. Пленник… помог мне защититься, вместо того чтоб бежать.
Король побледнел и сказал:
— Довольно.
Д’Артаньян поклонился.
Людовик прошел взад и вперед по своему кабинету.
— Вы были в Антибе, когда туда прибыл господин де Бофор?
— Нет, ваше величество, я уезжал, когда туда прибыл герцог.
— А!
Новое молчание.
— Что же вы там повидали?
— Многих людей, — холодно ответил д’Артаьян. Король увидел, что д’Артаньян не расположен поддерживать разговор.
— Я вас вызвал, господин капитан, чтобы отправить в Нант. Вам предстоит подготовить там для меня резиденцию.
— В Нант? В Бретань? Ваше величество предполагает совершить столь далекое путешествие?
— Да, там собираются штаты, — отвечал король. — У меня есть к ним два представления; я хочу лично присутствовать на их заседаниях.
— Когда я должен отправиться? — спросил капитан.
— Сегодня к вечеру… завтра… завтра вечером; ведь вы нуждаетесь в отдыхе.
— Я уже отдохнул, ваше величество.
— Превосходно… В таком случае между сегодняшним вечером и завтрашним утром, по вашему усмотрению.
Д’Артаньян поклонился, как бы прощаясь; но, заметив, что король чем-то взволнован, он сделал два шага вперед и поинтересовался:
— Король берет с собой весь двор?
— Конечно.
— Значит, королю, без сомнения, понадобятся мушкетеры?
И проницательный взгляд капитана заставил Людовика опустить глаза и смутиться.
— Возьмите одну бригаду.
— Это все?.. У вашего величества нет больше никаких приказаний?
— Нет… Ах нет… есть!
— Слушаю вас.
— В нантском замке, который распланирован весьма неудачно, возьмите за правило ставить мушкетеров у дверей каждого из главнейших сановников, которых я увожу с собой.
— Главнейших?
— Да.
— Например, у двери господина де Лиона?
— Да.
— Господина де Летелье?
— Да.
— Господина де Бриенна?
— Да.
— И господина суперинтенданта?
— Конечно.
— Отлично, ваше величество. Завтра я уже буду в пути.
— Еще одно слово, господин д’Артаньян. В Нанте вы встретитесь с капитаном гвардейцев, герцогом де Жевром. Проследите за тем, чтобы ваши мушкетеры были расквартированы до прихода гвардейцев. Первому пришедшему — преимущество.
— Хорошо, ваше величество.
— А если господин де Жевр будет расспрашивать вас?
— Что вы, ваше величество! Разве господин де Жевр станет меня расспрашивать?
И, лихо повернувшись на каблуках, мушкетер исчез.
"В Нант! — сказал он себе, спускаясь по лестнице. — Почему он не решился сказать, что прямиком на Бель-Иль?"
Когда он подходил к воротам, его нагнал служащий де Бриенна.
— Господин д’Артаньян, — начал он, — простите…
— В чем дело, господин Арист?
— Здесь чек, который король велел мне отдать в ваши руки.
— На вашу кассу?
— Нет, сударь, на кассу господина Фуке.
Удивленный д’Артаньян прочел написанный рукой короля чек на двести пистолей.
"Вот так дела! — подумал он, после того как вежливо поблагодарил доверенное лицо де Бриенна. — Значит, Фуке заставят к тому же оплатить эту поездку. Черт возьми! Это отдает чистокровным Людовиком Одиннадцатым. Почему бы не выписать чек на кассу Кольбера? Тот с такой радостью оплатил бы его!"
И д’Артаньян, верный своему принципу сразу же получать деньги по чекам, отправился к Фуке за своими двумястами пистолями.
XVI
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Суперинтендант, видимо, был предупрежден об отъезде в Нант, так как давал прощальный обед своим ближайшим друзьям. Во всем доме сверху донизу усердие слуг, носившихся с блюдами, и лихорадочное щелканье на счетах свидетельствовали о близком перевороте в кассе и в кухне.
Д’Артаньян с чеком в руках явился в контору, но ему ответили, что касса заперта и уже слишком поздно, так что сегодня ему денег не выдадут.
Он ответил на это словами:
— Приказ короля.
Несколько озадаченный служащий заявил, что это причина, достойная уважения, но обычаи дома также заслуживают уважения, и попросил его зайти за деньгами на следующий день. Д’Артаньян потребовал, чтобы его проводили к Фуке. Служащий ответил на это, что г-н сунеринтендант не вмешивается в подобные мелочи, и попытался закрыть дверь перед носом у д’Артаньяна.
Предвидя это, капитан поставил ногу между дверью и дверным косяком, так что замок не захлопнулся, и служащий снова оказался лицом к лицу со своим собеседником. Ввиду этого он изменил тон и произнес с наигранной вежливостью:
— Если, сударь, вы желаете говорить с господином суперинтендантом, будьте добры пройти в приемную. Здесь только контора, и монсеньер никогда сюда не приходит.
— Вот и отлично! А где же приемная?
— На той стороне двора, — ответил служащий в восторге от того, что избавился от посетителя.
Д’Артаньян прошел через двор и оказался среди лакеев.
— Монсеньер в такое время не принимает, — ответил на его вопрос наглого вида малый, несший на позолоченном блюде трех фазанов и двенадцать перепелов.
— Скажите ему, — попросил капитан, остановив лакея за край блюда, — что я д’Артаньян, капитан-лейтенант мушкетеров его величества.
Лакей вскрикнул от удивления и исчез.
Д’Артаньян медленно направился вслед за ним. Он вошел в приемную как раз в то мгновение, когда слегка побледневший Пелисон выходил из столовой, чтобы узнать, в чем дело.
Д’Артаньян улыбнулся и, желая успокоить его, сказал:
— Ничего неприятного, господин Пелисон; мне просто нужно получить деньги по чеку, и притом незначительному.
— Ах, — вздохнул с облегчением этот преданный друг Фуке.
И, взяв капитана за руку, он потянул его за собой и увлек в залу, где изрядное число близких друзей окружало суперинтенданта, сидевшего посередине в большом мягком кресле.
Там находились эпикурейцы, те самые, что совсем недавно в дни празднества в Во делали честь дому, уму и богатству Фуке. Веселые и заботливые друзья, они в преобладающем большинстве не бежали от своего покровителя при приближении бури и, несмотря на угрозы с неба, несмотря на землетрясение, были здесь, улыбающиеся, предупредительные и преданные в беде, как были преданы в счастье.
Налево от суперинтенданта сидела г-жа де Бельер, направо— г-жа Фуке. Как бы бросая вызов законам света и пренебрегая обыденными приличиями, два ангела-хранителя этого человека сошлись возле него, чтобы поддержать его, когда разразится гроза, совместными усилиями своих тесно сплетенных рук. Г-жа да Бельер бледнела, трепетала и была полна почтительности к г-же Фуке, которая, касаясь своей рукой руки мужа, с тревогой смотрела на дверь, в которую Пелисон должен был ввести д’Артаньяна.
Вошел капитан. Сначала он был только самой учтивостью, но, уловив своим безошибочным взглядом выражения лиц и угадав, какие чувства владеют собравшимися, он преисполнился восхищения.
Фуке, поднимаясь с кресла, сказал:
— Простите меня, господин д’Артаньян, если я принимаю вас не совсем так, как подобает встречать приходящих от имени короля.
Он произнес эти слова тоном печальной твердости, испугавшим его друзей.
— Монсеньер, — ответил на эти слова д’Артаньян, — если я и прихожу от имени короля, то лишь затем, чтобы получить двести пистолей по королевскому чеку.
Лица всех прояснились; лицо Фуке осталось, однако, таким же мрачным.
— Сударь, вы, быть может, также едете в Нант? — спросил он капитана.
— Я не знаю, куда я еду, монсеньер, — улыбнулся д’Артаньян.
— Но, господин капитан, — сказала успокоившаяся г-жа Фуке, — ведь вы уезжаете не так скоро, чтобы не оказать нам чести отужинать с нами?
— Сударыня, это было бы для меня великою честью, но я до того спешу, что, как видите, позволил себе вторгнуться к вам и нарушить ваш ужин, торопясь получить по этой записке причитающиеся мне деньги.
— И ответ на нее вы получите золотом, — сказал Фуке, подзывая к себе дворецкого, который тотчас же ушел с чеком, врученным ему д’Артаньяном.
— О, я нисколько не беспокоился об уплате; ваша контора— надежнейший банк.
На побледневшем лице Фуке обозначилась мучительная улыбка.
— Вам нездоровится? — спросила г-жа де Бельер.
— Припадок? — повернулась к нему г-жа Фуке.
— Нет, ничего, благодарю вас, — ответил суперинтендант.
— Припадок? — переспросил д’Артаньян. — Разве вы больны, монсеньер?
— У меня перемежающаяся лихорадка, которой я заболел после празднества в Во.
— Ночная свежесть где-нибудь в гротах?
— Нет, нет; просто волнение.
— Вы вложили в прием короля слишком много души, — спокойно сказал Лафонтен, не подозревая, что произносит кощунственные слова.
— Принимая у себя короля, невозможно вложить слишком много души, ее всегда мало, — тихо заметил Фуке своему поэту.
— Господин Лафонтен хотел сказать: слишком много жара, — перебил д’Артаньян искренним и приветливым тоном. — Ведь, право, монсеньер, никогда и нигде гостеприимство не было таким безграничным, как в Во.
На лице г-жи Фуке можно было явственно прочитать, что, хотя Фуке и поступил по отношению к королю выше всяких похвал, король, однако, не отплатил тем же своему министру.
Но д’Артаньян знал ужасную тайну. Из присутствующих ее знали лишь он да Фуке; но один из них не имел мужества выразить другому свое сочувствие, а второй не смел обвинять.
Когда капитану принесли двести пистолей и он собрался уже уходить, Фуке встал, взял стакан и велел подать другой д’Артаньяну.
— Сударь, — произнес он, — за здоровье его величества, что бы ни случилось!
— И за ваше здоровье, монсеньер, что бы ни случилось! — сказал д’Артаньян и выпил.
После этих зловещих слов он отвесил общий поклон и вышел. Когда он прощался, все встали, и в наступившей тишине, пока он спускался по лестнице, были слышны его шаги и звон его шпор.
— Был момент, когда я подумал, что он явился за мной, а не за моими деньгами, — сказал Фуке, стараясь изобразить улыбку.
— За вами! — вскричали его друзья. — Но почему, Господи Боже?
— Не будем заблуждаться, дорогие мои друзья, я не хочу сравнивать самого смиренного из земных грешников с Богом, которому мы поклоняемся, но вы, разумеется, помните, что однажды он созвал своих близких друзей на трапезу, и эта трапеза называется тайною вечерей. Это был прощальный обед, совсем как сегодня у нас.
Со всех сторон послышались громкие возмущенные возгласы.
— Закройте двери, — попросил Фуке.
Лакеи исчезли.
— Друзья мои, — продолжал Фуке, понижая голос, — кем я был прежде и кто я теперь? Подумайте и ответьте. Такой человек, как я, падает уже потому, что перестал подниматься; что же сказать, когда он действительно падает? У меня нет больше ни денег, ни кредита, у меня лишь могущественные враги и драгоценные, но немощные друзья.
— Раз вы говорите с такой откровенностью, — сказал Пелисон, — то и нам тоже подобает быть откровенными. Да, вы погибли, да вы торопитесь навстречу вашему разорению, так остановитесь же поскорее! И прежде всего — сколько денег у вас осталось?
— Семьсот тысяч ливров, — ответил суперинтендант.
— Хлеб насущный, — прошептала г-жа Фуке.
— Подставы, подставы! — вскричал Пелисон. — И бегите!
— Куда?
— В Швейцарию, в Савойю, но уезжайте!
— Если монсеньер уедет из Франции, — вздохнула г-жа де Бельер, — начнут говорить, что он чувствует за собой вину и испугался.
— Скажут больше, скажут, что я захватил с собою двадцать миллионов.
— Мы начнем писать мемуары, чтоб обелить вас в глазах всего света, — попробовал пошутить Лафонтен, — но мой совет: бегите.
— Я останусь, — сказал Фуке, — разве я в чем-нибудь виноват?
— У вас есть Бель-Иль! — крикнул аббат Фуке.
— И я, естественно, отправлюсь туда по дороге в Нант, — ответил Фуке. — Поэтому терпение, терпение и терпение.
— Но до Нанта пройдет еще столько времени! — сказала г-жа Фуке.
— Да, я знаю, — ответил суперинтендант, — но тут ничего не поделаешь! Король зове ^ меня на открытие штатов. Мне отлично известно, что он это делает, имея в виду погубить меня; но отказаться ехать — значит выказать свое беспокойство.
— Отлично, я нашел средство устроить все это! — сказал Пелисон. — Вы поедете в Нант.
Фуке удивленно взглянул на него.
— Но с вашими друзьями, но в вашей карете до Орлеана и на вашем судне до Нанта; вы будете готовы защищать себя силой оружия, если на вас нападут, и бежать, если над вами нависнет угроза: одним словом, на всякий случай вы возьмете с собой все ваши деньги, и ваше бегство будет вместе с тем исполнением королевской воли; потом, добравшись до моря, вы переправитесь, когда захотите, к себе на Бель-Иль, а с Бель-Иля вы умчитесь куда вам будет угодно, как орел, взмывающий в просторы бескрайнего неба, когда его вынуждают покинуть гнездо.
Общее одобрение встретило слова Пелисона.
— Да, сделайте это, — сказал г-жа Фуке своему мужу.
— Сделайте так, — попросила г-жа де Бельер.
— Правильно, правильно! — вскричали все остальные.
— Так и будет, — ответил Фуке.
— Сегодня же!
— Через час!
— Сию же минуту!
— С семьюстами тысячами ливров вы можете восстановить свое состояние, — сказал аббат Фуке. — Кто помешает вам вооружить на Бель-Иле корсаров?
— И если понадобится, мы поплывем открывать новые земли, — добавил Лафонтен, опьяненный энтузиазмом и фантастическими проектами.
Стук в дверь перебил это соревнование радости и надежд.
— Курьер короля! — крикнул церемониймейстер.
Воцарилось глубокое молчание, будто весть, которую привез этот курьер, была ответом на только что родившиеся проекты. Все взоры обратились на хозяина, у которого лоб покрылся испариной и который действительно был в этот момент в лихорадке.
Чтобы принять курьера его величества, Фуке прошел к себе в кабинет. В комнатах и во всех службах была такая нерушимая тишина, что явственно прозвучал голос Фуке:
— Хорошо, сударь, будет исполнено.
Через минуту Фуке вызвал к себе Гурвиля, который пересек галерею, сопровождаемый напряженными взглядами всех.
Наконец Фуке снова пошел к гостям; лицо его, до этого бледное и удрученное, неузнаваемо изменилось: из бледного оно теперь стало серым, из удрученного — искаженным. Живой призрак, он двигался с вытянутыми вперед руками, иссохшим ртом, как тень, явившаяся навестить тех, кто некогда был его друзьями. Увидев его, все вскочили, вскрикнули, подбежали к нему.
Суперинтендант, смотря в глаза Пелисону, оперся на плечо г-жи Фуке и пожал ледяную руку маркизы де Бельер.
— Что случилось, Бог мой? — спросили его.
Фуке раскрыл судорожно сжатые влажные пальцы, из них выпала бумага, которую подхватил испуганный Пелисон.
И он прочел следующие строки, написанные рукой короля:
"Дорогой и любезный г-н Фуке, выдайте в счет наших денег, находящихся в Вашем распоряжении, семьсот тысяч ливров, которые нам нужны сегодня же в связи с нашим отъездом.
Зная, что Ваше здоровье расстроено, мы молим Бога о том, чтобы он восстановил Ваши силы и имел бы о Вас свое святое и бесценное попечение.
Людовик.
Это письмо служит распиской".
Шепот ужаса пробежал по зале.
— Ну! — вскричал Пелисон. — Теперь это письмо у вас!
— Да, эта расписка теперь у меня.
— Что же вы будете делать?
— Ничего, раз у меня расписка.
— Но…
— Раз я принял ее, Пелисон, это значит, что я заплатил, — сказал суперинтендант с простотой, заставившей всех присутствующих ощутить, что у них сжалось сердце.
— Вы заплатили? — вскричала в отчаянии г-жа Фуке. — Выходит, что вы погибли!
— Без лишних слов! — перебил Пелисон. — После денег потребуют жизнь! На коня, монсеньер, на коня!
— Оставить нас! — разом вскричали обе женщины, не помня себя от горя.
— Спасая себя, монсеньер, вы спасете всех нас! На коня!
— Но ведь он не держится на ногах! Смотрите.
— Ну, если мы начнем размышлять… — начал бестрепетный Пелисон.
— Он прав, — прошептал Фуке.
— Монсеньер! Монсеньер! — крикнул Гурвиль, торопливо взбегая по лестнице. — Монсеньер!
— Что еще?
— Я сопровождал, как вы знаете, курьера, отвозившего королю деньги.
— Да.
— И, прибыв в Пале-Рояль, я видел…
— Подожди немного, мой бедный друг, ты задыхаешься.
— Что же вы видели? — нетерпеливо спрашивали со всех сторон.
— Я видел, как мушкетеры садились в седло, — сказал Гурвиль.
— Вот видите, видите? Можно ли терять хоть мгновение?
Госпожа Фуке кинулась наверх, требуя лошадей. Г-жа де Бельер, устремившись за ней, обняла ее и сказала:
— Ради его спасения, не проявляйте, не обнаруживайте тревоги, сударыня.
Пелисон побежал распорядиться, чтобы запрягали.
А в это время Гурвиль собирал в свою шляпу все то золото и серебро, которое испуганные и плачущие друзья смогли обнаружить в своих пустых карманах, последний дар, благоговейную милостыню, подаваемую бедняками несчастному.
Суперинтендант, которого наполовину несли, наполовину влекли его преданные друзья, сел наконец в карету. Пелисон поддерживал г-жу Фуке, которая потеряла сознание.
Госпожа де Бельер оказалась более сильной и была вознаграждена за это сторицей: последний поцелуй Фуке был предназначен ей.
Полисон легко объяснил столь поспешный отъезд королевским приказом, призывавшим министров в Нант.
Назад: V ЛЖЕКОРОЛЬ
Дальше: XVII В КАРЕТЕ КОЛЬБЕРА

