Книга: А.Дюма. Собрание сочинений. Том 11.
Назад: Александр Дюма Виконт де Бражелон, или Ещё десять лет спустя
Дальше: V КАК ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН НАПИСАЛ СВОЮ ПЕРВУЮ СКАЗКУ
Часть пятая
I
ГЛАВА, В КОТОРОЙ СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНЫМ, ЧТО ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ СТОРГОВАТЬСЯ С ОДНИМ, ТО НИЧТО НЕ МЕШАЕТ СТОРГОВАТЬСЯ С ДРУГИМ
Арамис угадал: выйдя из дома на площади Бодуайе, герцогиня де Шеврез приказала ехать домой.
Она, несомненно, боялась, что за нею следят, и хотела таким способом отвести от себя подозрения. Однако, возвратившись к себе и удостоверившись, что никто за нею не следит, она велела открыть калитку в саду, выходившую в переулок, и отправилась на улицу Круа-де-Пти-Шан, где жил Кольбер.
Мы сказали, что наступил вечер, — правильнее сказать, наступила ночь, и притом непроглядная. Притихший Париж снисходительно обволакивал темнотой и знатную герцогиню, плетущую свою политическую интригу, и безвестную горожанку, которая, запоздав после ужина в городе, под руку со своим любовником возвращалась под супружеский кров самой длинной дорогой. Г-жа де Шеврез достаточно привыкла к тому, что можно назвать «ночною политикой», и ей было отлично известно, что министры никогда не запираются даже у себя дома от молодых и прелестных женщин, страшащихся пыли служебных канцелярий, а также от пожилых и многоопытных дам, страшащихся нескромного эха министерств.
У подъезда герцогиню встретил лакей, и, по правде сказать, встретил довольно плохо. Рассмотрев посетительницу, он позволил себе даже заметить, что в такой час и в таком возрасте не пристало отрывать г-на Кольбера от трудов, которым он предается перед отходом ко сну.
Но герцогиня де Шеврез, не выказав гнева, написала на листке, вырванном из записной книжки, свое имя — громкое имя, не раз неприятно поражавшее слух Людовика XIII и великого кардинала.
Она написала это имя крупным и небрежным почерком, обычным тогда среди знати, сложила бумагу особым, ей одной свойственным образом и вручила ее лакею без единого слова, но с таким величавым видом, что этот прожженный плут, умевший чуять господ на расстоянии, узнал в ней знатную даму, опустил голову и побежал с докладом к Кольберу.
Можно не добавлять, что, вскрыв записку, министр не удержался от легкого восклицания, и этого восклицания лакею было достаточно, чтобы понять, насколько серьезно следует отнестись к таинственной гостье: он пустился бегом за герцогиней.
Она с некоторым трудом поднялась на второй этаж красивого нового дома, задержалась на мгновение на площадке, чтобы отдышаться, и вошла к Кольберу, который сам распахнул перед ней двери.
Герцогиня остановилась на пороге, чтобы получше рассмотреть того, с кем ей предстояло вести дело. Тяжелая, крупная голова, густые брови, неприветливое лицо, как бы придавленное скуфейкой, похожей на те, какие носят священники, — все это с первого взгляда внушило ей мысль, что переговоры не составят труда и что вместе с тем спор о той или иной части будет лишен всякого интереса, ибо такая грубая натура должна быть, по-видимому, малочувствительной к утонченной мести и к ненасытному честолюбию.
Но когда герцогиня пригляделась внимательнее к его маленьким черным, пронизывающим насквозь глазам, к продольным складкам на его суровом выпуклом лбу, к едва приметному подергиванию губ, которые лишь на крайне поверхностных наблюдателей производили впечатление добродушия, она переменила свое мнение о Кольбере и подумала: «Вот тот, кого я искала».
— Чему обязан я честью вашего посещения, сударыня? — спросил интендант финансов.
— Причина всему — нужда, сударь, нужда, которую я имею в вас, а вы — во мне.
— Счастлив, сударыня, выслушать первую часть вашей фразы; что же до второй ее части…
Госпожа де Шеврез села в кресло, которое ей пододвинул Кольбер.
— Господин Кольбер, ведь вы интендант финансов?
— Да, сударыня.
— И вы хотели бы стать суперинтендантом, не так ли?
— Сударыня!
— Не отрицайте: это затянет наш разговор и ни к чему больше не поведет; это бессмысленно.
— Но, сударыня, несмотря на мое искреннее желание доставить вам удовольствие, несмотря на учтивость, которую я обязан проявлять к даме вашего положения, ничто не могло бы заставить меня признаться, будто я стараюсь сесть на место моего начальника.
— Я вовсе не говорила о том, что вы хотите «сесть на место своего начальника», сударь. Разве что я нечаянно произнесла эти слова. Не думаю, впрочем. Слово «заменить» звучит менее жестко и грамматически здесь уместнее, как говаривал господин Вуатюр. Итак, я утверждаю, что вы хотели бы заменить господина Фуке.
— Но фортуна господина Фуке, сударыня, устоит перед любым испытанием. Суперинтендант — это Колосс Родосский нашего века: корабли проплывают у него под ногами, но они даже не задевают его.
— Я бы тоже охотно воспользовалась этим сравнением. Да, господин Фуке играет роль Колосса Родосского; но мне помнится, я слыхала, как рассказывал господин Конрар… кажется, академик… что, когда Колосс Родосский упал, купец, который свалил его… простой купец, господин Кольбер… нагрузил его обломками четыре сотни верблюдов. Купец! А ведь ему далеко до интенданта финансов.
— Сударыня, могу вас уверить, что я никогда не свалю господина Фуке.
— Ну, господин Кольбер, раз вы упорствуете и продолжаете изображать чувствительность, как будто не зная, что меня зовут госпожой де Шеврез и что я стара, иначе говоря, что вы имеете дело с женщиной, которая была политической противницей кардинала Ришелье и у которой не остается времени, чтобы терять его попусту, — раз вы допускаете подобную неосмотрительность, я найду людей более проницательных и более заинтересованных в том, чтобы добиться удачи.
— В чем же, сударыня, в чем?
— Вы заставляете меня быть очень низкого мнения о нынешних людях, сударь. Клянусь вам, если бы в мое время какая-нибудь женщина явилась к господину де Сен-Мару, который, впрочем, не был семи пядей во лбу, клянусь, если б она сказала о кардинале все то, что я только что сказала вам о господине Фуке, господин де Сен-Мар уже ковал бы железо.
— Но будьте немножко снисходительнее, сударыня.
— Значит, вы согласны заменить господина Фуке?
— Если король уволит господина Фуке, разумеется.
— Снова вы говорите лишнее. Ясно, что раз вы еще не добились его отставки, значит, вы не могли этого сделать. Поэтому я была бы слишком уж глупа, если б, идя сюда, не принесла с собою того, чего вам не хватает.
— Я в отчаянии, что вынужден упорно стоять на своем, — сказал Кольбер после молчания, которое дало возможность герцогине оценить всю его скрытность, — но я должен поставить вас в известность, сударыня, что вот уже добрых шесть лет на господина Фуке поступает донос за доносом, а положение суперинтенданта нисколько не поколеблено.
— Всему свое время, господин Кольбер; разоблачавшие господина Фуке не носили имени де Шеврез и не имели в своем распоряжении доказательств, равноценных шести письмам кардинала Мазарини, неопровержимо устанавливающим проступок, который я имею в виду.
— Правонарушение?
— Преступление, если это слово вам более по душе.
— Преступление? Совершенное господином Фуке?
— Вот именно… Странно, господин Кольбер, странно: у вас обычно такое холодное и непроницаемое лицо, а сейчас, я вижу, вы прямо сияете.
— Преступление?
— Я в восторге, что это произвело на вас впечатление.
— О, сударыня, ведь это слово заключает в себе столь многое!
— Оно заключает в себе грамоту о супер интендантстве для вас и приказ об изгнании или заключении в Бастилию господина Фуке.
— Простите меня, герцогиня: почти невозможно, чтобы господин Фуке подвергся изгнанию; арест, опала — это уж слишком!
— О, я знаю, что говорю, — холодно продолжала г-жа де Шеврез. — Я живу не так уж далеко от Парижа, чтобы не знать, что здесь творится. Король не любит господина Фуке и охотно погубит его, если ему дадут к этому повод.
— Надо, однако, чтобы повод был подобающим.
— Мой повод вполне подобающий. Поэтому-то я и оцениваю его в пятьсот тысяч ливров.
— Что это значит? — спросил Кольбер.
— Я хочу сказать, сударь, что, имея в руках этот повод, я передам его в ваши руки только в обмен на пятьсот тысяч ливров.
— Отлично, герцогиня; я понимаю. Но поскольку вы назначали продажную цену, ознакомьте меня с вашим товаром.
— О, это не составит труда; шесть писем кардинала Мазарини, как я сказала; автографы эти, конечно, не стоили б таких денег, если б они не устанавливали с полною очевидностью, что господин Фуке присвоил крупные казенные суммы.
— С полною очевидностью? — спросил Кольбер, и глаза его радостно заблистали.
— С полною очевидностью. Не хотите ли прочитать эти письма?
— Всей душой! Само собой, копии?
— Само собой, копии.
Герцогиня извлекла спрятанный у нее на груди небольшой сверток, слегка примятый бархатным корсажем.
— Читайте, — сказала она.
Кольбер жадно набросился на бумаги.
— Чудесно! — сказал он, закончив чтение.
— Достаточно ясно, не правда ли?
— Да, герцогиня, да; значит, кардинал Мазарини передал деньги господину Фуке, а господин Фуке оставил их у себя; но какие, собственно, деньги имеются тут в виду?
— В том-то и дело! Впрочем, если мы договоримся, я присоединю к этим шести еще седьмое письмо, которое окончательно осведомит вас обо всем.
Кольбер размышлял.
— А подлинники?
— Бесполезный вопрос. Это все равно, как если бы, господин Кольбер, я спросила у вас, будут ли полными или пустыми мешки с деньгами, которые вы мне дадите.
— Прекрасно, герцогиня.
— Значит, сделка заключена?
— Нет еще.
— Как же так?
— Есть одна вещь, о которой ни вы, ни я не подумали.
— Назовите ее.
— При всех обстоятельствах господина Фуке может погубить только процесс.
— Да.
— И публичный скандал.
— Да. Ну так что же?
— А то, что ни процесса, ни скандала не будет.
— Почему же?
— Потому, что речь идет о генеральном прокуроре парламента; потому, что у нас во Франции все, решительно все: администрация, армия, юстиция, торговля — все связано цепью взаимного благожелательства, которое зовется корпоративным духом. Поэтому, сударыня, парламент никогда не потерпит, чтобы его глава был отдан под суд. И если бы это случилось, даже по приказанию короля, парламент никогда не осудит своего генерального прокурора.
— По правде сказать, господин Кольбер, это меня не касается.
— Я знаю, сударыня. Но меня-то это, конечно, касается и снижает цену того, что вы принесли. К чему мне доказательства преступления, если оно не подлежит наказанию?
— Но если на Фуке падут подозрения, то и в этом случае он будет отстранен от обязанностей суперинтенданта.
— Велика важность! — воскликнул Кольбер, и его мрачное лицо как-то вдруг осветилось выражением ненависти и мести.
— Ах, господин Кольбер, простите меня, — заметила герцогиня, — я не знала, что вы столь впечатлительны. Хорошо, превосходно. Но раз вам мало того, что у меня есть, прекратим разговор.
— Нет, сударыня, продолжим его. Но поскольку цена товара упала, ограничьте и вы свои притязания.
— Вы торгуетесь?
— Это необходимо всякому, кто хочет честно платить.
— Сколько же вы предлагаете?
— Двести тысяч ливров.
Герцогиня рассмеялась ему в лицо, но затем она внезапно добавила:
— Подождите.
— Вы соглашаетесь?
— Нет, не совсем. Но у меня есть еще одна комбинация.
— Говорите.
— Вы даете мне триста тысяч ливров.
— Нет, нет!
— Соглашайтесь или нет, как угодно… И это не все.
— Еще что-нибудь? Вы становитесь невозможною, герцогиня!
— Вовсе нет, я больше не прошу у вас денег.
— Чего же вы хотите?
— Услуги. Вы знаете, что я всегда была нежно привязана к королеве.
— И…
— И… я хочу повидаться с ее величеством.
— С королевой?
— Да, господин Кольбер, с королевой, которая мне больше не друг, это верно, и уже давно мне не друг, но может снова сделаться другом, если мне предоставят соответствующую возможность.
— Ее величество, герцогиня, никого больше не принимает. Вам известно, что приступы ее болезни повторяются все чаще и чаще?
— Вот потому-то я и должна повидать королеву.
Представьте себе, что у нас во Фландрии заболевания подобного рода — вещь очень частая.
— Рак? Страшная, неизлечимая, роковая болезнь.
— Не верьте этому, господин Кольбер. Фламандский крестьянин — человек первобытный. У него не жена, а рабыня.
— Что же из этого?
— Пока он покуривает свою вечную трубку, жена работает: она черпает из колодца воду, она нагружает мула или осла, она таскает на себе тяжести. Так как она не жалеет себя, то постоянно наносит себе ушибы. К тому же ей частенько достаются побои. А рак происходит от телесного повреждения.
— Это верно.
— Фламандки, однако, не умирают от этого. Когда их страдания становятся им окончательно невмоготу, они находят лекарство. И бегинки в Брюгге изумительно лечат эту болезнь. У них есть целебные воды, настойки, втирания; они дают больной бутылку с водой и свечу и, продавая свои товары, приносят доход духовенству и вместе с тем служат Богу. Ее величество выздоровеет и поставит столько свечей, сколько найдет для себя подобающим. Вы видите, господин Кольбер, что помешать моему свиданию с королевой — это почти то же, что цареубийство.
— Герцогиня, вы слишком умная женщина, вы сбиваете меня с толку. Я догадываюсь, однако, что ваша великая любовь к королеве объясняется и какой-то личной выгодой, которую вы рассчитываете извлечь из свидания с нею.
— Разве я стремлюсь утаить это, господин Кольбер? Вы, кажется, сказали о какой-то выгоде? Знайте же, что я ищу не какую-то, а очень большую выгоду, и я вам докажу это в немногих словах. Если вы введете меня к ее величеству королеве, мне будет довольно тех трехсот тысяч, которые я потребовала у вас; если же вы мне в этом откажете, я оставляю у себя письма и отдаю их только в случае немедленной выплаты пятисот тысяч.
С этими словами герцогиня решительно встала, оставив Кольбера в неприятном раздумье. Продолжать торговаться было немыслимо: прекратить торг — значило потерять бесконечно много.
— Сударыня, — сказал он, — я буду иметь удовольствие выплатить вам сто тысяч экю.
— О! — воскликнула герцогиня.
— Но как я получу от вас подлинники?
— Самым что ни на есть простым способом, дорогой господин Кольбер… Кому вы достаточно доверяете?
Суровый финансист принялся беззвучно смеяться, и его широкие черные брови на желтом лбу поднимались и опускались, как крылья летучей мыши.
— Никому, — сказал он.
— Но вы, конечно, делаете исключение для себя самого?
— Что вы хотите этим сказать, герцогиня?
— Я хочу сказать, что, если бы вы взяли на себя труд отправиться вместе со мною туда, где находятся письма, они были бы вручены лично вам и вы могли бы пересчитать и проверить их.
— Это верно.
— Вам следует взять с собой сто тысяч экю, потому что и я также не верю никому, кроме себя.
Кольбер покраснел до бровей. Подобно всем тем, кто превосходит других в искусстве счета, он был честен до мелочности.
— Сударыня, — сказал он, — я возьму с собой обещанную сумму в виде двух чеков, по которым вы сможете получить ее в моей кассе. Удовлетворит ли вас такой способ расчета?
— Как жаль, что каждый из ваших чеков не стоит миллиона, господин интендант!.. Итак, я буду иметь честь указать вам дорогу.
— Позвольте распорядиться, чтоб заложили моих лошадей.
— Внизу меня ожидает карета.
Кольбер кашлянул в нерешительности. Ему вдруг представилось, что предложение герцогини — ловушка, что, быть может, у дверей его поджидают враги и что эта дама, предложившая продать ему свою тайну за сто тысяч экю, предложила ее за ту же сумму и г-ну Фуке.
Он так медлил, что герцогиня пристально посмотрела ему в глаза.
— Вы предпочитаете собственную карету?
— Признаться, да.
— Вы думаете, что я завлекаю вас в западню?
— Герцогиня, у вас капризный характер, а я, будучи человеком характера положительного, боюсь быть скомпрометированным какой-нибудь злой шуткой.
— Короче говоря, вы боитесь? Хорошо, поезжайте в своей карете, берите с собой столько лакеев, сколько вам будет угодно… Только подумайте: то, что мы делаем с вами наедине, известно лишь нам обоим, то, что увидит кто-нибудь третий, станет известно всему свету. В конце концов я не настаиваю; пусть моя карета едет следом за вашей, и я буду рада пересесть в вашу, чтобы отправиться к королеве.
— К королеве?
— А вы уже позабыли? Как! Столь существенное условие нашего договора уже предано вами забвению! Каким же пустяком оно было для вас! Господи Боже! Да если б я знала об этом, я спросила бы с вас вдвое больше.
— Герцогиня, я передумал. Я не поеду с вами.
— Правда?.. Почему?
— Потому что мое доверие к вам безгранично.
— Мне это лестно слышать от вас… Но как же я получу свои сто тысяч экю?
— Вот они.
Интендант нацарапал несколько слов на бумажке и отдал ее герцогине.
— Вам уплачено, — сказал он.
— Ваш жест красив, господин Кольбер, и я воздам вам за него тем же.
Произнося эти слова, она засмеялась. Смех госпожи де Шеврез был похож на зловещий шепот, и всякий, кто ощущает в своем сердце трепетание молодости, веры, любви— короче говоря, жизнь, предпочел бы услышать скорее стенания, чем это жалкое подобие смеха.
Герцогиня расстегнула корсаж и вынула небольшой сверток, перевязанный лентой огненного цвета. Крючки уступили порывистым движениям ее нервных рук, и глазам интенданта, заинтересованного этими странными приготовлениями, открылась бесстыдно обнаженная, покрасневшая грудь, натертая свертком. Герцогиня продолжала смеяться.
— Возьмите, — сказала она, — эти письма написаны самим кардиналом. Они ваши, и, кроме того, герцогиня де Шеврез соблаговолила раздеться пред вами, как если б вы были… но я не хочу называть имена, которые могли бы заставить вас возгордиться или приревновать. А теперь, господин Кольбер, — продолжала она, поспешно застегивая платье, — ваша карьера сделана; везите же меня к королеве.
— Нет, сударыня. Если вы снова навлечете на себя немилость ее величества и во дворце будут знать, что я — тот, кто ввел вас в ее покои, королева не простит мне этого до конца своих дней. Во дворце найдутся преданные мне люди, которые и введут вас туда, оставив меня в стороне от этого дела.
— Как вам будет угодно; лишь бы я смогла проникнуть к королеве.
— Как зовут дам из религиозной общины в Брюгге, которые лечат больных?
— Бегинками.
— Итак, вы отныне бегинка.
— Согласна. Но все же мне придется перестать быть бегинкою.
— Это уж ваша забота.
— Ну нет, извините. Я вовсе не хочу, чтобы передо мной захлопнули двери.
— И это ваша забота, сударыня. Я прикажу старшему камердинеру одного дворянина, состоящего на службе у ее величества, впустить во дворец бегинку с лекарством, способным облегчить страдания королевы. Вы получите от меня пропуск, но лекарство и объяснения — об этом подумайте сами. Я признаю, что послал к королеве бегинку, но отрекусь от госпожи де Шеврез.
— На этот счет будьте спокойны, до этого не дойдет.
II
ШКУРА МЕДВЕДЯ
Кольбер вручил герцогине пропуск и чуть-чуть отодвинул кресло, за которым она стояла, как за укрытием.
Госпожа де Шеврез слегка кивнула и вышла.
Кольбер, узнав почерк Мазарини и пересчитав письма, позвонил секретарю и велел вызвать советника парламента, г-на Ванеля. Секретарь ответил, что советник, верный своим привычкам, только что прибыл, дабы доложить интенданту о наиболее важном в сегодняшней работе парламента.
Кольбер приблизился к лампе и перечел письма покойного кардинала; он несколько раз улыбнулся, убеждаясь все больше и больше в ценности документов, переданных ему г-жой де Шеврез, и, подперев свою тяжелую голову обеими руками, на несколько минут предался размышлениям.
В это время в кабинет вошел высокий, плотного сложения человек с худым лицом и хищным носом. Он вошел со скромной уверенностью, свидетельствовавшей о гибком и вместе с тем твердом характере, гибком по отношению к господину, который может доставить добычу, и твердом — по отношению к тем собакам, которые могли бы оспаривать у него эту столь лакомую добычу.
Под мышкой у Ванеля была папка больших размеров; он положил ее на бюро, на котором покоились локти Кольбера, склонившего на руки голову.
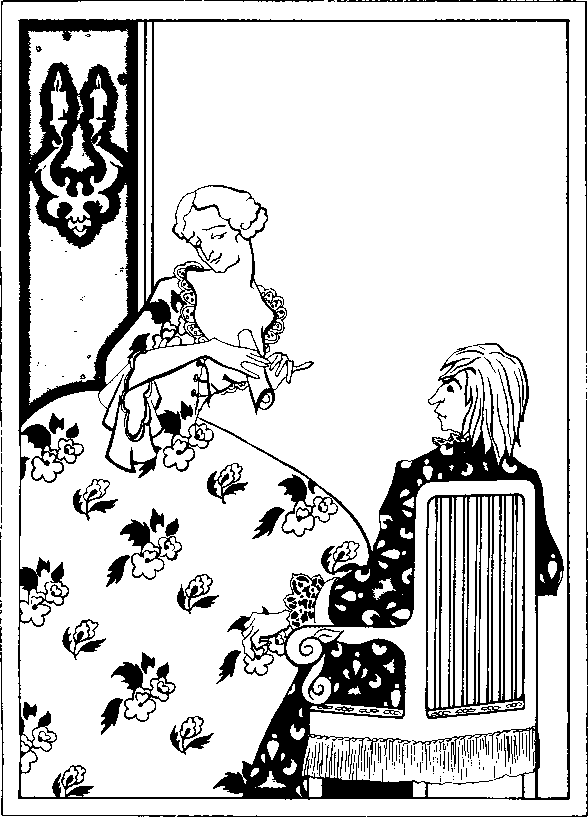
— Здравствуйте, господин Ванель, — сказал Кольбер, отрываясь от своих дум.
— Здравствуйте, монсеньер, — непринужденно ответил Ванель.
— Надо говорить «сударь», — мягко поправил Кольбер.
— Обращаясь к министрам, говорят «монсеньер», — невозмутимо заметил Ванель. — Вы — министр!
— Пока еще нет!
— Я называю вас монсеньером. Впрочем* вы мой начальник, вы мой сеньор, чего ж больше! Если вам не нравится, чтобы я величал вас таким образом в присутствии посторонних, позвольте называть вас монсеньером наедине.
Кольбер поднял голову на высоту лампы и прочел или попытался прочесть на лице Ванеля, насколько искренним было это выражение преданности.
Но советник умел выдержать любой взгляд, даже если это был взгляд министра.
Кольбер вздохнул. Он не прочел на лице Ванеля ничего определенного; быть может, Ванель и честен. Кольбер подумал о том, что этот человек, подчиняясь ему по службе, в действительности держит его в своей власти, ибо г-жа Ванель — его, Кольбера, любовница. И пока он сочувственно думал об участи этого человека, Ванель бесстрастно вынул из кармана надушенное, запечатанное испанским воском письмо и протянул его интенданту.
— Что это, Ванель?
— Письмо от жены, монсеньер.
Кольбер закашлялся. Он взял письмо, распечатал его, прочел и сунул себе в карман, в то время как Ванель невозмутимо листал свои протоколы.
— Ванель, — сказал внезапно патрон своему подчиненному, — вы, как кажется, не боитесь работы?
— Да, монсеньер.
— Двенадцать часов ежедневно не приводят вас в ужас?
— Я работаю пятнадцать часов.
— Непостижимо. Парламентские обязанности отнимают не больше трех часов в сутки.
— О, я веду счетные книги одного моего друга, дела которого находятся на моем попечении; кроме того, в свободное время я изучаю древнееврейский язык.
— Вас очень высоко ценят в парламенте, не так ли, Ванель?
— Полагаю, что да, монсеньер.
— Вам не следует засиживаться на месте советника.
— Что же надлежит сделать для этого?
— Купить должность.
— Какую?
— Что-нибудь позначительней. Скромные притязания удовлетворить труднее всего.
— Наполнять скромные кошельки тоже ведь дело нелегкое.
— Ну, и какая все-таки должность прельщает вас?
— По правде сказать, я не вижу ни одной, которая была бы мне по карману.
— Есть хорошая должность. Но надо быть королем, чтобы купить ее без денежных затруднений, а королю, пожалуй, не придет в голову покупать должность генерального прокурора.
Услышав эти слова, Ванель поднял на Кольбера смиренный невыразительный взгляд.
Кольбер так и не смог понять, разгадал ли Ванель его замыслы или просто откликнулся на произнесенные им слова.
— О какой должности генерального прокурора парламента вы, монсеньер, говорите? — спросил Ванель. — Я знаю лишь должность господина Фуке.
— О ней-то я и говорю, мой милый советник.
— У вас недурной вкус, монсеньер; но товар может быть куплен только в том случае, если он продается.
— Думаю, господин Ванель, что эта должность в скором времени поступит в продажу.
— Поступит в продажу! Должность генерального прокурора, должность господина Фуке?
— Об этом усиленно поговаривают.
— Должность, которая делает его неуязвимым, поступит в продажу? О, о!
И Ванель засмеялся.
— Может быть, эта должность пугает вас? — сурово спросил Кольбер.
— Пугает? Нисколько.
— Или вы не хотите ее?
— Монсеньер, вы потешаетесь надо мной, — ответил Ванель. — Какому советнику парламента не хотелось бы превратиться в генерального прокурора?
— В таком случае, господин Ванель… раз я утверждаю, что должность поступит в продажу…
— Вы утверждаете, монсеньер?
— Об этом многие говорят.
— Повторяю, это немыслимо: никто не бросит щита, оберегающего его честь, состояние, наконец, жизнь.
— Бывают порой сумасшедшие, которые мнят себя в безопасности от ударов судьбы, господин Ванель.
— Да, монсеньер, бывают; но подобные сумасшедшие не совершают своих безумств в пользу бедных Ванелей, прозябающих в этом мире.
— Почему?
— Потому что Ванели бедны.
— Должность господина Фуке и впрямь стоит дорого. Что бы вы отдали за нее, господин Ванель?
— Все, что у меня есть, монсеньер.
— Сколько же?
— От трехсот до четырехсот тысяч ливров.
— А цена этой должности?
— Самое малое полтора миллиона. Я знаю людей, которые предлагали миллион семьсот тысяч и все же не могли соблазнить господина Фуке. Но если бы даже случилось, что господин Фуке захочет продать свою должность, чему я не верю, несмотря на то, что мне говорили…
— А, так и вам говорили! Кто же?
— Господин де Гурвиль… господин Пелисон… так, мимоходом.
— Ну, так если б господин Фуке захотел продать свою должность?..
— Я все равно не мог бы купить ее, ибо господин суперинтендант продал бы ее лишь за наличные, а кто может сразу выложить на стол полтора миллиона?
Тут Кольбер остановил советника выразительным жестом. Он снова задумался.
Наблюдая работу мысли на лице своего господина и видя его настойчивое желание продолжать разговор о том же предмете, Ванель терпеливо дожидался решения, не смея подсказать его интенданту.
— Объясните мне хорошенько, — сказал наконец Кольбер, — какие преимущества связаны с должностью генерального прокурора.
— Право обвинения всякого французского подданного, если он не принц крови; право аннулирования всякого обвинения, направленного против любого француза, кроме короля и принцев королевского дома. Генеральный прокурор — правая рука короля, карающая виновных; впрочем, та же рука может служить королю и для того, чтобы погасить факел правосудия и законности. Таким образом, господин Фуке в состоянии выказать неповиновение королю, подняв против него парламент; вот почему король, несмотря ни на что, постарается ладить с господином Фуке, ибо его величество, конечно, захочет, чтобы его указы вступали в законную силу без возражений парламента. Генеральный прокурор может быть и очень полезным, и очень опасным орудием.
— Хотите быть генеральным прокурором, Ванель? — внезапно спросил Кольбер, смягчая голос и взгляд.
— Я? — воскликнул Ванель. — Но я уже имел честь доложить, что у меня для этого не хватает миллиона ста тысяч ливров.
— Вы возьмете их в долг у ваших друзей.
— У меня нет друзей богаче меня.
— Вы честный человек!
— О, если б все думали так же, как монсеньер!
— Достаточно, что так думаю я. И в случае надобности я готов отвечать за вас.
— Берегитесь, монсеньер! Знаете ли вы поговорку?
— Какую?
— Кто отвечает, тому и платить.
— До этого не дойдет.
Ванель встал, взволнованный предложением, так неожиданно сделанным ему человеком, слова которого воспринимались всерьез даже самыми легкомысленными людьми.
— Не потешайтесь надо мной, монсеньер, — сказал он.
— Давайте поспешим с этим делом, Ванель. Вы говорите, что господин Гурвиль разговаривал с вами о должности господина Фуке?
— Да, и Пелисон также.
— Официально или только официозно?
— Вот их слова: «Члены парламента богаты и честолюбивы, им надлежит сложиться и предложить два или три миллиона господину Фуке, своему покровителю, своему светочу».
— Что же вы сказали на это?
— Я сказал, что в случае нужды внесу свою долю в размере десяти тысяч ливров.
— А значит, и вы обожаете господина Фуке! — воскликнул Кольбер, бросив на Ванеля взгляд, полный ненависти.
— Нисколько. Но господин Фуке занимает пост нашего генерального прокурора; он влез в долги, он идет ко дну; мы должны спасти честь корпорации.
— Так вот почему, пока Фуке при своей должности, ему нечего опасаться.
— Сверх того, — продолжал Ванель, — господин Гурвиль добавил: «Принять милостыню господину Фуке унизительно, и он от нее, несомненно, откажется; пусть же парламент сложится и, соблюдая благопристойность, купит должность своего генерального прокурора; тогда все обойдется как следует: честь корпорации останется незапятнанной, и вместе с тем будет пощажена гордость господина Фуке».
— Да, это действительно выход.
— Я рассудил совершенно так же, как вы, монсеньер.
— Так вот, господин Ванель: вы сейчас же отправитесь к господину Пелисону или к господину Гурвилю; знаете ли вы еще кого-нибудь из друзей господина Фуке?
— Я хорошо знаком с господином де Лафонтеном.
— С тем… стихотворцем?
— Да, с ним; когда мы были в добрых отношениях с господином Фуке, он сочинял стихи, воспевающие мою жену.
— Обратитесь к нему, чтобы он устроил вам встречу с суперинтендантом.
— Охотно. Но как же с деньгами?
— В указанный день и час деньги будут в вашем распоряжении; на этот счет можете быть спокойны.
— Монсеньер, сколь великая щедрость! Вы затмеваете короля. Вы превосходите господина Фуке!
— Одну минуту… не будем злоупотреблять словами, Ванель. Я вам отнюдь не дарю миллиона четырех сотен тысяч ливров; у меня есть дети.
— О, сударь, вы мне их ссужаете — и этого более чем достаточно.
— Да, я их ссужаю.
— Назначайте любые проценты, любые гарантии, монсеньер, я готов ко всему; что бы вы ни потребовали, я буду повторять еще и еще, что вы превосходите в щедрости королей и господина Фуке. Ваши условия?
— Вы погасите долг в течение восьми лет.
— Очень хорошо.
— Вы даете мне закладную на самую должность.
— Превосходно. Это все?
— Подождите. Я оставляю за собой право перекупить у вас эту должность, уплатив вам на сто пятьдесят тысяч ливров больше, чем то, что вы заплатите за нее, если в отправлении этой должности вы не будете руководствоваться интересами короля и моими предначертаниями.
— А-а! — произнес, слегка волнуясь, Ванель.
— Разве в моих условиях есть что-нибудь, что вам не нравится? — холодно спросил Ванеля Кольбер.
— Нет, нет, — живо ответил Ванель.
— В таком случае мы подпишем договор, когда вы того пожелаете. Бегите же к друзьям господина Фуке.
— Лечу…
— И добейтесь свидания с суперинтендантом.
— Хорошо, монсеньер.
— Будьте уступчивы.
— Да.
— И как только сговоритесь…
— Я потороплюсь заставить его подписать соглашение.
— Никоим образом не делайте этого!.. Ни в коем случае не заикайтесь о подписи, говоря с господином Фуке, ни о неустойке в случае нарушения им договора, ни даже о честном слове, слышите? Или вы все погубите!
— Как же быть, монсеньер? Все это не так просто.
— Постарайтесь только, чтобы господин Фуке заключил с вами сделку. Идите!
III
У ВДОВСТВУЮЩЕЙ КОРОЛЕВЫ
Вдовствующая королева пребывала у себя в спальне в королевском дворце с госпожой де Моттвиль и сеньорой Молина. Король, которого прождали до вечера, так и не показался. Королева в нетерпении несколько раз посылала узнать, не возвратился ли он.
Все предвещало грозу. Придворные кавалеры и дамы избегали встречаться в приемных и коридорах, дабы не говорить на опасные темы.
Принц, брат короля, еще утром отправился с королем на охоту. Принцесса, дуясь на всех, сидела у себя. Вдовствующая королева, прочитав по-латыни молитву, разговаривала со своими двумя приближенными на чистом кастильском наречии; речь шла о семейных делах. Г-жа де Моттвиль, прекрасно понимавшая испанский язык, отвечала ей по-французски.
После того, как три собеседницы, в безупречно учтивой форме и пользуясь недомолвками, высказались в том смысле, что поведение короля убивает королеву, его супругу, королеву-мать и всю остальную родню; после того, как в изысканных выражениях на голову мадемуазель де Лавальер были обрушены всяческие проклятия, королева-мать увенчала эти жалобы и укоры словами, отвечавшими ее характеру и образу мыслей.
— Estos hijos! — сказала она, обращаясь к Молина. Эти слова означали: «Ах, эти дети!»
Эти слова в устах матери полны глубокого смысла; в устах королевы Анны Австрийской, хранившей в глубине своей скорбный души столь невероятные тайны, — слова эти были просто ужасны.
— Да, — отвечала Молина, — эти дети! Дети, которым всякая мать отдает себя без остатка.
— И ради которых, — продолжила королева, — мать пожертвовала решительно всем…
Королева не докончила фразы. Она бросила взгляд на портрет бледного, без кровинки в лице, Людовика XIII, изображенного во весь рост, и ей почудилось, будто в тусклых глазах ее супруга снова появляется блеск и его нарисованные на холсте ноздри начинают раздуваться от гнева. Он не говорил, он грозил. После слов королевы надолго воцарилось молчание. Молина принялась рыться в корзине с кружевами и лентами. Г-жа де Моттвиль, пораженная этой молнией взаимопонимания, одновременно мелькнувшей в глазах королевы и ее давней наперсницы, опустила взор и, стараясь не видеть, вся обратилась в слух. Она услышала лишь многозначительное «гм», которое пробормотала дуэнья, эта воплощенная осторожность. Она уловила вздох, вырвавшийся из груди королевы. Г-жа де Моттвиль тотчас же подняла голову и спросила:
— Вы страдаете, ваше величество?
— Нет, Моттвиль; но почему тебе пришло в голову обратиться ко мне с этим вопросом?
— Ваше величество застонали.
— Ты, пожалуй, права; мне немножко не по себе.
— Господин Вало тут поблизости; он, кажется, у принцессы: у нее расстроены нервы.
— И это болезнь! Господин Вало напрасно посещает принцессу; ее исцелил бы совсем-совсем иной врач.
Госпожа де Моттвиль еще раз удивленно взглянула на королеву.
— Иной врач? — переспросила она. — Но кто же?
— Труд, Моттвиль, труд… Ах, уж если кто и впрямь болен, так это моя бедная дочь — королева.
— И вы также, ваше величество.
— Сегодня я чувствую себя немного лучше.
— Не доверяйтесь своему самочувствию, ваше величество.
И словно в подтверждение этих слов г-жи де Моттвиль острая боль ужалила королеву в самое сердце: она побледнела и откинулась в кресле, теряя сознание.
— Мои капли! — прошептала она.
— Сейчас, сейчас! — сказала Молина и, нисколько не ускоряя движений, подошла к шкафику из панциря черепахи золотисто-желтого цвета, вынула из него большой хрустальный флакон и, открыв его, подала королеве.
Королева поднесла его к носу, несколько раз жадно его понюхала и прошептала:
— Вот так и убьет меня Господь Бог. Да будет его святая воля!
— От боли не умирают, — возразила Молина, ставя флакон на прежнее место.
— Вашему величеству лучше? — спросила г-жа де Моттвиль.
— Да, теперь лучше.
И королева приложила палец к губам, чтобы ее любимица не проговорилась о только что виденном.
— Странно, — сказала после некоторого молчания г-жа де Моттвиль.
— Что же странно? — произнесла королева.
— Помнит ли ваше величество день, когда эта боль впервые появилась у вас?
— Я помню лишь то, что это был грустный день, Моттвиль.
— Этот день не всегда был для вашего величества грустным.
— Почему?
— Потому что двадцать три года назад, и притом в тот же час, родился царствующий ныне король, прославленный сын вашего величества.
Королева вскрикнула, закрыла лицо руками и на несколько секунд погрузилась в раздумье. Было ли то воспоминание, или размышление, или еще один приступ боли?
Молина кинула на г-жу де Моттвиль почти что свирепый взгляд, до того он был похож на упрек. И достойная женщина, ничего не поняв, собралась было для успокоения своей совести обратиться к ней за разъяснениями, как вдруг Анна Австрийская, внезапно поднявшись с кресла, сказала:
— Пятое сентября! Да, эта боль появилась пятого сентября. Великая радость в один день, великая печаль — в другой. Великая печаль, — добавила она совсем тихо, — искупление за великую радость.
И с этого момента Анна Австрийская, как бы исчерпав всю свою память и разум, снова замолчала, глаза у нее потухли, мысли рассеялись и руки повисли. '
— Нужно ложиться в постель, — сказала Молина.
— Сейчас, Молина.
— Оставим ее величество, — упорствовала испанка.
Госпожа де Моттвиль встала. Блестящие и крупные, похожие на детские, слезы медленно катились по бледным щекам королевы. Молина, заметив это, пристально посмотрела на Анну Австрийскую своим упорным настороженным взглядом.
— Да, да, — промолвила королева. — Оставьте нас; идите, Моттвиль.
Слово нас неприятно прозвучало в ушах любимицы-француженки. Оно означало, что после ее ухода последует обмен воспоминаниями и тайнами. Оно означало, что беседа вступает в свою наиболее интересную фазу и что третье лицо — а именно она, Моттвиль, — лишнее.
— Чтобы помочь вашему величеству, достаточно ли одной Молина? — спросила француженка.
— Да, — сказала испанка.
Госпожа де Моттвиль поклонилась. Вдруг старая горничная, одетая так же, как одевались при испанском дворе в 1620 году, откинув портьеру и увидя королеву в слезах, г-жу де Моттвиль, искусно отступающую под натиском дипломатических уловок Молина, и эту последнюю в разгаре ее дипломатии, без стеснения направилась к королеве и радостно прокричала:
— Лекарство, лекарство!
— Какое лекарство, Чика? — спросила Анна Австрийская.
— Лекарство, чтобы вылечить ваше величество от болезни.
— Кто же доставил его? — живо спросила г-жа де Мотвиль. — Господин Вало?
— Нет, дама из Фландрии.
— Дама из Фландрии? Кто она? Испанка? — спросила королева.
— Не знаю.
— А кем она прислана?
— Господином Кольбером.
— Как зовут эту даму?
— Она не сказала.
— Ее положение в обществе?
— На это ответит она сама.
— Ее лицо?
— Она в маске.
— Взгляни-ка, Молина! — воскликнула королева.
— Это бесполезно, — ответил из-за портьеры решительный и вместе с тем нежный голос, который заставил вздрогнуть королеву и ее дам.
В то же мгновение, раздвигая занавес, появилась женщина в маске.
И прежде чем королева успела вымолвить хоть одно слово, незнакомка сказала:
— Я бегинка из Брюгге, и я действительно принесла лекарство, которое должно излечить ваше величество.
Все молчали. Бегинка замерла в неподвижности.
— Продолжайте, — обратилась к ней королева.
— Когда мы останемся наедине, — сказала бегинка.
Анна Австрийская взглянула на своих компаньонок, и они удалились. Тогда бегинка сделала три шага по направлению к королеве и почтительно склонилась пред нею.
Королева недоверчиво рассматривала монахиню, которая, в свою очередь, упорно смотрела на королеву; ее глаза блестели в прорези маски.
— Королева Франции, должно быть, очень больна, — сказала Анна Австрийская, — раз даже бегинки из Брюгге знают, что она нуждается в излечении.
— Слава Богу, ваше величество не безнадежно больны.
— Все же как вы узнали, что я больна?
— Ваше величество располагаете друзьями во Фландрии.
— И эти друзья направили вас ко мне?
— Да, ваше величество.
— Назовите их имена.
— Невозможно и бесполезно, поскольку память вашего величества все еще не пробуждена вашим сердцем.
Анна Австрийская подняла голову; она силилась проникнуть под покров маски и разгадать таинственность этих слов, дабы открыть имя той, которая говорила с такою непринужденностью. Потом, вдруг устав от своего любопытства, оскорбительного для ее обычного высокомерия, она строго заметила:
— Сударыня, вы, вероятно, не знаете, что с царствующими особами не говорят в маске?
— Соблаговолите извинить меня, ваше величество, — смиренно сказала бегинка.
— Извинить вас я не могу; я могу даровать вам прощение, но только в том случае, если вы сбросите маску.
— Ваше величество, я дала обет помогать страждущим и опечаленным, не открывая перед ними лица. Я могла бы принести облегчение и вашему телу и вашей душе, но так как ваше величество чинит мне в этом препятствие, то я удаляюсь. Прощайте, ваше величество!
Эти слова были произнесены с таким обаянием и такою почтительностью, что гнев и недоверие королевы исчезли, тогда как любопытство ее нисколько не улеглось.
— Вы правы, — сказала она, — тем, кто страждет, не следует пренебрегать утешениями, ниспосланными им Господом Богом. Говорите, сударыня, и, быть может, вам будет дано принести облегчение, как вы сказали, моему телу… Увы, боюсь, что Господь готовит моей плоти жестокие испытания!
— Поговорим немного и о вашей душе, — сказала бегинка, — о душе, которая тоже страждет, в чем я уверена.
— Моя душа?
— Есть пожирающие нас язвы, которые нарывают незримо. При этих недугах кожа остается светлой, как слоновая кость, и на теле не проступает никаких синих пятен. Врач, склоняющийся над грудью больного, не в силах услышать, как в мускулах, под током крови, скрежещут зубы этих ненасытных чудовищ; ни огонь, ни железо не способны убить или укротить ярость этого разящего насмерть бича; враг проникает в чувства и мысли, и они приходят в смятение; боль прорастает в сердце, и оно разрывается. Вот, ваше величество, язвы, роковые для королев. Не страдаете ли вы подобным недугом?
Анна медленно подняла руку, такую же ослепительно белую и прекрасную, как во времена ее молодости.
— Недуг, о котором вы говорите, — сказала она, — неизбежное зло нашей жизни, жизни великих мира сего, на которых Господь возложил обязанности печься о подданных. Когда недуг слишком тяжел, Бог облегчает нас на суде покаяния. Там мы сбрасываем с себя бремя и освобождаемся от гнетущих нас тайн. Но не забывайте, что Господь соразмеряет испытания с силами своих тленных созданий, и мои силы способны выдержать лежащее на мне бремя; для чужих тайн мне достаточно скромности Бога, для собственных мне мало скромности моего духовника.
— Я вижу, что вы, как всегда, смело выступаете против ваших врагов, ваше величество, но я боюсь, что вы недостаточно доверяете вашим друзьям.
— У королев нет друзей. Если вам больше нечего мне сказать, если вы чувствуете себя вдохновляемой самим Богом, словно пророчица, уйдите, ибо я страшусь будущего.
— А мне показалось, — решительно сказала бегинка, — что вы скорей страшитесь былого.
Она еще не окончила этой фразы, как королева, вся выпрямившись, воскликнула резким и повелительным тоном:
— Говорите! Объяснитесь четко, ясно, полно или…
— Не грозите, ваше величество, — отвечала мягко бегинка. — Я пришла к вам, полная почтительности и сочувствия, я пришла к вам от друга.
— Тогда докажите это! Облегчите мои страдания, вместо того чтобы вызывать во мне раздражение.
— Это легко сделать. И ваше величество увидит, друг ли я.
— Ну, начинайте.
— Какое несчастье свалилось на ваше величество за последние двадцать три года?
— Ах… большие несчастья; разве не потеряла я короля?
— Я не говорю о таких несчастьях. Я хочу задать вам вопрос: после рождения короля не причинила ли вам страданий нескромность одной из близких вам женщин?
— Не понимаю вас, — ответила королева, стиснув зубы, чтобы скрыть овладевшее ею волнение.
— Сейчас объясню. Ваше величество помнит, конечно, что король родился пятого сентября тысяча шестьсот тридцать восьмого года в одиннадцать с четвертью часов?
— Да, — пролепетала королева.
— В половине первого, — продолжала бегинка, — дофин, уже помазанный архиепископом моским в присутствии короля и вашем, был провозглашен наследником французской короны. Король отправился в часовню старого Сен-Жерменского замка, чтобы прослушать «Те Deum».
— Все это так, — прошептала королева.
— Ваше величество разрешились от бремени в присутствии покойного принца — брата короля, принцев крови и придворных дам. Врач короля Бувар и хирург Оноре находились в приемной. Ваше величество заснули около трех часов и проспали приблизительно до семи, не так ли?
— Все это верно, но вы мне рассказываете о том, что вместе со мной и вами знает весь свет.
— Я приближаюсь, ваше величество, к тому, что знают немногие. Я сказала: немногие. Увы, я могла бы сказать: только двое, ибо и прежде их было лишь пять, но за последние несколько лет тайна стала еще более сокровенной вследствие смерти большинства посвященных в нее. Король, наш господин, покоится рядом с предками; повивальная бабка Перон умерла вскоре после него, о Ла Порте никто уже больше не вспоминает.
Королева приоткрыла рот, собираясь ответить; под ледяною рукой, которой она коснулась лица, она почувствовала горячие капли пота.
— Было восемь часов, — продолжала бегинка. — Король с легким сердцем сидел за ужином; вокруг него были песни, веселые крики, полные до краев стаканы; под балконами горланил народ; швейцарцы, мушкетеры, гвардейцы бродили по городу, и хмельные студенты, встречаясь с ними, принимались качать их. Этот шум народного ликования испугал новорожденного дофина, и он тихонько плакал на руках у своей нянюшки, госпожи Гозак. И если б он открыл глаза, то его взору предстали бы две короны в глубине колыбели. Вдруг ваше величество пронзительно вскрикнули, и к вашему изголовью подошла Перон. Врачи обедали в отдаленной зале. Дворец стал пустынею, поскольку его заполнило слишком много народа; в нем не было ни заведенного порядка, ни часовых. Повивальная бабка, осмотрев ваше величество, закричала от удивления и, обняв вас, измученную и обезумевшую от боли, послала Ла Порта сказать королю, что королева желает видеть его величество. Л а Порт, как вам известно, был человек толковый и хладнокровный. Он не подошел к королю с видом испуганного слуги, чувствующего значительность приносимой им вести и жаждущего напугать ею; его новость, впрочем, не могла бы показаться королю страшной. И вот улыбающийся Ла Порт остановился у королевского кресла и произнес: «Ваше величество, королева исполнена счастья и была бы еще счастливее, если б могла увидеть ваше величество у себя».
В этот день Людовик Тринадцатый за доброе пожелание отдал бы корону любому нищему. Веселый, оживленный, он поднялся из-за стола и сказал таким тоном, каким мог бы сказать Генрих Четвертый: «Господа, я иду к жене».
Он вошел к вам, и Перон поднесла к нему второго наследника, который был такой же здоровенький и такой же красавчик, как первый. При этом она сказала: «Государь, Господь не желает, чтобы во французском царствующем доме прекратилась мужская линия».
Король, движимый первым порывом, подбежал к этому второму ребенку, воскликнув: «Благодарю тебя, Боже!»
Тут бегинка замолкла, заметив, что королева сильно страдает. Анна Австрийская, откинувшись в кресле, с опущенной головой, с остановившимся взглядом, слушала ее, очевидно не понимая того, что ей говорят: губы ее судорожно подергивались, как бы произнося молитвы, обращенные к Богу, или призывая проклятия на голову этой безжалостной женщины.
— Ах, не думайте, — горячо продолжала бегинка, — не думайте, что если во Франции оказался один дофин и если королева оставила второго ребенка прозябать вдалеке от королевского трона, не думайте, что она была дурной матерью! О нет, нет!.. Существуют люди, которым хорошо ведомо, сколько слез она пролила, которые могут сосчитать пылкие поцелуи, которыми она осыпала это бедное существо, утешая его за жалкую и скрытую во тьме жизнь, в силу государственной необходимости доставшуюся в удел близнецу Людовика Четырнадцатого.
— Боже мой! Боже мой! — едва слышно прошептала королева.
— Известно, — продолжала, оживляясь, бегинка, — что король, увидев себя отцом двоих сыновей, сверстников, обладавших одинаковыми правами, проникся тревогой за судьбы Франции, за мир и спокойствие в своем королевстве. Известно, что вызванный во дворец Ришелье больше часа предавался раздумьям в кабинете его величества и в конце концов произнес следующий приговор: «Во Франции может быть лишь один дофин, родившийся, чтобы унаследовать трон после его величества. Господь Бог послал нам еще одного, чтобы он мог наследовать первому. Но в настоящее время мы нуждаемся только в том, кто первый появился на свет; скроем же второго от Франции, как Господь скрыл его вначале от его державных родителей. Один наследник престола — это мир и спокойствие государства; два претендента — это гражданская война и анархия».
Королева, бледная, с сжатыми кулаками, резким движением поднялась с кресла.
— Вы знаете слишком много, — произнесла она глухим голосом, — вы причастны к государственным тайнам. А друзья, которые вам их поведали, — лжедрузья и предатели. Вы их сообщница в преступлении, которое здесь совершается. А теперь маску долой, или я прикажу дежурному офицеру взять вас под арест. О, я не боюсь этой тайны! Вы узнали ее и за это заплатите! Она застынет в вашей груди. И эта тайна, и ваша жизнь отныне принадлежат не вам!
И Анна Австрийская с угрожающим жестом сделала несколько шагов в сторону бегинки.
— Оцените же верность, честь, скромность покинутых вами друзей, — сказала бегинка и сбросила маску.
— Герцогиня де Шеврез! — воскликнула королева.
— Единственная, кто разделяет с вами эту тайну.
— Ах, — прошептала Анна Австрийская, — обнимите меня, герцогиня! Ведь недолго и убить старого друга, играя его роковыми печалями.
И королева, склонив голову на плечо давней своей приятельницы, пролила поток горьких слез.
— Как же вы еще молоды, — вполголоса произнесла г-жа де Шеврез, — счастливая, вы можете плакать!
IV
ПОДРУГИ
Королева надменно посмотрела на герцогиню де Шеврез и сказала:
— Вы произнесли, кажется, слово «счастливая», говоря обо мне. А между тем, герцогиня, я всегда думала, что на всем белом свете нет ни одного существа, которое было бы столь же обойдено счастьем, как французская королева.
— Государыня, вы воистину мать всех скорбей. Но наряду с теми возвышенными терзаниями, о которых мы с вами, старинные приятельницы, разлученные людской злобой, только что говорили, наряду с этими бедствиями, связанными с тем, что вы королева, у вас есть и кое-какие радости, правда малоощутимые, но порождающие в этом мире жгучую зависть.
— Какие же? — спросила горестно Анна Австрийская. — Как можно произносить слово «радость», если вы сами только что утверждали, что и тело мое и дух нуждаются в целебных лекарствах?
Госпожа де Шеврез задумалась на минуту, потом прошептала:
— Какая, однако, пропасть отделяет королей от всех остальных!
— Что вы хотите этим сказать?
— Я хочу сказать, что они настолько далеки от грубой действительности, что забывают о нуждах, с которыми должны бороться другие. Они подобны тем обитателям африканских нагорий, которые на своих зеленых высотах, оживленных ручьями, со студеной, как лед, водою, не понимают, как это можно умирать от жажды и голода среди сожженной солнцем пустыни.
Королева слегка покраснела; только теперь она поняла, о чем идет речь.
— Как дурно с моей стороны, что я покинула вас! — сказала она.
— Ах, государыня, говорят, что король унаследовал ненависть, которую питал ко мне его покойный отец. Король прогнал бы меня, если бы ему стало известно, что я во дворце.
— Не скажу, герцогиня, чтобы король питал к вам особое расположение, — сказала в ответ королева. — Но я могла бы… как-нибудь скрытно…
На лице герцогини промелькнула презрительная усмешка, встревожившая ее собеседницу.
И королева поторопилась добавить:
— Впрочем, вы очень хорошо сделали, что явились ко мне.
— Благодарю вас, ваше величество.
— Хотя бы для того, чтобы доставить мне радость наглядным опровержением слухов о вашей смерти.
— Неужели говорили о том, что я умерла?
— Со всех сторон.
— Но мои сыновья не носили траура.
— Вы ведь знаете, герцогиня, что двор без конца путешествует; мы не часто видим у себя господ д’Альбер де Люин, ваших детей, и, кроме того, столько вещей ускользает от нас в сутолоке забот, среди которых мы постоянно живем.
— Ваше величество не должны были верить слуху о моей смерти.
— Почему бы и нет? Увы, все мы смертны: ведь вы видите, что и я, ваша меньшая сестра, как говорили мы когда-то, уже склоняюсь к могиле.
— Если вы поверили в мою смерть, ваше величество, то вас, по всей вероятности, удивило, что, умирая, я не подала о себе весточки.
— Но ведь смерть, герцогиня, порой приходит нежданно-негаданно.
— О ваше величество! Души, отягощенные тайнами, вроде той, о которой мы только что говорили, всегда испытывают потребность в освобождении от лежащего на них бремени, и эту потребность следует удовлетворить заранее. Среди дел, которые надлежит выполнить, готовясь к путешествию в вечность, указывают также и на необходимость привести в порядок бумаги.
Королева вздрогнула.
— Ваше величество, — сказала герцогиня, — в точности узнаете день моей смерти, и притом достовернейшим способом.
— Как же это произойдет?
— Не позже чем на следующий день после моей кончины вашему величеству будет доставлен четырехслойный конверт, и в нем вы обнаружите все, что осталось от нашей некогда столь таинственной переписки.
— Вы не сожгли моих писем? — воскликнула с ужасом Анна.
— О, моя королева, лишь предатели жгут королевские письма.
— Предатели?
— Да, предатели. Или, вернее, они делают вид, что сжигают их, но в действительности хранят их у себя или продают за большие деньги…
— Господи Боже!
— Тот, однако, кто хранит верность, прячет такие сокровища как можно дальше; затем в один прекрасный день он является к своей королеве и говорит: «Ваше величество, я старею, я тяжело болен, моя жизнь в опасности, и в опасности тайна, доверенная мне вашим величеством; возьмите же эту таящую опасность бумагу и сами, своими руками, сожгите ее».
— Бумага, в которой таится опасность? Какая же это бумага?
— У меня только одна такая бумага, но действительно очень опасная!
— О герцогиня, скажите, скажите же, что это такое?
— Это записка… от второго августа тысяча шестьсот сорок четвертого года, в которой вы посылаете меня в Нуази-ле-Сек, чтоб повидать вашего милого и несчастного мальчика. Вашей рукою так и написано «милого и несчастного мальчика».
Воцарилась полная тишина. Королева мысленно измеряла глубину пропасти, г-жа де Шеврез расставляла свою западню.
— Да, несчастный, очень, очень несчастный! — прошептала Анна Австрийская. — Какую печальную жизнь прожил этот бедный ребенок и как ужасно эта жизнь завершилась!
— Разве он умер? — воскликнула герцогиня, и королева, несколько успокаиваясь, подумала, что ее удивление искренне.
— Умер в чахотке, умер всеми забытый, увял, как цветок, поднесенный влюбленным и засунутый предметом его любви в глубину шкафа, чтобы укрыть его от нескромных глаз окружающих.
— Значит, он умер! — повторила герцогиня опечаленным тоном, который, несомненно, мог бы обрадовать королеву, если бы в нем не слышалось нотки сомнения. — Умер в Нуази-ле-Сек?
— Да, на руках у своего гувернера, несчастного, преданного слуги, который ненамного пережил его.
— Само собою понятно: нелегко снести такую печаль и жить с такой тайной в груди.
Королева не удостоила заметить иронию этих слов. Г-жа де Шеврез продолжала:
— Несколько лет назад, государыня, я справлялась в самом Нуази-ле-Сек о судьбе этого столь несчастного мальчика. Там его не считали умершим, вот почему я не сразу прониклась скорбью вместе с вашим величеством. О, разумеется, если б я поверила этому слуху, никогда ни один намек на это горестное событие не пробудил бы законнейшую печаль в вашем сердце, ваше величество.
— Вы говорите, что в Нуази-ле-Сек ребенка не считали умершим?
— Нет, ваше величество.
— Что же там говорили?
— Говорили… Но, разумеется, это плод заблуждения.
— Все же скажите, что вы там слышали.
— Говорили, что как-то вечером — это было в начале тысяча шестьсот сорок пятого года — величественная и красивая женщина (что было замечено, несмотря на маску и плащ, которые скрывали ее), несомненно знатная дама, даже очень знатная дама, приехала в карете на перекресток дорог, тот самый, на котором, как вам известно, я дожидалась вестей о молодом принце, когда ваше величество благоволили меня туда посылать.
— И?..
— И гувернер привел мальчика к этой даме.
— Дальше!
— На следующий день гувернер с мальчиком уехали из Нуази-ле-Сек.
— Видите ли, этот рассказ правдив; но бедный ребенок умер внезапно, что часто случается с детьми в возрасте до семи лет. По словам врачей, жизнь их в эти годы держится на волоске.
— То, что говорит ваше величество, — истина; никто не знает этого лучше, чем вы, никто не верит этому столь же безгранично, как я. Но заметьте, тут есть одна странность…
«Что еще?» — подумала королева.
— Лицо, сообщившее мне эти подробности, лицо, ездившее справляться о здоровье ребенка…
— Вы кому-нибудь доверили подобное поручение? О, герцогиня!
— Некто немой, как ваше величество, немой, как я; предположим, что этим некто была я сама. Это лицо, проезжая через некоторое время в Турень…
— В Турень?
— Узнало и гувернера и мальчика… простите, этому лицу, разумеется, лишь так показалось, что оно узнало обоих. Оба были живы, веселы и здоровы, оба цвели, один в дни своей бодрой, полной сил старости, другой в нежные дни первой юности. Судите же после этого, можно ли доверять слухам? Можно ли в нашем подлунном мире верить чему бы то ни было? Но я утомляю ваше величество. О, я совсем не хотела этого, и я сейчас же откланяюсь, принеся еще раз уверения в моей почтительнейшей преданности, ваше величество.
— Останьтесь! Поговорим немного о вас.
— Обо мне? О государыня, не опускайте столь низко свой взор.
— Почему же? Разве вы не стариннейшая моя приятельница… Разве вы сердитесь на меня, герцогиня?
— Я? Господи Боже! У меня нет к этому оснований. Неужели я явилась бы к вам, будь у меня причина сердиться на вас?
— Г оды одолевают нас, герцогиня; мы должны теснее сплотиться перед лицом грозящей нам смерти.
— Ваше величество, вы осыпаете меня милостями, произнося такие ласковые слова.
— Никто не любил меня так, никто мне так не служил, как вы, герцогиня.
— Ваше величество помнит об этом?
— Всегда… Герцогиня, я хочу от вас доказательства дружбы.
— Всем своим существом я ваша, ваше величество!
— Но где же доказательство дружбы!
— Какое?
— Обратитесь ко мне с какой-нибудь просьбой.
— С просьбой?
— О, я знаю, у вас самая бескорыстная, самая возвышенная, самая царственная душа.
— Не хвалите меня чрезмерно, ваше величество, — сказала взволнованно герцогиня.
— Я не в состоянии воздать вам хвалу, которая была бы равна вашим заслугам.
— С возрастом под влиянием несчастий очень меняешься, ваше величество.
— Да услышит вас Бог, герцогиня!
— Что это значит, ваше величество?
— Это значит вот что: прежняя герцогиня, прекрасная, обожаемая Шеврез, ответила бы мне черной неблагодарностью. Она бы сказала: «Мне ничего не нужно от вас». Да будут в таком случае благословенны несчастья, если они изменили вас и вы теперь, быть может, ответите мне: «Принимаю».
Взгляд и улыбка герцогини смягчились. Она была очарована королевой и не пыталась скрыть свои чувства.
— Говорите же, моя дорогая, — продолжала королева, — чего вы желаете?
— Итак, я должна высказаться?
— Поскорей, не раздумывая.
— Ваше величество можете принести мне несказанную радость, несравненную радость.
— Ну, говорите же, — промолвила королева, слегка охладев вследствие проснувшегося в ней беспокойства. — Только не забывайте, моя дорогая Шеврез, что теперь надо мной стоит сын, как некогда стоял муж.
— Я буду скромна, моя королева.
— Называйте меня Анной, как прежде, это будет сладким напоминанием о несравненных днях юности.
— Хорошо. Итак, моя обожаемая госпожа, моя милая Анна…
— Ты еще помнишь испанский?
— Конечно.
— Тогда сообщи мне по-испански, чего ты хочешь.
— Я хочу следующего: окажи мне честь и приезжай ко мне на несколько дней в Дампьер.
— И это все? — воскликнула пораженная королева.
— Да.
— Только всего?
— Боже мой, разве вы не видите, что я прошу вас о неслыханном благодеянии? Если вы не видите этого, значит, вовсе меня не знаете. Принимаете ли вы мое приглашение?
— Конечно, и от всего сердца.
— О, как я признательна вам!
— И я буду счастлива, — продолжала, все еще не вполне уверовав в искренность герцогини, Анна Австрийская, — если мое присутствие сможет оказаться полезным для вас.
— Полезным! — воскликнула, смеясь, герцогиня. — О нет! Приятным, сладостным, радостным, да, тысячу раз да! Значит, вы обещаете?
— Даю вам слово.
Герцогиня схватила прекрасную руку королевы и покрыла ее поцелуями.
«Она, в сущности, добрая женщина, — подумала королева, — и… ей свойственно душевное благородство».
— Ваше величество, — задала вопрос герцогиня, — даете ли вы мне две недели?
— Конечно. Но для чего?
— Зная, что я в немилости, никто не хотел дать мне взаймы сто тысяч экю, которые мне нужны, чтобы привести в порядок Дампьер. Но теперь, лишь только станет известно, что эти деньги пойдут на то, чтобы принять ваше величество, парижские капиталы рекой потекут ко мне.
— Так вот оно что, — сказала королева, ласково кивнув головой, — сто тысяч экю! Нужно сто тысяч экю, чтобы привести в порядок Дампьер?
— Около этого.
— И никто не хочет ссудить их вам?
— Никто.
— Если хотите, я их ссужу, герцогиня.
— О, я не посмею.
— Напрасно.
— Правда?
— Честное слово королевы. Сто тысяч экю — это, в сущности, не так уж много.
— Разве?
— Да, немного. Я знаю, что вы никогда не продавали ваше молчание за цену, которую оно стоит. Подвиньте мне этот стол, герцогиня, и я напишу вам чек для господина Кольбера; нет, лучше для господина Фуке, который гораздо любезнее и приятнее.
— А платит ли он?
— Если он не заплатит, заплачу я. Но это был бы первый случай, когда бы он мне отказал.
Королева написала записку, вручила ее герцогине и простилась с ней, расцеловав ее напоследок.
Назад: Александр Дюма Виконт де Бражелон, или Ещё десять лет спустя
Дальше: V КАК ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН НАПИСАЛ СВОЮ ПЕРВУЮ СКАЗКУ

