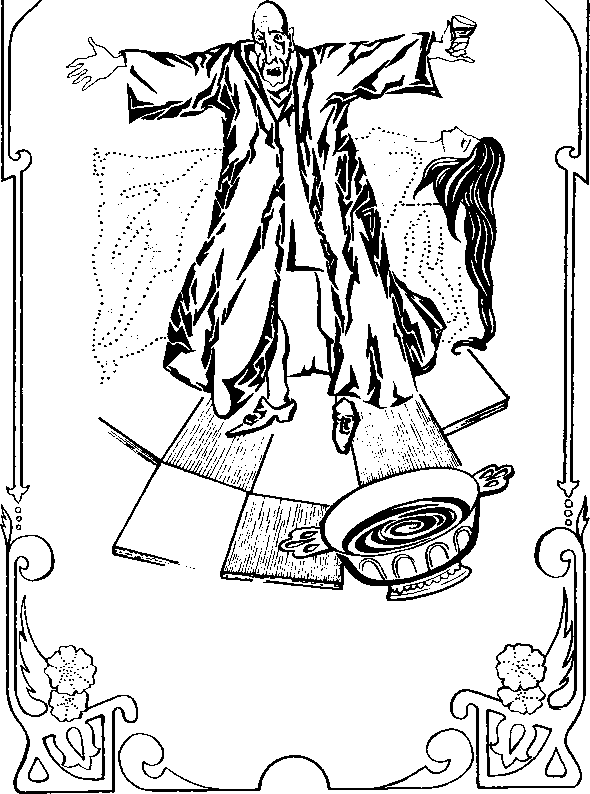Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 19.Джузеппе Бальзамо. Часть 4,5
Назад: ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Дальше: CXXXIV ЧЕЛОВЕК И БОГ
CXXVIII
БОРЬБА
Он стоял, и сердце его сжималось от горестных мыслей.
Мы говорим от горестных, но не от гневных.
После его разговора с Альтотасом, со всей очевидностью показавшего ему всю низость человеческой природы, гнев его словно улетучился. Он вспомнил, что один древнегреческий философ повторял про себя от начала до конца весь алфавит, прежде чем прислушаться к голосу мрачной богини — советчицы Ахилла.
С минуту он молча и равнодушно разглядывал лежавшую на диване Лоренцу.
"Мне сейчас невесело, — подумал он, — но я спокоен и ясно вижу положение, в котором оказался. Лоренца меня ненавидит. Она пообещала, что предаст меня, и привела свою угрозу в исполнение. Моя тайна принадлежит теперь не только мне, она стала доступной этой женщине, которая выдала ее. Я похож на лисицу, попавшую в капкан: я выдернул из стальных зубов одну кость от ноги, а кожа и мясо остались там, и охотник завтра скажет: "Здесь вчера была лисица, теперь я найду ее, живую или мертвую".
Это неслыханное несчастье, недоступное пониманию Альтотаса, вот почему я не стал ничего ему об этом говорить. Это несчастье лишает меня надежды на успех в этой стране, а значит — и во всем этом мире: ведь Франция — душа этого мира. И обязан я всем вот этой спящей женщине, этой прекрасной статуе с нежной улыбкой. Я обязан этому ангелу бесчестьем и разорением, а впереди меня ждут пленение, изгнание, смерть.
Итак, — оживился он, — чаша весов, на которой лежит причиненное мне Лоренцой зло, перевешивает все доброе, что она для меня совершила. Лоренца погубила меня.
О, змея! До чего грациозно ты свиваешься в кольца, из которых я не могу вырваться! До чего очарователен твой ротик, но он полон яда! Так спи же, иначе я буду вынужден тебя убить, как только ты проснешься!"
Со злобной улыбкой Бальзамо медленно приблизился к молодой женщине, в изнеможении смежившей веки; однако по мере того, как он к ней подходил, глаза ее раскрывались, подобно лепесткам подсолнечника или вьюнка, встречающим первые лучи восходящего солнца.
"Как жаль: я должен навсегда закрыть эти прекрасные глаза, что так нежно смотрят на меня в эту минуту! Как только в этих глазах гаснет любовь, они начинают метать молнии".
Лоренца ласково улыбнулась, показав два ряда ровных, сверкающих жемчугом зубов.
"Если я убью ту, которой я ненавистен, — продолжал терзаться Бальзамо, в отчаянии ломая руки, — вместе с ней я погублю и ту, что любит меня!"
И тут на него нахлынула грусть, в недрах которой зарождалось удивившее его самого вожделение.
— Нет, — прошептал он, — нет, напрасны мои клятвы, напрасны все мои угрозы; нет, никогда у меня не достанет мужества ее убить. Она будет жить, но пробудиться ей не суждено; она будет жить этой неестественной жизнью, и та станет для нее счастьем, а другая — настоящая жизнь — будет вызывать в ней отвращение. Лишь бы я сумел ее осчастливить! Все остальное не имеет значения. У нее теперь будет только один способ существования — во сне, когда она любит меня; она навсегда останется в теперешнем своем состоянии.
Он с нежностью во взоре обратился к Лоренце, не сводившей с него влюбленных глаз, и медленно провел рукой по ее волосам.
Лоренца, казалось читавшая мысли Бальзамо, в эту минуту тяжело вздохнула, привстала, как во сне, подняла белоснежные руки и плавно опустила их на плечи Бальзамо; он ощутил на своих губах ее благоуханное дыхание.
— Нет, нет! — вскричал Бальзамо и, словно ослепленный ее красотой, закрыл рукой свое пылавшее лицо.
— Нет, такая жизнь — безумие; нет, я не смогу долго оказывать сопротивление этой искусительнице, этой сирене; я рискую потерять славу, могущество, бессмертие. Нет, нет, пусть проснется, я так хочу, это необходимо!
Совсем потеряв голову, Бальзамо все же с силой оттолкнул Лоренцу. Оторвавшись от него, она, подобно легкому покрывалу, или тени, или снежинке, начала медленно опускаться на софу.
Самая изощренная кокетка не могла бы выбрать более соблазнительную позу, чтобы привлечь внимание своего возлюбленного.
Бальзамо собрался с силами и сделал несколько шагов по направлению к выходу, но, как Орфей, он обернулся; как Орфей, он был обречен.
"Если я ее разбужу, — думал он, — снова начнется борьба; если я ее разбужу, она убьет себя или меня, а то еще вынудит меня убить ее. Я в безвыходном положении!
Да, судьба этой женщины предначертана, у меня перед глазами так и пылают слова: смерть! любовь! Лоренца! Лоренца! Ты предназначена для любви и для смерти. Лоренца! Лоренца! Твоя жизнь, как и твоя любовь, находятся в моих руках!"
Вместо ответа обольстительница привстала, шагнула к Бальзамо, повалилась ему в ноги и подняла к нему полные сладострастной неги глаза; она взяла его за руку и прижала ее к своей груди.
— Смерть! — едва слышно прошептала она, шевельнув блестевшими, словно влажный коралл, губами. — Пусть смерть, но и любовь!
Бальзамо отступил на два шага, запрокинул голову и закрыв рукою глаза.
Лоренца, задыхаясь, поползла за ним на коленях.
— Смерть! — повторила она чарующим голосом. — Но и любовь! Любовь! Любовь!
Бальзамо не мог больше сопротивляться — его будто окутало огненное облако.
— Это выше моих сил! — воскликнул он. — Я сопротивлялся сколько мог. Кто бы ты ни был — ангел, или сатана, — ты должен быть мною доволен: самолюбие и гордыня долго заставляли меня подавлять клокотавшие в моей душе страсти. Нет, нет, я не вправе восставать против единственного человеческого чувства, зародившегося в моем сердце. Я люблю эту женщину, я люблю ее, и эта страстная любовь губит ее больше, чем самая сильная ненависть. Эта любовь приведет ее к смерти. Господи, что же я за малодушный человек, что за жестокий безумец! Я даже не могу справиться со своими желаниями. Еще бы! Когда я, обманщик, лжепророк, предстану перед Богом и сброшу личину лицемерия перед Высшим Судией, то окажется, что я не совершил ни одного благородного поступка, и ни одно воспоминание о содеянном добре не облегчит моих вечных мук!
Нет, нет, Лоренца! Я отлично знаю, что, полюбив тебя, я потеряю будущее; я знаю, что мой ангел-хранитель оставит меня и вернется на небеса в то самое мгновение, когда женщина окажется в моих объятиях.
Но ты этого хочешь, Лоренца, ты этого хочешь!
— Любимый мой! — выдохнула она.
— И ты готова принять такое существование вместо действительной жизни?
— Я на коленях молю тебя об этом, умоляю, умоляю! Такая жизнь — счастье: ведь в ней есть любовь!
— И ты готова стать мне женой? Ведь я страстно тебя люблю!
— Да, я знаю, потому что умею читать в твоем сердце.
— И ты никогда не будешь обвинять меня ни перед Богом, ни перед людьми в том, что я тебя склонил к такой жизни против твоей воли, что обманул твое сердце?
— Никогда! Никогда! Напротив, и перед Богом, и перед людьми я буду тебе признательна за то, что ты подарил мне любовь — единственное благо, единственную жемчужину, единственный бриллиант на этом свете.-
— И ты никогда не пожалеешь о своих крылышках, бедная голубка? Ты должна знать, что отныне не сможешь отправиться для меня в светлый мир Иеговы на поиски луча света, которым он когда-то одарял своих пророков. Если я захочу узнать будущее, если захочу повелевать смертными, — увы! — твой голос мне не поможет, как это было раньше. Когда-то ты была для меня любимой женщиной и помощницей; теперь же у меня будет только возлюбленная, да еще…
— Ах! Ты сомневаешься, сомневаешься! — вскричала Лоренца. — Я вижу, как сомнение темным пятном растекается в твоем сердце.
— Ты всегда будешь меня любить, Лоренца?
— Всегда! Всегда!
Бальзамо вытер рукой лоб.
— Хорошо, пусть будет по-твоему, — сказал он. — И потом…
Он призадумался.
— И потом, почему для тех целей мне непременно нужна эта женщина? — продолжал он. — Разве она незаменима? Отнюдь нет. Зато только она способна меня осчастливить, а другая вместо нее поможет мне стать богатым и могущественным. Андре тоже предназначена мне судьбой и тоже обладает даром ясновидения. Андре молода, чиста, невинна, и я не люблю ее. Но когда она спит, Андре подчиняется мне так же, как ты. В лице Андре я имею жертву, готовую тебя заменить, а для меня она лишь что-то, необходимое для моих опытов. Андре способна унестись внутренним взором в область неизведанного так же далеко, и даже еще дальше. Андре! Андре! Я выбираю тебя для того, чтобы ты помогла моему возвеличению. Лоренца! Иди ко мне, ты будешь моей возлюбленной, моей любовницей. С Андре я всесилен, с Лоренцой — счастлив. Только с этой минуты я по-настоящему счастлив, моя жизнь наполнилась; не считая бессмертия, я достиг мечты Альтотаса, я стал богоравным!
Подхватив Лоренцу на руки, он рванул на вздымавшейся груди рубашку, и Лоренца прижалась к нему так же тесно, как плющ обвивается вокруг дуба.
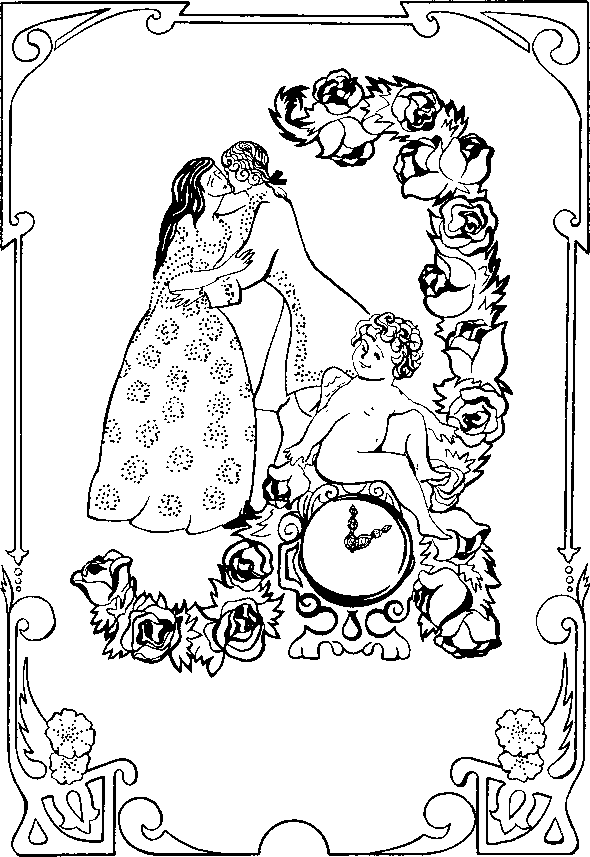
CXXIX
ЛЮБОВЬ
Для Бальзамо началась другая, неведомая ему доселе в его деятельном, бурном и многообразном существовании жизнь. В его измученном сердце не было вот уже три дня ни злобы, ни страха, ни ревности; вот уже три дня он не слушал разговоров о политике, о заговорах, о заговорщиках. Рядом с Лоренцой, с которой он не расставался ни на миг, он забыл обо всем на свете. Его необыкновенная, неслыханная любовь будто парила над миром; его любовь кружила ему голову, она была полна таинственности; он не мог не признать, что одним-единственным словом был способен превратить свою нежную возлюбленную в непримиримого врага. Он сознавал, что вырвал эту любовь из когтей ненависти благодаря необъяснимому капризу природы или науки; он не забывал и о том, что своим блаженством обязан был состоянию оцепенения и, в то же время, исступленного восторга, в которое была погружена Лоренца.
Пробуждаясь от блаженного сна, Бальзамо не раз в эти три дня внимательно вглядывался в свою подругу, неизменно пребывавшую в счастливом самозабвении. Отныне ее существование изменилось; он дал ей возможность отдохнуть от неестественной жизни, от мучительной для нее неволи; теперь она пребывала в восторженном состоянии, во сне, что тоже было обманом. Когда он видел ее спокойной, нежной, счастливой, когда она называла его самыми ласковыми именами и вслух грезила о сокровенных наслаждениях, он не раз задавался вопросом, не прогневался ли Бог на новоявленного титана, попытавшегося проникнуть в его тайны. Может быть, он внушил Лоренце мысль о притворстве, с тем, чтобы усыпить бдительность Бальзамо, а потом сбежать, и если и явиться вновь, то не иначе, как в образе Эвмениды-мстительницы.
В такие минуты Бальзамо сомневался в своих энциклопедических познаниях, что он воспринял от античности, но еще не имел случая проверить на опытах.
Однако спустя некоторое время неукротимая страсть и жажда ласки помогали ему поверить в свои силы.
"Если бы Лоренца что-нибудь скрывала от меня, — думал он, — если бы она собиралась от меня сбежать, она искала бы случая удалиться от меня, она пыталась бы под тем или иным предлогом остаться одна. Но нет! Ее руки обвивают меня, словно цепи, ее горящий взор говорит мне: "Не уходи!", — а нежный голос шепчет: "Останься!"
И Бальзамо снова был уверен и в Лоренце, и в своем могуществе.
Почему, в самом деле, эта необычайная тайна, которой он был обязан своим могуществом, стала бы вдруг, без всякого перехода, химерой, годной лишь для того, чтобы пустить ее по ветру, как ненужное воспоминание, как дым от потухшего костра? Никогда еще Лоренца не была столь прозорливой, никогда еще она так хорошо не понимала его: едва в его мозгу зарождалась какая-нибудь мысль, едва в его сердце отзывалось пережитое, как Лоренца сейчас же с удивительной легкостью воспроизводила все его мысли и чувства.
Оставалось загадкой, зависело ли ее ясновидение от ее чувств. Было пока неясно, мог ли ее взгляд, столь всепроникающий вплоть до падения этой новой Евы, погрузиться во тьму по другую сторону круга, очерченного их любовью и залитого светом их любви.
Бальзамо не решался провести окончательное испытание, он продолжал надеяться на лучшее, и эта надежда венчала его счастье.
Порой Лоренца говорила ему с нежной грустью:
— Ашарат! Ты думаешь о другой женщине, северянке: у нее светлые волосы и голубые глаза. Ашарат! Ах, Ашарат, эта женщина неизменно идет рядом со мной в твоих мыслях.
На это Бальзамо, с любовью глядя на Лоренцу, отвечал:
— Неужели ты замечаешь во мне и это?
— Да, я вижу это так же ясно, как в зеркале.
— Тогда ты должна знать, люблю ли я эту женщину, — возражал Бальзамо. — Читай же, читай в моем сердце, дорогая Лоренца!
— Нет, — отвечала она, отрицательно качая головой. — Нет, я прекрасно знаю, что ты ее не любишь. Но мысленно ты с нами обеими, как в те времена, когда Лоренца Феличиани тебя мучила… та дурная Лоренца, которая теперь спит и которую ты не хочешь будить.
— Нет, любовь моя, нет! — восклицал Бальзамо. — Я думаю только о тебе, во всяком случае, в моем сердце ты одна! Подумай сама: разве я не забыл обо всем с тех пор, как мы счастливы, разве не забросил я все: науки, политику, труды?
— Напрасно, — молвила Лоренца, — я могла бы помочь в твоих трудах.
— Каким образом?
— Разве ты не запирался раньше по целым дням в своей лаборатории?
— Да, но теперь я решил отказаться от этих безнадежных поисков: это было бы потерянное время — ведь я не видел бы тебя!
— Отчего же я не могу любить тебя и помогать тебе в твоих занятиях? Я хочу помочь тебе стать всемогущим, как уже помогла стать счастливым.
— Потому, что моя Лоренца — красавица. Но Лоренца нигде не училась. Красотой и любовью наделяет Бог, но только учение дает знания.
— Душа знает все на свете.
— Так ты в самом деле видишь внутренним взором?
— Да.
— И ты можешь меня направлять в поисках философского камня?
— Полагаю, что да.
— Пойдем.
Обняв молодую женщину, Бальзамо повел ее в лабораторию.
Огромная печь, в которой уже четвертый день никто не поддерживал огня, остыла.
Тигли на подставках тоже остыли.
Лоренца разглядывала все эти странные приспособления, последние достижения отживавшей свой век алхимии, и ничему не удивлялась: казалось, она понимала назначение каждого из них.
— Ты пытаешься найти секрет золота? — с улыбкой спросила она.
— Да.
— А в каждом из этих тиглей помещены смеси в различных соотношениях?
— Да, и все это уже остыло и пропало, но я об этом не жалею.
— Ты совершенно прав, потому что твое золото будет не чем иным, как окрашенным Меркурием. Возможно, тебе удастся добиться того, чтобы он отвердел, но ты никогда не превратишь его в золото.
— Так можно ли сделать золото?
— Нет.
— Однако Даниель из Трансильвании продал за двадцать тысяч дукатов Козимо Первому рецепт получения золота из других металлов.
— Даниель из Трансильвании обманул Козимо Первого.
— А как же саксонец Пайкен, приговоренный к смерти Карлом Вторым, выкупил свою жизнь, получив золотой слиток из свинца, и из этого золота отчеканили сорок дукатов, а также медаль во славу искусного алхимика.
— Талантливый алхимик был в то же время ловким шулером. Он подложил вместо свинцового слитка золотой, только и всего. Для тебя Ашарат, самый надежный способ добычи золота в том, чтобы отливать в слитки, как ты это пока и делаешь, то золото, которое свозят к тебе твои рабы со всех концов света.
Бальзамо задумался.
— Итак, перерождение одного металла в другой невозможно? — спросил он.
— Невозможно.
— Ну, а что с алмазом? — отважился спросить Бальзамо.
— Алмаз — совсем другое дело, — отвечала Лоренца.
— Значит, алмаз получить можно?
— Да, ведь чтобы получить алмаз, не нужно переделывать одно вещество в другое; необходимо только попытаться преобразовать уже известный элемент.
— А ты знаешь, что это за элемент?
— Разумеется! Алмаз — это кристаллизованный чистый уголь.
Бальзамо замер. Его озарила неожиданная, неслыханная мысль; он закрыл лицо руками, словно был ослеплен.
— Боже! Боже мой! — прошептал он. — Ты слишком добр ко мне. Верно, мне угрожает какая-нибудь опасность. Боже мой! Какой перстень мне бросить в море, чтобы отвести твою ревность? Довольно, на сегодня довольно! Довольно, Лоренца!
— Разве я не принадлежу тебе? Приказывай, повелевай!
— Да, ты моя. Идем, идем!
Бальзамо повлек Лоренцу из лаборатории, прошел через оружейную комнату, не обратив внимания на легкое поскрипывание над своей головой, и вновь оказался с Лоренцой в комнате с зарешеченными окнами.
— Значит, ты доволен своей Лоренцой, любимый мой? — спросила молодая женщина.
— Еще бы! — воскликнул он.
— Чего же ты опасался? Скажи!
Бальзамо умоляюще сложил руки и взглянул на Лоренцу с выражением такого ужаса, которому вряд ли мог бы найти объяснение тот, кто не умел читать в его душе.
— А ведь я чуть не убил этого ангела и не умер от отчаяния, решая вопрос о том, как мне стать счастливым и всемогущим! Я совсем забыл, что возможное всегда выходит за рамки современного состояния науки, и это возможное начинает восприниматься как нечто сверхъестественное. Я думал, что знаю все, а оказалось, что я ничего не знал.
Молодая женщина блаженно улыбалась.
— Лоренца! Лоренца! — продолжал Бальзамо. — Значит, осуществился таинственный замысел Господа, создавшего женщину из ребра мужчины и сказавшего им, что у них будет одно сердце на двоих! Моя Ева ожила; моя Ева будет жить моими мыслями, а ее жизнь висит на нити, которую держу в руках я! Это слишком много для одного человека, Боже мой, и я склоняюсь под тяжестью твоих благодеяний!
Он упал на колени, в восторге прижавшись к ногам красавицы, дарившей его неземной улыбкой.
— Нет, ты никогда не оставишь меня, под твоим всепроникающим взором я буду в полной безопасности; ты будешь мне помогать в моих научных открытиях — ведь ты сама сказала, что только ты можешь их дополнить, что одно твое слово облегчит мои поиски и сделает их плодотворными; только ты могла бы мне сказать, что я не получу золота, потому что это однородное вещество, простой химический элемент; ты мне скажешь, в какой частице своего создания Бог скрыл золото; ты скажешь мне, в каких неизведанных глубинах Океана лежат несметные богатства. Твои глаза помогут мне увидеть, как развивается жемчужина в перламутровой раковине, как зреет мысль человека в глубине его нечистого тела. С твоей помощью я услышу едва различимый звук, с каким червь роет землю, услышу поступь приближающегося врага. Я обрету величие Бога, но буду счастливее его, моя Лоренца! Ведь у Бога на небесах нет равной ему во всем подруги; Бог всемогущ, однако он одинок в своем величии и не может разделить его ни с каким другим существом: это всемогущество и делает его Богом.
Продолжая улыбаться, Лоренца отвечала на его слова жаркими ласками.
— Несмотря ни на что, ты все еще сомневаешься, Ашарат, — прошептала она, словно каждая мысль, беспокоившая ее возлюбленного, была ей доступна. — Ты сомневаешься, как ты сказал, что мне будет под силу шагнуть за черту нашей любви, что я смогу видеть на расстоянии, но ты утешаешься при мысли, что если не увижу я, то увидит она.
— Кто?
— Блондинка… Хочешь, я скажу, как ее зовут?
— Да.
— Постой-ка… Андре!
— Да, верно. Да, ты умеешь читать мои мысли. Меня мучает только одно: видишь ли ты, как прежде, на расстоянии, несмотря на препятствия, встающие перед твоим внутренним взором.
— Испытай меня.
— Дай руку, Лоренца.
Молодая женщина схватила Бальзамо за руку.
— Ты можешь последовать за мной? — спросил он.
— Всюду, куда пожелаешь.
— Идем.
Бальзамо мысленно покинул дом на улице Сен-Клод, увлекая за собой Лоренцу.
— Где мы сейчас? — спросил он.
— Мы взобрались на гору, — отвечала молодая женщина.
— Верно, — согласился Бальзамо, затрепетав от радости. — А что ты видишь?
— Передо мной? Слева? Справа?
— Прямо перед тобой.
— Я вижу обширную долину; с одной стороны лес, по другую руку город, а между ними — убегающая вдаль река, она течет вдоль стены огромного замка.
— Все верно, Лоренца: лес носит название Везине, а город — Сен-Жермен; замок называется Мезон. Давай войдем в павильон позади нас.
— Хорошо.
— Что ты видишь?
— Какую-то приемную: там сидит негритенок и грызет конфеты.
— Да, это Замор. Иди, иди дальше.
— Пустая гостиная, роскошно обставленная… Над дверьми карнизы в виде богинь и амуров.
— В гостиной никого нет?
— Никого.
— Идем дальше!
— Мы сейчас в восхитительном будуаре; стены обтянуты атласом, расшитым цветами, они будто живые…
— Там тоже никого?
— Нет, какая-то женщина лежит на софе.
— Как она выглядит?
— Погоди…
— Не кажется ли тебе, что ты ее уже где-то видела?
— Да, я видела ее здесь — это графиня Дюбарри.
— Верно, Лоренца, верно. Это потрясающе! Что она делает?
— Думает о тебе, Бальзамо.
— Обо мне?
— Да.
— Так ты можешь читать и в ее мыслях?
— Да, потому что, повторяю, она думает о тебе.
— А по какому поводу?
— Ты ей кое-что обещал.
— Да. Что именно?
— Ты обещал дать ей напиток красоты, какой Венера, желая отомстить Сапфо, дала Фаону.
— Верно, совершенно верно! Ну и до чего она додумалась?
— Она принимает решение.
— Какое?
— Погоди… Она протягивает руку к колокольчику, звонит, входит еще одна женщина.
— Брюнетка? Блондинка?
— Брюнетка.
— Высокая? Маленькая?
— Маленького роста.
— Это ее сестра. Послушай, что она ей скажет.
— Она приказывает заложить карету.
— Куда она собирается отправиться?
— Сюда.
— Ты в этом уверена?
— Так она говорит. И ее приказание исполнено. Я вижу лошадей, экипаж… Через два часа она будет здесь.
Бальзамо упал на колени.
— Если через два часа она в самом деле будет здесь, — воскликнул он, — мне останется лишь просить Бога, чтобы он пощадил меня и не отнимал у меня мое счастье!
— Бедный друг! — прошептала она. — Так ты боялся?..
— Да, да!
— Чего же тебе было бояться? Любовь, без которой физическое состояние было бы несовершенным, оказывает влияние и на душевное. Любовь, как всякая созидательная страсть, приближает к Богу, а от Бога исходит свет.
— Лоренца! Лоренца! Я теряю голову от радости!
Бальзамо уронил голову на колени молодой женщине.
Он ждал еще одного доказательства, чтобы окончательно убедиться в полноте своего счастья.
Таким доказательством должен был стать приезд графини Дюбарри.
Два часа ожидания пролетели незаметно: Бальзамо потерял счет времени.
Вдруг молодая женщина вздрогнула; она держала руку Бальзамо в своих руках.
— Ты все еще сомневаешься, — проговорила она, — и хотел бы знать, где она находится в эту минуту?
— Да, — отвечал Бальзамо, — ты угадала.
— Ее лошади во весь опор мчатся по бульвару, карета уже близко, она сворачивает на улицу Сен-Клод; графиня останавливается перед дверью… стучит…
Комната, где они находились, была расположена в глубине особняка, и туда не доносился стук медного молотка в ворота.
Однако, привстав на одно колено, Бальзамо прислушивался.
Два звонка Фрица заставили его подскочить; два звонка, как помнит читатель, означали важный визит.
— Так это правда! — воскликнул он.
— Поди и убедись в этом сам, Бальзамо, только возвращайся скорее!
Бальзамо бросился к камину.
— Позволь мне проводить тебя до лестницы, — попросила Лоренца.
— Идем!
Оба опять пришли в оружейную.
— Ты никуда отсюда не уйдешь? — спросил Бальзамо.
— Нет, я буду тебя ждать здесь. Не беспокойся: любящая тебя Лоренца совсем не похожа на ту, которой ты боишься. И потом…
Она замолчала и улыбнулась.
— Что? — спросил Бальзамо.
— Разве ты не умеешь так же читать в моих мыслях, как я читаю в твоих?
— Увы, нет!
— Прикажи мне заснуть до твоего возвращения, прикажи мне неподвижно лежать на софе, и я буду лежать и спать.
— Пусть будет по твоему, дорогая Лоренца: засыпай и жди меня.
Борясь со сном, Лоренца в последнем поцелуе прижалась губами к губам Бальзамо; покачиваясь, она пошла к софе и, падая, прошептала:
— До скорой встречи, мой Бальзамо, до встречи!
Бальзамо помахал ей рукой; Лоренца уже спала.
Она была так чиста, так хороша: ее длинные волосы были распущены, губы приоткрылись, раскраснелись щеки, глаза затуманились; Бальзамо вернулся к софе, взял ее за руку, прикоснулся губами к плечу и шее, не осмеливаясь поцеловать в губы.
Снова раздались два звонка: то ли дама теряла терпение, то ли Фриц опасался, что хозяин не слышал его условного знака.
Бальзамо бросился к двери.
Едва притворив за собой дверь, он в другой раз услышал поскрипывание, похожее на то, что слышал раньше. Он снова отворил дверь, огляделся, но ничего не заметил.
В комнате не было никого, кроме Лоренцы, которая дышала прерывисто, изнемогая под бременем своей любви.
Бальзамо прикрыл дверь и поспешил в гостиную, не испытывая при этом ни беспокойства, ни страха, ни предчувствия и унося в своем сердце рай.
Бальзамо заблуждался: не только любовь тяготила Лоренцу, не только от любви стало прерывистым ее дыхание.
Она погрузилась в сон, похожий на летаргию или, скорее, на смерть.
Лоренца грезила; словно в кошмаре, она увидела, как в надвигавшейся темноте от дубового потолка отделился круглый витраж и стал медленно и плавно опускаться на пол со страшным свистом; ей казалось, что она вот-вот задохнется, раздавленная надвигавшимся люком.
Наконец она будто во сне заметила, что на этом подъемном люке зашевелилось что-то бесформенное, как Калибан в "Буре": это было чудовище с человеческим лицом, старик, у которого живыми были только глаза и руки; он не сводил с нее жутких глаз и тянул к ней высохшие руки.
Она, бедняжка, стала извиваться, тщетно пытаясь убежать и не догадываясь об угрожавшей ей опасности, не чувствуя ничего, кроме прикосновения лап, вцепившихся в ее белое платье, приподнявших ее над софой и перенесших на подъемный люк. Затем люк стал медленно подниматься к потолку с отвратительным металлическим скрежетом, а из мерзкой пасти чудовища в человеческом обличье вырвался демонический, леденящий душу хохот. Старик уносил свою жертву, а она так ничего и не почувствовала.
CXXX
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК
Как и предсказала Лоренца, в дверь стучала графиня Дюбарри.
Прекрасная куртизанка была приглашена в гостиную. В ожидании Бальзамо она листала отпечатанную в Майнце любопытную книгу о смерти; на искусно выполненных гравюрах было показано, что смерть присутствует в любом проявлении человеческой жизни, то подкарауливая человека у выхода из бальной залы, где он только что пожимал руку любимой женщине; то затягивая его на дно во время купания; то притаившись в стволе ружья, с которым человек отправился на охоту.
Графиня Дюбарри дошла до гравюры, на которой была изображена дама, нарумянивавшая щеки и любовавшаяся своим отражением в зеркале, но тут Бальзамо толкнул дверь и подошел к посетительнице со счастливой улыбкой, словно освещавшей его лицо изнутри.
— Прошу прощения, графиня, что заставил вас ждать, но я неверно рассчитал время, плохо зная ваших лошадей, и потому полагал, что вы только что выехали на площадь Людовика Пятнадцатого.
— Что вы говорите? — воскликнула графиня. — Значит, вам было известно, что я приеду к вам?
— Да, графиня: около двух часов назад я вас видел в вашем будуаре, отделанном голубым атласом; вы отдавали приказание заложить ваших лошадей.
— И вы говорите, что я была в своем будуаре, отделанном голубым атласом?
— Да, атлас расшит цветами. Вы лежали на софе. В ту минуту вас посетила прекрасная мысль. Вы подумали: "А не съездить ли мне к графу де Фениксу?" И вы позвонили.
— Кто вошел на мой звонок?
— Ваша сестра, не так ли? Вы передали ей свое приказание, и оно тотчас было выполнено.
— Вы, граф, и в самом деле колдун! Вы заглядываете в мой будуар в любое время? Вам бы следовало предупредить меня, слышите?
— Будьте уверены, графиня, я заглядываю лишь в отворенные двери.
— И, глядя через растворенную дверь, вы увидали, что я думаю о вас?
— Ну, конечно, и не просто думали, а имели добрые намерения.
— Да, вы правы, дорогой граф: я испытываю к вам самые теплые чувства; однако признайтесь, что вы заслуживаете большего: вы очень добры ко мне, вы оказываете мне бесценные услуги. Мне кажется, что судьба выбрала вас моим наставником, иными словами, вы призваны сыграть самую трудную из известных мне ролей.
— Признаться, я счастлив, графиня, слышать это из ваших уст. Итак, чем могу быть вам полезен?
— Как? Неужели вы, прорицатель, не можете угадать?
— Позвольте мне, по крайней мере, проявить скромность…
— Будь по-вашему, дорогой граф. Но тогда давайте вначале поговорим о том, что мне удалось сделать для вас.
— Я не могу этого допустить, графиня. Давайте, напротив, поговорим о вас, умоляю вас об этой милости.
— Ну что же, дорогой граф, прежде всего, одолжите мне этот волшебный камень, который делает вас невидимым: мне показалось, что, несмотря на резвость моих лошадей, за моей каретой шпионил кто-то из доверенных герцога де Ришелье.
— И что же этот шпион, графиня?
— Он скакал за моим экипажем на коне.
— Что вы думаете об этом обстоятельстве и с какой целью герцогу понадобилось за вами следить?
— Вероятно, он собирается сыграть со мной одну из своих злых шуток. Как бы вы ни были скромны, граф де Феникс, поверьте, что Бог наделил вас качествами, достаточными для того, чтобы разжечь в сердце короля ревность… из-за моих визитов к вам или ваших — ко мне.
— Графиня! Герцог де Ришелье ни в каком отношении не может быть для вас опасен, — возразил Бальзамо.
— Однако он был опасен, дорогой граф, до одного известного события.
Бальзамо понял, что речь шла о какой-то тайне, которую Лоренца еще не успела ему раскрыть. И потому он не отважился ступить на незнакомую почву: он лишь улыбнулся в ответ.
— Да, он был опасен, — повторила графиня, — и я едва не оказалась жертвой его козней. Да и вы там сыграли кое-какую роль.
— Я? В кознях против вас? Никогда, графиня!
— Разве не вы дали любовный напиток герцогу де Ришелье?
— Какой напиток?
— Приворотное зелье, заставляющее влюбиться без памяти.
— Нет, сударыня, такой напиток господин де Ришелье умеет варить сам, потому что уже с давних времен владеет его рецептом. Я же дал ему обыкновенный наркотик.
— Правда?
— Клянусь честью!
— А когда господин герцог приходил к вам за этим наркотиком? Припомните, пожалуйста, день, граф, это очень важно.
— Это было в прошлую субботу, как раз накануне того дня, когда я имел честь передать вам через Фрица записочку с просьбой приехать за мной к господину де Сартину.
— Накануне? — вскричала графиня. — Накануне того дня, когда видели, как король отправился к юной Таверне? Ну, теперь все для меня объяснилось!
— Раз все стало вам ясно, значит, вы видите, что за исключением наркотика я здесь ни при чем.
— Да, именно наркотик нас спас.
Бальзамо опять умолк. Он ничего не знал.
— Я счастлив, графиня, — заговорил он после некоторого молчания, — если, сам того не ведая, мог быть вам хоть в чем-нибудь полезен.
— Вы всегда оказываетесь рядом вовремя! Но вы можете оказать мне еще большую услугу, чем это было до сих пор. Милый доктор! Я была очень больна, выражаясь языком политики, и еще сейчас едва ли верю в свое выздоровление.
— Сударыня! — подхватил Бальзамо. — Врач, поскольку он действительно тут присутствует, всегда справляется о симптомах болезни, которую ему предстоит лечить. Соблаговолите поведать мне до мельчайших подробностей, что вам довелось испытать, и, если возможно, не упустите ни одного симптома.
— Нет ничего легче, дорогой доктор или дорогой колдун, как вам будет угодно. Накануне того дня, как был пущен в дело наркотик, его величество отказался сопровождать меня в Люсьенн. Под предлогом усталости его лживое величество остался в Трианоне, чтобы поужинать, как я потом узнала, в компании герцога де Ришелье и барона де Таверне.
— А!
— Теперь вы тоже понимаете!.. Во время этого ужина напиток был подмешан в бокал короля. Он и так благоволил к мадемуазель Андре. Было также известно, что назавтра он не должен встречаться со мной. Значит, он собирался заняться этой крошкой.
— И что же?
— Он ей занялся, вот и все!
— Что же произошло?
— Вот это-то как раз узнать, наверно, очень трудно. Есть люди, которые видели, как его величество направлялся к службам — другими словами, к апартаментам мадемуазель Андре.
— Я знаю, где она живет. Что же было дальше?
— Ах, черт побери, до чего вы скоры, граф! Ведь следить за крадущимся королем небезопасно!
— А все-таки?
— Я могу вам сказать лишь то, что его величество в страшную грозу ночью возвратился в Трианон бледный, трясущийся и в жару, близкий к беспамятству.
— И вы полагаете, что король был напуган не только грозой, — с улыбкой спросил Бальзамо.
— Нет, потому что лакей слышал, как он воскликнул несколько раз: "Мертва! Мертва! Мертва!"
— Да ну? — удивился Бальзамо.
— Это подействовал наркотик, — продолжала Дюбарри, — а король ничего так не боится, как покойников, а после мертвецов — подобия смерти. Он увидел мадемуазель де Таверне, которая необычайно крепко спала, и решил, что она мертва.
— Да, да, действительно, она была мертва, — проговорил Бальзамо, вспомнив, что ускакал тогда, не разбудив Андре, — да, мертва или очень похожа на мертвую. Верно, верно. Что же было дальше, графиня?
— Никто так и не знает, что произошло в ту ночь, вернее, на рассвете. Известно только, что, воротившись к себе, король был охвачен сильнейшей лихорадкой и нервной дрожью, которые утихли лишь на следующий день, когда ее высочеству дофине пришла в голову мысль отворить все окна и показать его величеству яркое солнце и смеющиеся лица. Только тогда исчезли все пугавшие его видения вместе с породившей их темнотой. К полудню королю стало лучше, он выпил бульону и съел крылышко куропатки, а вечером…
— А вечером?.. — переспросил Бальзамо.
— …а вечером, — продолжала Дюбарри, — его величество, очевидно не желая оставаться в Трианоне после пережитого накануне ужаса, приехал ко мне в Люсьенн, и я, дорогой граф, имела случай убедиться, что герцог де Ришелье — почти такой же великий колдун, как и вы.
Торжествующее лицо графини, ее грациозный кокетливый жест завершили ее мысль и окончательно убедили Бальзамо, что фаворитка еще не потеряла свой власти над монархом.
— Так вы мною довольны, графиня?
— Я просто в восторге, граф, клянусь вам! Ведь когда вы говорили мне, что мои опасения напрасны, вы были совершенно правы.
И в знак признательности г-жа Дюбарри протянула ему свою руку, белую, нежную и благоухающую. Правда, эта ручка была не так свежа, как у Лоренцы, но все же ее теплота была достаточно красноречива.
— Теперь поговорим о вас, граф, — молвила она.
Бальзамо поклонился с видом человека, приготовившегося внимательно слушать.
— Вы предотвратили нависшую надо мной опасность, — продолжала г-жа Дюбарри. — Я полагаю, что и мне удалось выручить вас из немалой беды.
— Можно было бы и не упоминать об этом. Я и без того вам признателен, — отвечал Бальзамо, пытаясь скрыть волнение. — Соблаговолите, однако, сказать мне…
— Да, речь идет о той самой шкатулке.
— Так что же, графиня?
— В ней хранились шифры, которые господин де Сартин приказал разгадать сразу всем своим чиновникам. Каждый из них расшифровывал особо, и все они пришли к одному и тому же выводу. Вот почему господин де Сартин прибыл сегодня поутру в Версаль, когда там была я. Он принес с собой все шифровки, а также словарь дипломатических шифров.
— Что же сказал король?
— Король сначала удивился, потом испугался. Короля легко заставить себя слушать, если хорошенько его напугать. Со времен покушения Дамьена одно слово в любых устах безотказно действует на Людовика Пятнадцатого, это слово — "Берегитесь!"
— Следовательно, господин де Сартин обвинил меня в заговоре?
— Прежде всего господин де Сартин попытался меня выпроводить. Однако я отказалась выйти, заявив, что никто так не привязан к королю, как я, и никто не может меня выпроводить, когда с его величеством говорят о грозящей ему опасности. Господин де Сартин стал настаивать, однако я воспротивилась, и король сказал с улыбкой, глядя на меня с хорошо мне известным выражением: "Пусть останется, Сартин, сегодня я ни в чем не могу ей отказать".
Вы понимаете, граф, что в моем присутствии господин де Сартин, помня о нашем с вами многообещающем прощании, побоялся вызвать мое неудовольствие и не стал выдвигать обвинения непосредственно против вас; он стал упирать на недобрые намерения прусского короля по отношению к Франции, на стремления некоторых людей воспользоваться сверхъестественной силой, чтобы облегчить распространение мятежа. Одним словом, он обвинил многих, доказав с расшифрованными бумагами в руках, что все эти люди виновны.
— В чем?
— В чем?.. Граф! Неужели я должна разглашать государственную тайну?..
— Это в то же время и наша с вами тайна, сударыня? Да вы ничем не рискуете! Я заинтересован, как мне кажется, в том, чтобы никому об этом не рассказывать.
— Да, граф, мне известно, что вы очень в этом заинтересованы. Итак, господин де Сартин хотел доказать, что многочисленная, мощная секта, состоящая из отважных и верных членов, ловких и решительных, исподволь подрывала уважение к его королевскому величеству, распространяя о короле слухи.
— Какие?
— Ну, к примеру: что король повинен, мол, в том, что народ голодает.
— А что ответил король?..
— Как обычно, шуткой.
Бальзамо вздохнул с облегчением.
— Что это была за шутка? — спросил он.
— "Раз меня обвиняют в том, что я морю голодом свой народ, — сказал он, — на это можно ответить только одно: "Давайте его накормим!" — "Как так, сир?" — спросил господин де Сартин. "Я готов за свой счет накормить всех, кто распространяет этот слух, и предлагаю им, сверх того, постель в Бастилии".
Бальзамо почувствовал, как дрожь пробежала по его телу; но он не переставал улыбаться.
— Что же было дальше? — спросил он.
— А дальше король мне улыбнулся, словно спрашивая совета.
— "Сир, — сказала я, — никто и никогда не заставит меня поверить в то, что эти маленькие черненькие цифры, которые вам принес господин де Сартин, означают, что вы плохой государь". Начальник полиции стал возражать. "Так же как я не верю, — прибавила я, обращаясь к господину де Сартину, — что ваши служащие умеют их читать".
— Что же сказал король, графиня? — спросил Бальзамо.
— Он сказал, что я, может быть, и права, но господин де Сартин вряд ли ошибается.
— Что было потом?
— Потом было разослано много приказов о заключении без суда и следствия, среди которых — я видела это ясно — господин де Сартин попытался протащить приказ и о вашем аресте. Но я была непоколебима и остановила его одним единственным словом: "Сударь! — сказала я громко, так, чтобы слышал король. — Арестуйте хоть весь Париж, если это доставляет вам удовольствие, это вам по должности полагается; но не смейте прикасаться к одному из моих друзей… иначе!.."
"Ого! — воскликнул король. — Она сердится. Берегитесь, Сартин!"
"Но, сир, в интересах королевства…"
"Вы не Сюлли! — воскликнула я, покраснев от гнева. — А я не Габриель".
"Графиня! Короля могут убить, как когда-то убили Генриха Четвертого". На этот раз король побледнел, затрясся и провел рукой по лбу.
Я решила, что проиграла.
"Сир! — сказала я. — Пусть господин де Сартин договаривает. Я уверена, что его люди вычитали из этих зашифрованных бумаг, что и я замышляла против вас".
И я вышла.
Это происходило как раз на следующий день после дозы любовного напитка, дорогой граф. Король предпочел мое общество компании господина де Сартина и побежал следом за мной.
"Смилуйтесь, графиня, не сердитесь!" — стал он умолять меня.
"Тогда прогоните этого отвратительного господина, сир, от него пахнет тюрьмой".
"Ступайте, Сартин", — пожав плечами, приказал король.
"Я вам навсегда запрещаю, — прибавила я, — не только являться ко мне, но и кланяться мне!"
На сей раз наш начальник полиции потерял голову: он поспешил ко мне и смиренно поцеловал мою руку.
"Ну что ж, будь по-вашему, — сказал он, не будем больше об этом говорить, дорогая графиня, но вы погубите государство. Мои агенты пощадят вашего протеже, раз вы всеми силами этого добиваетесь".
Бальзамо глубоко задумался.
— Что же вы не благодарите меня за то, что я избавила вас от знакомства с Бастилией? Это было бы не так уж несправедливо, может быть, но от этого не стало бы приятнее.
Бальзамо ничего не ответил. Он достал из кармана флакон с ярко-красной жидкостью, похожей на кровь.
— Прошу вас, сударыня! — молвил он. — За свободу, которую вы мне дарите, я хочу вам предложить еще двадцать лет молодости.
Графиня спрятала флакончик на груди и удалилась, радуясь и празднуя победу.
Бальзамо по-прежнему был задумчив.
"Они, возможно, были бы спасены, — подумал он, — если бы не женское кокетство. А ножка этой куртизанки толкает их в бездну. Решительно, с нами Бог!"
CXXXI
КРОВЬ
За графиней Дюбарри не успела закрыться дверь, а Бальзамо уже поднимался по потайной лестнице, желая как можно скорее вернуться в комнату, устланную шкурами.
Беседа с графиней продолжалась долго, и его торопливость объяснялась двумя причинами.
Во-первых, он хотел вновь увидеть Лоренцу; во-вторых, он опасался, что молодая женщина может устать от ожидания, а в новой для нее жизни не должно было оказаться места для скуки; устать она могла оттого, что, как это с ней уже бывало, магнетический сон был способен перерасти в экстаз.
Такое состояние сменялось обыкновенно нервными приступами, после которых Лоренца чувствовала себя совершенно разбитой, если ей вовремя не приходил на помощь Бальзамо, своими флюидами приводивший ее в равновесие.
Притворив за собой дверь, Бальзамо бросил быстрый взгляд на софу, где он оставил Лоренцу.
Ее там не было.
Лишь тонкая кашемировая шаль, расшитая золотыми цветами, оставалась лежать на подушках, словно в доказательство того, что Лоренца пребывала в этой комнате, отдыхала на этой софе.
Бальзамо замер, уставившись на пустую софу. Может быть, Лоренце не понравился странный запах, появившийся в доме со времени ее побега; может быть, она неосознанно, по привычке, оставшейся от ее прошлой, реальной жизни, воспользовалась свободой и перешла в другую комнату.
Первая мысль, мелькнувшая у Бальзамо: Лоренца возвратилась в лабораторию, куда несколько времени назад она его сопровождала.
Он вошел в лабораторию. С первого взгляда она казалась пустой, но ведь в тени огромной печи женщина могла бы легко укрыться за ковром восточной работы.
Он приподнял ковер, обошел вокруг печи, но так и не приметил даже следа Лоренцы.
Оставалась комната молодой женщины, куда, вероятно, она и возвратилась.
Эта комната была для нее тюрьмой, когда она находилась в состоянии бодрствования.
Он бросился в комнату, но сейчас же обнаружил, что каминная доска, служившая дверью потайного хода, оставалась запертой.
Это еще не доказывало, что Лоренца не вернулась к себе. В самом деле, Лоренца и во сне сохраняла ясность ума: почему бы ей было не вспомнить, как действует механизм? А вспомнив, она подчинилась галлюцинации, не до конца изгладившейся в ее мозгу.
Бальзамо привел пружину в действие.
В комнате, как и лаборатории, никого не было: видимо, Лоренца туда не входила.
Тогда его пронзила мучительная догадка; она, как помнит читатель, уже приходила ему в голову, и теперь эта мысль овладела им целиком, не оставив ни малейшей надежды на казавшееся когда-то возможным счастье.
Должно быть, Лоренца играла роль: она притворилась спящей, усыпила недоверие, беспокойство, бдительность своего супруга и при первой же возможности, едва обретя свободу, снова сбежала, еще более уверенная в том, что ей надлежало делать, потому что была уже научена опытом.
Бальзамо так и подскочил от этой мысли. Он позвонил Фрицу.
Затем, гонимый нетерпением, он бросился навстречу замешкавшемуся Фрицу и столкнулся с ним на потайной лестнице.
— Синьора?.. — бросил он.
— Что угодно хозяину? — спросил Фриц, догадавшись по взволнованному виду Бальзамо, что произошло нечто из ряда вон выходящее.
— Ты ее видел?
— Нет, хозяин.
— Она никуда не выходила?
— Откуда?
— Из дому.
— Не выходил никто, за исключением графини, я только что запер за ней дверь.
Потеряв голову, Бальзамо снова побежал наверх. Он вообразил, что безумная женщина, которая во сне была совсем не похожа на себя бодрствующую, решила позабавиться. Он решил, что она притаилась в каком-нибудь уголке и читает оттуда в его сердце, хохоча над ним и его опасениями, и вот-вот выйдет, чтобы его успокоить.
Он приступил к тщательным поискам.
Он облазил все уголки, заглянул во все шкапы, переставил с места на место каждую ширму. Словно ослепленный страстью, он был похож на безумца и шатался как пьяный. У него даже не было сил на то, чтобы раскрыть объятия и крикнуть: "Лоренца! Лоренца!" — в надежде на то, что обожаемое создание с радостным криком бросится ему на шею.
Гробовая тишина, глухое и безнадежное молчание было единственным ответом на эту безумную мысль и отчаянный призыв.
Он бегал, передвигал мебель, разговаривал со стенами, звал Лоренцу, смотрел невидящим взором, прислушивался, но ничего не слышал, трепетал — вот в каком состоянии пребывал Бальзамо несколько минут, а ему казалось, что пролетела целая вечность.
Понемногу он стал приходить в себя, опустил руку в вазу с ледяной водой, смочил виски. Потом он сильно сжал одну руку другой, словно приказывая себе остановиться, и усилием воли заставил себя успокоиться: кровь перестала стучать в висках. Когда человек не замечает, как пульсирует кровь, это свидетельствует о нормальном течении жизни, но как только пульс в висках становится ощутимым и отдается в голове, это говорит о приближении смерти или безумия.
"Давай размышлять трезво, — обратился он к самому себе, — Лоренцы здесь больше нет, нечего себя обманывать.
Лоренцы здесь нет, значит, она вышла. Да, вышла, разумеется, вышла!"
Он еще раз огляделся и позвал ее.
"Вышла… — продолжал он размышлять. — Напрасно Фриц утверждает, что не видел ее. Она вышла, конечно, вышла.
Возможны два варианта.
Либо Фриц в самом деле ничего не видел, в чем ничего невероятного нет, так как человеку свойственно ошибаться, либо он видел ее и подкуплен Лоренцой.
Фриц — подкуплен?
А почему бы и нет? Его верная служба мне еще ни о чем не говорит. Если Лоренца, если любовь, если знания могли до такой степени обмануть и предать, почему же хрупкому и грешному по природе своей человеку не обмануть меня?
Я все узнаю, все! Ведь у меня есть мадемуазель де Таверне!
Да, через Андре я узнаю о предательстве Фрица, Андре расскажет мне о предательстве Лоренцы, и уж на сей раз… На сей раз, когда любовь оборачивается обманом, знания — ошибкой, верность — ловушкой, Бальзамо будет безжалостен и отомстит всем, как умеет мстить могущественный человек, не знающий пощады и руководствующийся гордыней!"
Теперь надлежало как можно скорее выйти из дому, не подав Фрицу вида, что он о чем-то догадывается, и поспешить в Трианон.
И Бальзамо, подхватив шляпу, упавшую на пол, рванулся к двери, но в тот же миг остановился:
— Да, но прежде всего… Боже мой! Бедный старик, я совсем о нем забыл! Прежде всего надо повидаться с Альтотасом — ведь я в любовном бреду забросил несчастного старика! Какой же я неблагодарный! Как я бесчеловечен!
В лихорадочном возбуждении, охватившем его с некоторых пор, Бальзамо подошел к пружине, с помощью которой привел в действие рычаг в потолке.
В тот же миг подъемный люк опустился.
Бальзамо ступил на него и с помощью противовеса стал подниматься, все еще находясь в смятении, не думая ни о чем, кроме как о Лоренце.
Едва люк стал на место и Бальзамо оказался в комнате Альтотаса, голос старика поразил его слух и отвлек от мучительных раздумий.
Однако, к великому изумлению Бальзамо, первые слова старика были сказаны не в упрек ему, как он того ожидал: старик встретил его настоящим взрывом веселья.
Ученик поднял на учителя удивленный взгляд.
Старик откинулся в своем необыкновенном кресле; он дышал шумно и с наслаждением, словно с каждым глотком воздуха становился моложе. Его глаза мрачно поблескивали, однако улыбка скрашивала их выражение; он в упор разглядывал своего посетителя.
Бальзамо собрался с силами и с мыслями, не желая показывать своего смятения учителю, нетерпимо относившемуся к человеческим слабостям.
В эту минуту Бальзамо почувствовал какую-то непривычную тяжесть в груди. Было очень душно, в комнате был разлит тяжелый, пресный, теплый, тошнотворный запах: такой же, правда слабее, Бальзамо почувствовал еще внизу; он словно висел в воздухе и напоминал пар, поднимающийся над озером или болотом по осени на рассвете или на закате. Он липнул к телу и каплями влаги оседал на стеклах.
Оказавшись в этой едкой и удушливой атмосфере, Бальзамо почувствовал слабость, мысли его смешались, голова пошла кругом, стало казаться, будто ему отказывают силы и не хватает воздуха.
— Учитель! — сказал он, поискав глазами, на что бы опереться и пытаясь вздохнуть полной грудью. — Учитель, как вы можете здесь жить? Здесь нечем дышать!
— Ты находишь?
— О!
— А мне, напротив, дышится легко! — шутливо отвечал Альтотас. — И как видишь, я здесь прекрасно живу!
— Учитель! Учитель! — вскричал Бальзамо, ощущая все большую тяжесть. — Подумайте о себе! Позвольте мне отворить окно, от паркета словно поднимаются пары крови.
— Крови? Ты так думаешь?.. Крови! — воскликнул Альтотас, разражаясь смехом.
— Да, да, я чувствую миазмы, исходящие от свежего трупа! Кажется, их можно потрогать руками — так они тяжелы; они давят мне и на мозг и на сердце.
— Это верно, — насмешливо проворчал старик, — я уже замечал, что у тебя нежное сердце и очень хрупкий мозг, Ашарат!
— Учитель, — обратился к Альтотасу Бальзамо, показывая на него пальцем, — учитель, у вас на руках кровь… Учитель! Кровь и на вашем столе… Учитель! Кровь — всюду, даже в ваших глазах: они мерцают, словно угли… Учитель! Царящий здесь запах, от которого у меня кружится голова, от которого я задыхаюсь, — это запах крови!
— Ну и что же? — невозмутимо проговорил Альтотас. — Ты что, разве в первый раз чувствуешь этот запах?
— Нет.
— Разве ты никогда не видел меня во время опытов? Разве ты сам их не проводил?
— Но не с человеческой кровью!.. — возразил Бальзамо, вытирая рукою пот со лба.
— Какое у тебя тонкое обоняние! — удивился Альтотас. — Никогда бы не подумал, что можно человеческую кровь отличить от крови животного.
— Человеческая кровь! — пробормотал Бальзамо.
Пошатываясь, он по-прежнему искал, на что бы опереться, и вдруг с ужасом заметил большой медный таз, блестящие стенки которого отсвечивали пурпуром свежепущенной крови.
Огромный таз был наполовину полон.
Бальзамо в ужасе отпрянул.
— Это кровь! — вскрикнул он. — Откуда эта кровь?
Альтотас не отвечал, продолжая пристально следить за малейшим изменением в лице Бальзамо. Внезапно Бальзамо взвыл страшным голосом.
Он кинулся, словно хищная птица за добычей, к валявшемуся на полу клочку расшитой серебром шелковой ленты, к которой пристала длинная прядь черных волос.
Пронзительный, полный невыносимой муки крик сменился гробовой тишиной.
Потом Бальзамо медленно поднял ленту, с дрожью разглядывая прядь волос, зацепившуюся одним концом за золотую булавку, приколотую к ленте; с другой стороны ровно обрезанные кончики волос были в крови, на них дрожали крупные красные капли.
По мере того как Бальзамо поднимал руку, дрожь ее становилась все заметнее.
По мере того как Бальзамо вглядывался в окровавленную ленту, он бледнел все сильнее.
— А это откуда? — пробормотал он шепотом, однако достаточно громко, чтобы можно было уловить в его голосе вопрос.
— Это? — переспросил Альтотас.
— Да, это.
— Лента для волос.
— А волосы, волосы… В чем они?
— Ты отлично видишь: в крови.
— В какой крови?
— Черт побери! Да в той, что была мне нужна для эликсира; в той, какую ты отказался для меня раздобыть; вот мне после твоего отказа и пришлось это сделать самому.
— А эти волосы, эта прядь, эта лента… Где вы их взяли? Ведь все это не могло принадлежать младенцу.
— Кто тебе сказал, что я прирезал младенца? — невозмутимо проронил Альтотас.
— Разве вам для эликсира была нужна не детская кровь? — вскричал Бальзамо. — Вы же сами мне сказали!
— Или кровь девственницы, Ашарат… или девственницы…
Альтотас протянул иссохшую руку к склянке с какой-то жидкостью, с наслаждением, смакуя, отпил глоток и продолжал самым естественным и потому особенно пугающим тоном:
— Ты хорошо сделал, Ашарат, ты мудро и предусмотрительно поступил, поместив эту женщину прямо у меня под ногами, почти на расстоянии вытянутой руки. Человечеству не на что пожаловаться, а закону не во что вмешиваться. Это не ты добыл для меня девственницу, без которой я бы погиб. Я сам добыл ее. Хе-хе! Спасибо, дорогой ученик, спасибо, милый Ашарат!
Он опять поднес склянку к губам.
Бальзамо выронил из рук прядь волос — его ослепила страшная догадка.
Прямо против него огромный мраморный стол старика, обыкновенно заваленный травами, книгами, заставленный склянками, был теперь покрыт большим белым шелковым покрывалом с темными цветами; кровавые отблески от лампы Альтотаса падали на это покрывало, и под ним угадывались пугающие очертания, на что не сразу обратил внимание Бальзамо.
Си взял покрывало за один угол и дернул на себя.
Волосы у него на голове зашевелились, он задохнулся от крика.
Под саваном он увидел труп Лоренцы. Она вытянулась во всю длину стола, смертельная бледность была разлита по ее лицу, однако губы еще морщились в улыбке, а голова была откинута, будто изнемогая под тяжестью длинных волос.
Над ключицей зияла огромная рана, из которой уже не сочилась кровь.
Руки ее успели застыть, глаза были плотно прикрыты бледными веками сиреневого оттенка.
— Да, кровь девственницы, три последние капли артериальной крови девственницы — вот что мне было необходимо, — проговорил старик, в третий раз прикладываясь к склянке.
— Негодяй! — крикнул Бальзамо, и этот отчаянный крик отозвался в каждой клеточке его существа. — Умри же! Знай, что она уже четыре дня, как стала моей любовницей, моей возлюбленной, моей женой! Ты убил ее напрасно… Она не была девственницей!
Ресницы Альтотаса дрогнули при этих словах, будто глаза хотели выскочить из орбит под действием электрического удара. Зрачки его страшно расширились, челюсти скрипнули, несмотря на отсутствие зубов, склянка выскользнула из рук, упала на пол и разлетелась на куски, а сам старик, потрясенный и поверженный, стал медленно и тяжело заваливаться в кресле.
Бальзамо с рыданиями склонился над телом Лоренцы и упал без чувств, прижавшись губами к ее окровавленным волосам.
CXXXII
ЧЕЛОВЕК И БОГ
Минуты, похожие на легкокрылых богинь, взявшись за руки, имеют обыкновение медленно парить над несчастным, зато стремительно проносятся над головами счастливцев, — минуты беззвучно пали, сложив крылья; в комнате слышались рыдания и вздохи: время остановилось.
С одной стороны была смерть, с другой — агония.
А посередине царило отчаяние, столь же мучительное, как агония, такое же бездонное, как смерть.
Бальзамо не проронил ни звука с того самого мгновенья, как у него из груди вырвался душераздирающий крик.
Со времени ошеломляющего открытия, сразившего злорадного Альтотаса, Бальзамо не двинулся с места.
А мерзкий старик, безжалостно сброшенный с высоты бессмертия в ту жизнь, что Господь уготовил всем людям, казалось, чувствовал себя раненой птицей, свалившейся с небес прямо в озеро, на поверхности которого она бьется, не имея сил расправить крылья.
Недоумение, написанное на бледном взволнованном лице старика, свидетельствовало о его крайней растерянности.
Действительно, Альтотас даже не давал себе труда сосредоточиться с того мига, как цель его жизни, которая казалась ему непоколебимой, словно скала, в одно мгновение растаяла на его глазах как дым.
Его угрюмое и безмолвное отчаяние отчасти напоминало отупение. Для человека, не привыкшего сопоставлять ход чужих мыслей со своими мыслями, молчание старика могло бы, вероятно, показаться задумчивостью, попыткой найти выход из создавшегося положения; для Бальзамо, даже не повернувшего в его сторону головы, было ясно, что это агония, что могуществу, разуму, жизни Альтотаса приходит конец.
Альтотас не сводил глаз с разбитой склянки, олицетворявшей для него гибель его надежд; можно было подумать, что он пересчитывает бесчисленные осколки: разлетевшись, каждый из этих осколков словно сократил жизнь старика на один день; можно было подумать, что он взглядом хотел собрать драгоценную, растекшуюся по паркету жидкость, которую он совсем недавно считал залогом своего бессмертия.
Когда боль разочарования становилась невыносимой, старик поднимал затуманенный взор на Бальзамо, а потом переводил его на труп Лоренцы.
В такие минуты он походил на попавшего в ловушку дикого зверя, которого охотник находит поутру пойманным за лапу; охотник долго пинает его ногой, так и не заставив повернуть голову, а когда человек закалывает его охотничьим ножом или штыком своего ружья, зверь косит в его сторону налитым кровью глазом: в нем застыли и ненависть, и жажда мести, и упрек, и удивление*
"Неужели возможно, — говорил взгляд Альтотаса, еще довольно выразительный, несмотря на близкую кончину старика, — мыслимо ли, чтобы столько несчастий, столько поражений свалилось на мою голову, а всему виной — этот ничтожный человек, всего в нескольких шагах от меня стоящий на коленях перед такой заурядностью, как эта мертвая женщина? Ведь это противоестественно, это противоречит науке и означает конец здравого смысла, чтобы такое грубое создание, как мой ученик, обмануло такого необыкновенного наставника, как я. Не чудовищно ли, что пылинка на полном ходу остановила бег великолепной стремительно мчавшейся бессмертной колесницы?"
Бальзамо был разбит, повержен; он не издавал ни единого звука, не мог шевельнуть пальцем; в его воспаленном мозгу не рождалось ни одной мысли, словно жизнь его была кончена.
Лоренца, его Лоренца! Лоренца, его жена, его кумир! Вдвойне дорогое ему существо, воплощавшее в себе для него ангела чистоты и любимую женщину! Лоренца, дарившая ему наслаждение и славу, настоящее и будущее, силу и веру! Лоренца, сочетавшая в себе все, что он любил, все, чего он желал, все, к чему он стремился в жизни! Лоренца была для него потеряна навсегда!
Он не плакал, не рыдал, не вздыхал.
Едва ли он умел осмыслить, какое ужасное несчастье пало на его голову. Он был похож на несчастного, застигнутого наводнением в своей постели в кромешной темноте; ему снится, что вокруг него вода; потом он просыпается, раскрывает глаза и, видя, что его вот-вот накроет ревущая волна, не успевает даже крикнуть, прежде чем наступит небытие.
Вот уже три часа Бальзамо казалось, что он погребен и лежит глубоко в земле; сквозь невыносимую боль он принимал все происходившее за одно из тех кошмарных сновидений, что посещают покойников в вечной и безмолвной ночи гробниц.
Для него не существовало более Альтотаса, а значит, не было в его сердце ни ненависти, ни жажды мщения.
Для него не было более Лоренцы, а вместе с ней оказались навсегда потеряны жизнь и любовь.
Сон, тьма, небытие!
Так проходило время — ненавистное, неслышное, бесконечное — в этой комнате, где кровь остывала, отдав свою животворную силу жаждавшим атомам.
Неожиданно среди ночного безмолвия три раза прозвенел колокольчик.
Очевидно, Фриц знал, что хозяин находится у Альтотаса, потому что колокольчик звонил в комнате старика.
Но, хотя звонок прозвенел трижды с какой-то странной резкостью, звук его растаял в воздухе.
Бальзамо даже не поднял головы.
Спустя несколько минут колокольчик зазвонил вновь, Бальзамо был по-прежнему в состоянии оцепенения.
После некоторого перерыва, однако меньшего, чем предыдущие, колокольчик зазвонил в комнате в третий раз, нетерпеливо и резко.
Нимало не удивившись, Бальзамо медленно поднял голову, вопросительно глядя в пространство с торжественностью мертвеца, восставшего из гроба.
Так, должно быть, смотрел Лазарь, когда голос Христа трижды воззвал к нему.
Колокольчик звонил не умолкая.
Его все возраставшая настойчивость пробудила, наконец, ум возлюбленного Лоренцы.
Он отнял руку от трупа.
Тепло оставило Бальзамо, но так и не перетекло в тело Лоренцы.
"Великая новость или большая опасность, — сказал он себе. — Хорошо бы, если бы это была опасность!"
Он поднялся на ноги.
— А почему, собственно говоря, я должен отвечать на этот зов? — продолжал он теперь размышлять вслух, не слыша того, как гулко отозвались его слова под мрачными сводами похожей на склеп комнаты. — Может ли отныне что-нибудь меня заинтересовать или напугать в этом мире?
Словно отвечая ему, колокольчик так оглушительно звенел медным языком по бронзовым бокам, что язык не выдержал, сорвался и упал на стеклянную реторту: она звякнула и разлетелась на мелкие кусочки.
Бальзамо не стал далее упорствовать; да кроме того, было важно, чтобы ни единая душа, в том числе и Фриц, не застали его в этой комнате.
Он размеренным шагом подошел к пружине, привел ее в действие и встал на подъемный люк, плавно опустивший его в комнату со звериными шкурами.
Проходя мимо софы, он задел шаль, упавшую с плеч Лоренцы, когда безжалостный старик, невозмутимый, как сама смерть, унес итальянку в своих лапах.
Прикосновение шали, еще более волнующее, чем прикосновение самой Лоренцы, вызвало у Бальзамо скорбную дрожь.
Он взял шаль в руки и прижался к ней губами, едва сдерживая рыдания.
Потом он подошел к двери на лестницу и отворил ее.
На верхней ступеньке стоял бледный, запыхавшийся Фриц. В одной руке он держал факел, а другой продолжал машинально дергать шнурок звонка, с нетерпением ожидая появления хозяина.
Увидав Бальзамо, он сначала удовлетворенно вскрикнул, потом из груди его снова вырвался крик, на сей раз удивленный и испуганный.
Не понимая причину его испуга, Бальзамо взглянул на него вопросительно.
Фриц ничего не ответил, однако позволил себе, несмотря на глубокую почтительность, взять хозяина за руку и подвести его к огромному венецианскому зеркалу, украшавшему полку камина, через который можно было проникнуть в комнату Лоренцы.
— Взгляните, ваше сиятельство! — сказал он, указывая графу на его отражение.
Бальзамо содрогнулся.
Затем по лицу его пробежала горькая усмешка, свойственная глубоко страдающим или неизлечимо больным людям.
Теперь он понимал, что в его облике так напугало Фрица.
За один час Бальзамо состарился лет на двадцать: глаза утратили блеск, исчез румянец, черты лица застыли, взгляд стал безучастным, на губах запеклась кровь, огромное кровавое пятно растеклось по когда-то белоснежной батистовой рубашке.
Бальзамо с минуту разглядывал себя, не узнавая, потом с решимостью вперил взгляд в глаза смотревшему на него из зеркала незнакомцу.
— Да, Фриц, да, — молвил он, — ты прав.
Заметив, что верный слуга обеспокоен, он спросил:
— Зачем ты меня звал?
— Это из-за них, хозяин.
— Из-за них?
— Да.
— Кто же это?
— Ваше сиятельство! — прошептал Фриц, наклоняясь к уху Бальзамо. — Там пять мастеров.
Бальзамо вздрогнул.
— Все пятеро? — спросил он.
— Да, все.
— Они внизу?
— Да.
— Одни?
— Нет. При каждом из них — вооруженный слуга, который дожидается во дворе.
— Они пришли все вместе?
— Да, хозяин, и уже начинают терять терпение, вот почему я так долго и громко звонил.
Не пытаясь скрыть под кружевным жабо кровавое пятно, даже не приводя себя в порядок, Бальзамо стал спускаться по лестнице, справившись у Фрица, где расположились пришедшие: в гостиной или в большом кабинете.
— В гостиной, ваше сиятельство, — отвечал Фриц, следуя за хозяином.
Спустившись до конца лестницы, он отважился задержать Бальзамо.
— Не будет ли каких-нибудь приказаний вашего сиятельства?
— Нет, Фриц.
— Ваше сиятельство… — робко пробормотал Фриц.
— Что такое? — ласково обратился к нему Бальзамо.
— Ваше сиятельство отправляется к ним без оружия?
— Да, без оружия.
— Даже без шпаги?
— Зачем мне шпага, Фриц?
— Не знаю, право, — замялся преданный слуга, опустив глаза, — я думал… я полагал… я боялся, что…
— Ну хорошо, вы свободны, Фриц.
Фриц пошел было прочь и снова вернулся.
— Разве вы не слыхали, что я сказал? — спросил Бальзамо.
— Ваше сиятельство! Я хотел только напомнить, что ваши двуствольные пистолеты лежат в шкатулке черного дерева на золоченом столике.
— Идите, говорят вам! — сказал Бальзамо.
И вошел в гостиную.
CXXXIII
СУД
Фриц был совершенно прав: гости Бальзамо явились в дом на улице Сен-Клода далеко не с мирными намерениями и были настроены отнюдь не благожелательно.
Пять всадников сопровождали дорожную карету, в которой прибыли мастера. Пятеро мужчин надменного и мрачного вида были вооружены до зубов; они заперли ворота и стали их охранять в ожидании хозяев.
Кучер и два лакея, сидевшие на козлах кареты, прятали под плащами охотничьи ножи и мушкетоны. Все эти люди прибыли на улицу Сен-Клода не с визитом, а скорее для нападения.
И потом, такое ночное вторжение страшных людей, которых признал Фриц, такой захват особняка приступом сначала вселило в немца невыразимый ужас. Он попытался было преградить непрошеным гостям путь, как вдруг увидел в глазок эскорт и приметил оружие. Однако всесильные условные знаки — неумолимое свидетельство права прибывших на вторжение — не позволили ему вступать в пререкания. Едва ступив за ворота, пришельцы, словно бывалые служаки, заняли места на страже у каждого выхода из дома, даже не пытаясь скрыть своих недоброжелательных намерений.
Поведение мнимых слуг во дворе и в коридорах, так же как в гостиной их так называемых хозяев, не предвещало, по мнению Фрица, ничего хорошего; вот почему он звонил так неистово, пока вовсе не оборвал колокольчик.
Ничему не удивляясь, никак не готовясь к встрече, Бальзамо вошел в гостиную. Фриц уже успел зажечь здесь все свечи, что входило в его обязанности, когда в доме бывали посетители.
Бальзамо увидел пятерых гостей, сидевших в креслах; ни один из них не поднялся при его появлении.
Тогда он, как хозяин дома, вежливо поклонился им.
Только после этого они встали и надменно кивнули ему в ответ.
Он сел в кресло напротив, не замечая или делая вид, что не замечает, как странно расположились присутствовавшие. В самом деле, пять кресел стояли полукругом, подобно античному трибуналу, с местами председательствующего и асессоров, возвышающихся посредине. Кресло же Бальзамо, стоявшее как раз против председательского, занимало место, которое на церковных соборах или в суде претора обыкновенно отводилось обвиняемому.
Бальзамо не пожелал заговорить первым, как он поступил бы при других обстоятельствах. Он смотрел невидящим взглядом, так и не оправившись от удара и еще находясь в состоянии мучительного оцепенения.
— Кажется, ты нас понял, брат, — обратился к нему председатель, или, вернее, тот, кто занимал центральное кресло. — Однако ты не очень-то торопился нас увидеть; мы даже подумывали послать кого-нибудь на поиски.
— Я вас не понимаю, — просто ответил Бальзамо.
— А у меня сложилось иное мнение, когда я увидел, как ты с виноватым видом садился против нас.
— С виноватым видом? — рассеянно пробормотал Бальзамо и пожал плечами. — Не понимаю, — повторил он.
— Сейчас мы тебе все объясним, это будет несложно, судя по твоему бледному лицу, потухшему взору, дрожащему голосу… Можно даже подумать, что тебе отказывает слух.
— Я вас слышу хорошо, — возразил Бальзамо, качая головой, словно пытался отделаться от надоевшей мысли.
— Ты, вероятно, помнишь, брат, — продолжал председатель, — что на последнем заседании верховный комитет представил свое мнение о том, что среди высших чинов ордена кто-то замышляет предательство?
— Возможно… да… не отрицаю.
— Ты отвечаешь так, как подобает человеку с нечистой совестью. Возьми же себя в руки… не губи себя сам. Отвечай ясно, четко, как того требует ужасное положение, в котором ты находишься. Ответь мне так, чтобы мы могли убедиться в твоей непричастности, потому что мы явились без предубеждения, без ненависти. Мы олицетворяем закон; он начинает действовать только после того, как судья выслушает все стороны.
Бальзамо не проронил ни звука.
— Повторяю тебе, Бальзамо, и мое предупреждение будет рассматриваться как сигнал к бою: я собираюсь атаковать тебя с мощным, но законным оружием в руках, так защищайся же!
Видя, что Бальзамо безучастен и неподвижен, присутствовавшие с удивлением переглянулись, а затем перевели глаза на председательствовавшего.
— Ты слышал, что я сказал, Бальзамо? — повторил председатель.
Бальзамо утвердительно кивнул головой.
— Я по-дружески, по-братски уведомил тебя и дал тебе понять о цели моего допроса. Итак, ты предупрежден: берегись! Я начинаю.
После полученного свыше сигнала, — продолжал председатель, — братство избрало пятерых членов и поручило им следить в Париже за тем из братьев, на которого нам указали как на предателя.
Наши сведения не вызывают сомнений; как правило, мы получаем их, насколько тебе известно, от преданных нам агентов или из верных источников, а также принимаем во внимание таинственные природные явления, известные пока только нам. Итак, у одного из нас ты вызвал подозрение, а мы знаем, что он еще никогда не ошибался; тогда мы стали держаться настороже и начали за тобой следить.
Бальзамо слушал, не проявляя ни малейшего беспокойства, словно вообще не понимал, о чем идет речь. Председательствовавший продолжал:
— За таким человеком, как ты, следить нелегко: ты повсюду вхож, твоя задача — бывать там, где живут наши недруги, где они имеют хоть какую-нибудь власть. У тебя в распоряжении огромные средства, которые общество предоставляет тебе для окончательной победы нашего дела. Мы долгое время пребывали в сомнении, видя, как тебя посещают такие наши враги, как Ришелье, Дюбарри, Роган. Кроме того, на последнем нашем собрании на улице Платриер ты произнес полную любопытных противоречий речь, убедившую нас в том, что ты только играешь роль, посещая этих людей и льстя им, в то время как дело заключается в том, чтобы стереть эту неисправимую породу с лица земли. Мы некоторое время с уважением относились к твоему таинственному поведению, надеясь на благоприятный результат, однако нас ждало разочарование.
Бальзамо был по-прежнему неподвижен, невозмутим, и председатель почувствовал нетерпение.
— Три дня назад было разослано пять указов о заточении без суда и следствия. Их потребовал у короля господин де Сартин. Они были незамедлительно составлены и подписаны. В тот же день пять наших главных агентов, наиболее верных братству членов, живущих в Париже, были арестованы и препровождены: двое — в Бастилию, где содержатся в строжайшей тайне; двое — в Венсен, в подземную темницу; один — в Бисетр, в одну из самых страшных одиночных камер. Ты слышал обо всех этих подробностях?
— Нет, — отвечал Бальзамо.
— Вот это странно, судя по тому, что мы знаем о твоих связях с могущественными лицами в королевстве. Но еще более странно вот что!
Бальзамо насторожился.
— Чтобы арестовать пятерых верных братьев, господин де Сартин должен был иметь перед глазами единственную запись, в которой упоминаются все пять жертв. Эта запись была послана тебе Высшим советом в тысяча семьсот шестьдесят девятом году, и ты самолично должен был принять новых членов и немедленно возвести их в степень, дарованную им Советом.
Бальзамо жестом дал понять, что ничего такого не припоминает.
— Я сейчас помогу тебе вспомнить. Пять упомянутых человек были обозначены пятью арабскими буквами, а буквы соответствовали в посланной тебе записке именам и шифрам новых членов.
— Допустим, что так, — согласился Бальзамо.
— Ты признаешь это?
— Я готов признать все, что вам будет угодно.
Председательствующий взглянул на асессоров, словно призывая их принять во внимание это признание.
— В той же самой записке, единственной, — заметь! — которая могла скомпрометировать братьев, — продолжал он, — было еще одно имя, помнишь?
Бальзамо не проронил в ответ ни звука.
— Это имя было: граф де Феникс!
— Согласен, — кивнул Бальзамо.
— Имена пятерых братьев попали в указ, а твое имя произносится при дворе или в приемной министра с благосклонностью, с любовью… Почему? Если наши братья заслужили тюрьму, ты тоже ее заслуживаешь. Что ты на это скажешь?
— Ничего.
— A-а, я предвижу твое возражение. Ты можешь сказать, что полиция проведала об именах менее известных братьев, а твое имя — посла и могущественного лица — не могло не вызвать у полицейских уважения; ты даже можешь сказать, что оно не вызвало подозрений.
— Я не буду этого отрицать.
— Твоя гордыня переживет твое доброе имя!.. Полиция могла узнать о наших братьях только из конфиденциального сообщения, посланного тебе Высшим советом, и вот каким образом она это сделала… Ты держал запись в шкатулке, не правда ли?
Однажды из твоего дома вышла женщина со шкатулкой под мышкой. Ее видел один из наших наблюдателей и следовал за ней до особняка начальника полиции в предместье Сен-Жермен. Мы могли задушить несчастье в зародыше: стоило нам забрать шкатулку и арестовать эту женщину, как все успокоилось бы и ничто не вышло бы из-под нашего надзора. Однако мы подчинились параграфам нашего устава, предписывающего почитать таинственные средства, с помощью которых некоторые из членов братства служат общему делу, даже когда эти средства кажутся всем предательством или неосторожностью.
Было похоже, что Бальзамо одобрил это утверждение едва заметным жестом. Однако если бы он не был до этого неподвижен, его жест мог бы остаться незамеченным.
— Эта женщина дошла до самого начальника полиции, — продолжал председатель. — Она вручила ему шкатулку, и все открылось, верно?
— Совершенно верно.
Председатель поднялся.
— Кто была эта женщина? — воскликнул он. — Красивая, страстная, преданная тебе душой и телом, нежно тобой любимая, умная, ловкая и проворная, словно один из демонов, помогающих человеку преуспеть в совершении зла? Это была Лоренца Феличиани, твоя жена, Бальзамо!
Бальзамо взвыл от отчаяния.
— Теперь мы тебя убедили? — спросил председатель.
— Заканчивайте, — сказал обвиняемый.
— Я не договорил. Спустя четверть часа после того, как она вошла к начальнику полиции, ты тоже вошел туда. Она посеяла предательство, а ты пришел собрать плоды вознаграждения. Как покорная служанка, она взяла на себя совершение преступления, ты же явился, чтобы довершить подлое дело. Лоренца вышла одна. Ты, несомненно, отступился от нее и не хотел порочить свое имя, появляясь в ее обществе. Ты вышел с торжествующим видом вместе с графиней Дюбарри, прибывшей туда по твоему приглашению, чтобы получить из твоих рук сведения, за которые ты хотел получить мзду… Ты сел в карету этой шлюхи, словно моряк на корабль с Марией Египетской; ты оставил губительные для нас бумаги у господина де Сартина, но забрал шкатулку, которая могла погубить тебя в наших глазах. К счастью, мы все видели! Свет небесный освещает наши добрые дела…
Бальзамо молча поклонился.
— А теперь я могу сообщить тебе наше решение, — прибавил председатель. — В Высший совет поступили сведения о двух предателях; один из них — женщина, твоя сообщница, она, возможно, действовала без злого умысла, однако нанесла ущерб нашему делу, раскрыв одну из наших тайн; другой — ты, учитель, ты, Великий Кофта, ты, светлый луч, трусливо спрятавшийся за спину этой женщины, чтобы скрыть свое предательство.
Бальзамо медленно поднял бледное лицо и пристально посмотрел на посланцев; его взгляд горел огнем, который он вынашивал в своей душе с самого начала допроса.
— Почему вы обвиняете эту женщину? — спросил он.
— Мы знаем, что ты попытаешься ее защищать. Мы знаем, что ты любишь ее до самозабвения, что ты отдаешь ей предпочтение перед другими женщинами. Мы знаем, что она настоящее сокровище для твоей науки, для твоего счастья, для твоего состояния. Мы знаем, что она для тебя орудие, которому нет равных в мире.
— Вам и это известно? — спросил Бальзамо.
— Да, нам это известно, и мы можем через ее посредство заставить тебя страдать больше, чем если бы мы стали тебе мстить.
— Договаривайте…
Председатель встал.
— Вот приговор: Джузеппе Бальзамо — предатель; он нарушил клятвы, однако его знания безграничны, они полезны ордену. Бальзамо должен жить ради преданного им дела; он принадлежит братьям, хотя и отрекся от них.
— Вот как! — сурово и мрачно процедил Бальзамо.
— Пожизненное заключение предотвратит общество от его новых вероломных предательств; в то же время оно даст возможность братьям извлечь из знаний Бальзамо пользу, которую они вправе ожидать от каждого из сочленов. Что же касается Лоренцы Феличиани, ужасное наказание…
— Погодите, — совершенно невозмутимо проговорил Бальзамо. — Вы забываете, что я еще не произнес речи в свое оправдание; обвиняемый имеет право высказаться… Мне довольно будет одного слова, одного-единственного документа. Подождите меня, я вам сейчас принесу обещанное доказательство.
Посланцы с минуту совещались.
— Вы опасаетесь, что я покончу с собой? — горько улыбаясь, спросил Бальзамо. — Если бы я захотел, это уже было бы сделано. В этом перстне столько яду, что его хватило бы на всех вас, стоит его только открыть. Вы боитесь, что я убегу? Так пошлите кого-нибудь вместе со мной, если угодно.
— Иди! — сказал председатель.
Бальзамо удалился; скоро стало слышно, как он тяжело спускается по лестнице. И вот он вошел в гостиную.
Он нес на плече окоченевший труп Лоренцы с мертвенно-бледным лицом; ее белая рука свисала до самой земли.
— Вот женщина, которую я обожал, вот все мое сокровище, мое единственное счастье, моя жизнь; вот та, которая предала, как вы говорите! — вскричал он. — Вот она! Берите ее! Бог нас уже наказал, господа, — прибавил он.
И быстрым, как молния, движением он вскинул труп и отбросил так, что тот покатился по полу к ногам судей; длинные волосы и безжизненные руки мертвой женщины вот-вот должны были коснуться отпрянувших в ужасе заговорщиков; при свете ламп на лебединой шее Лоренцы зияла страшная кровавая рана.
— Теперь говорите, — предложил Бальзамо.
Объятые ужасом судьи закричали в один голос и бежали в невыразимом смятении. Вскоре со двора донеслись конское ржание и топот; скрипнули ворота, потом торжественная тишина опустилась на мертвую женщину и безутешного мужчину.
Назад: ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Дальше: CXXXIV ЧЕЛОВЕК И БОГ