Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 26. Белые и синие
Назад: Часть Вторая 13 вандемьера
Дальше: XVII ГОСТИНИЦА "ПРАВА ЧЕЛОВЕКА"
VIII
ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
Присутствующие смотрели на них издали, не вмешиваясь в их разговор; они понимали, что перед ними две сильные личности.
Глава роялистского агентства первым нарушил тишину.
— Господа, — сказал он, — нет никакого вреда в том, что два вождя одной и той же партии, даже если им придется расстаться, чтобы сражаться порознь на востоке и западе Франции, даже если им не придется больше свидеться, становятся братьями по оружию, подобно нашим рыцарям в средние века.
Вы все стали свидетелями клятвы, данной двумя вождями нашего общего дела. Они из тех людей, которые делают больше, чем обещают. Но одному из них нужно вернуться в Морбиан, чтобы объединить свое движение с тем, что мы собираемся здесь создать. Другой должен подготовить и возглавить наше собственное движение. Простимся же с генералом, покончившим со своими делами в Париже, и займемся нашими делами, так хорошо начавшимися.
— Господа, — сказал шуан, — я бы с радостью согласился остаться здесь, чтобы быть вместе с вами завтра или послезавтра, в любой день, когда вы устроите перестрелку; однако я вынужден с прискорбием признаться, что ничего не смыслю в войне на улицах; моя война ведется в оврагах, ямах, кустах и лесных чащах. Если бы я остался, здесь стало бы одним солдатом больше, а там — одним командиром меньше; со времен печально памятного Киберона нас осталось только двое: Мерсье и я.
— Ступайте, дорогой генерал, — ответил Морган, — вам выпало счастье сражаться на свежем воздухе и не бояться, что какая-нибудь печная труба рухнет вам на голову. Пусть же Бог забросит меня в ваши края или приведет вас в мои!
Глава шуанов простился со всеми и, может быть, особенно тепло со своим новым другом.
Затем без шума, пешком, как обыкновенный рядовой офицер-роялист, он добрался до Орлеанской заставы; тем временем генерал Даникан, Леметр и молодой председатель секции Лепелетье разрабатывали план следующего дня и бормотали при этом:
— Этот Кадудаль — грозный соратник!
Примерно тогда же, когда человек, чье инкогнито мы раскрыли, простился с гражданином Морганом и направился к Орлеанской заставе, одна из групп той молодежи, о которой мы упоминали в предыдущих главах, проходила по улице Закона и улице Фейдо с криком:
— Долой Конвент! Долой две трети! Да здравствуют секции!
На углу улицы Фейдо молодые люди столкнулись с патрулем солдат-патриотов; последнее распоряжение Конвента предписывало им строжайшим образом наказывать ночных крикунов.
По численности группа и патруль были примерно равны; поэтому три предупредительных оклика, положенные по правилам, были встречены насмешками и шиканьем, и в ответ на третий оклик последовал выстрел из пистолета, ранивший одного из солдат.
Солдаты дали ответный залп, в результате чего один из молодых людей был убит и двое ранены.
Теперь, когда солдатские ружья оказались разряженными, секционеры были вооружены не хуже солдат; огромные дубинки казались мощными палицами в их руках, привычных к этому оружию, парировали удары штыков, точно шпаги во время дуэли; они наносили прямые удары, которые не пронзали грудь, но были не менее опасными; били противников по голове; человек, не сумевший отразить подобные выпады, падал замертво, как бык от удара кувалдой.
Как обычно, эта стычка, к тому же принимавшая устрашающие размеры из-за множества вовлеченных в нее людей, переполошила весь квартал. Волнение и тревога были особенно велики, поскольку в тот вечер давали первое представление в театре Фейдо, аристократическом театре того времени, где должны были играть "Тоберна, или Шведского рыбака" (либретто Патра, музыка Бруни) и "Доброго сына" (либретто Луи Эннекена, музыка Лебрена).
Площадь перед театром была загромождена каретами, а улица Фейдо запружена будущими зрителями, стоявшими в очереди за билетами.
Когда послышались крики "Долой Конвент!", "Долой две трети!", а затем грохот стрельбы и вопли, последовавшие за перестрелкой, кареты молниеносно сорвались с места, сталкиваясь друг с другом; зрители внутри здания театра испугались, что задохнутся в узких коридорах, и разнесли двери; из распахнувшихся окон послышались проклятия мужчин в адрес солдат, в то время как более нежные голоса подбадривали секционеров, а в число их, как уже было сказано, входили самые красивые, самые элегантные и самые богатые молодые люди Парижа.
Фонари, висевшие под аркадами, освещали эту сцену.
Внезапно отчетливо прозвучал голос, в котором слышалась тревога:
— Гражданин в зеленом, берегись!
Гражданин в зеленом, сражавшийся с двумя солдатами, понял, что ему угрожают сзади; отскочив в сторону, он взмахнул дубинкой наугад, но так удачно, что сломал руку солдату, который и вправду нацелил на него свой штык, и ударил окованной железом палицей по лицу другого: тот уже занес над его головой приклад ружья, намереваясь размозжить ему голову; затем он поднял глаза к окну, из которого прозвучало предостережение, послал воздушный поцелуй грациозной фигуре в белом, свесившейся над перилами балкона, и вдобавок успел отразить удар ружья, слегка задевшего его грудь.
Тем временем солдаты Конвента получили подкрепление — дюжину человек, прибежавших из кордегардии с криком:
— Смерть мюскаденам!
Молодого человека в зеленом окружили, но благодаря мощным мулине, которые он описывал вокруг себя наподобие ореола, ему удавалось держать нападавших на расстоянии, в то же время отступая назад и пытаясь приблизиться к аркадам.
Ценой этого отступления, не менее искусного, но определенно более трудновыполнимого, чем отступление Ксенофонта, он стремился добраться до двери с художественно оформленными железными филенками, которая только что оказалась в темноте, так как привратник погасил освещавший ее фонарь.
До того как фонарь погас, молодой человек успел заметить с зоркостью следопыта, что она была не заперта, а лишь прикрыта. Стоит ему добраться до двери, быстро проскользнуть в нее и захлопнуть перед носом нападавших, и он будет спасен, если, конечно, при этом привратник не окажется настолько патриотом, что отвергнет луидор, стоимость которого в то время равнялась тысяче двумстам ассигнатов (впрочем, подобный патриотизм был маловероятен).
Его противники разгадали это намерение, и, по мере того как он приближался к двери, атака становилась все более яростной; кроме того, каким бы ловким и сильным ни был молодой человек, поединок, длившийся более четверти часа, истощил его силы и поубавил у него ловкости. Однако до спасительной двери оставалось не более двух шагов, и призвав на помощь волю, он опрокинул одного из своих противников ударом по голове, оттолкнул второго ударом кулака в грудь и наконец добрался до двери… Однако, толкая ее, он не смог отвести удар прикладом ружья, обрушившийся на его лоб, к счастью, плашмя.
Удар был сильным; тысячи искр посыпались из глаз молодого человека, и кровь бешено застучала в его висках. Но, несмотря на то что он был ослеплен, ему не изменило присутствие духа: он отскочил назад, уперся в дверь и плотно затворил ее; затем, как и собирался, бросил луидор привратнику, вышедшему на шум из своей каморки, и опрометью бросился к лестнице, освещенной фонарем, ухватился за перила и преодолел, спотыкаясь, с десяток ступенек…
Но тут ему показалось, что стены дома зашатались, ступени задрожали под его ногами, лестница рушится, а сам он летит в пропасть.
Однако он всего лишь потерял сознание и упал на лестницу.
IX
"НЕВЕРОЯТНЫЙ" И "ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ"
На него повеяло свежестью, и это привело его в чувство. Он обвел все еще затуманенным, тусклым взором помещение, в которое попал.
Здесь не было ничего угрожающего.
Это был будуар, служивший одновременно туалетной комнатой; стены его были обтянуты блестящим атласом серо-жемчужного цвета с орнаментом из букетов роз. Раненый лежал на софе, обитой той же тканью, что и стены.
Стоявшая позади него женщина подпирала его голову подушкой; другая, стоя подле него на коленях, обтирала его лоб благоухающей губкой.
Вот откуда возникло приятное ощущение свежести, что привело его в чувство.
Женщина или, скорее, девушка, обтиравшая лоб раненого, была миловидной и изящно одетой, но то были изящество и привлекательность субретки.
Молодой человек не стал задерживать на ней взгляда, а перевел его на другую женщину, явно хозяйку первой, и радостно вскрикнул: он узнал в ней ту самую особу, которая из окна своего дома предупредила его об опасности.
Он попытался приподняться к ней навстречу, но две белые руки легли на его плечи и удержали его на софе.
— Потише, гражданин Костер де Сен-Виктор! — сказала молодая женщина, — сначала нужно перевязать вашу рану, а затем мы посмотрим, как далеко будет дозволено зайти вашей благодарности.
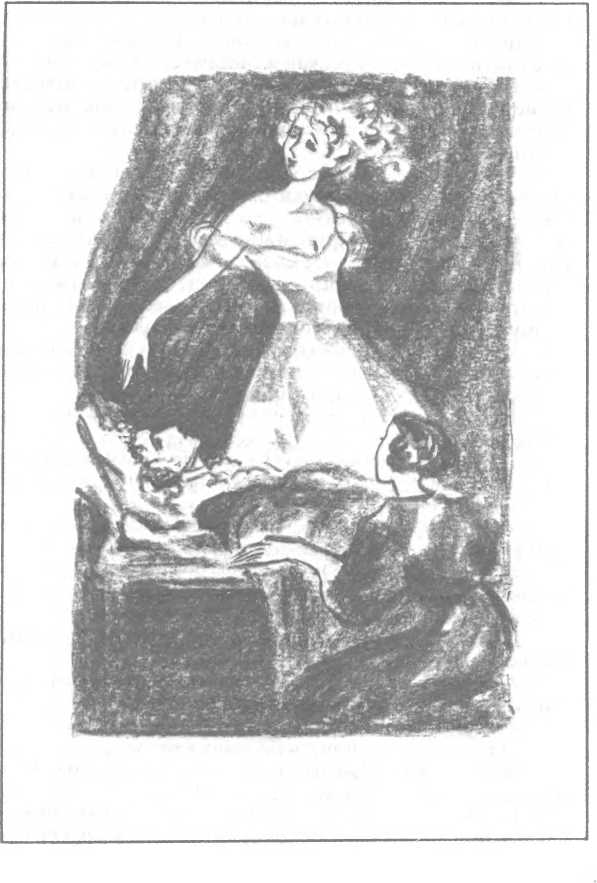
— Ах, ты меня знаешь, гражданка, — промолвил молодой человек с улыбкой, обнажившей зубы ослепительной. белизны; он смотрел на нее своими сияющими глазами — перед таким взглядом редкая женщина могла устоять.
— Прежде всего я позволю себе заметить, — ответила женщина, — что мужчине, который столь старательно следует моде, становится неприлично обращаться на "ты", особенно к женщинам.
— Увы! — сказал молодой человек, — именно по отношению к ним в прежней моде был какой-то смысл. Резкое и нелепое "ты", обращенное к мужчине, звучит прелестно при обращении к женщине, и мне всегда было жаль англичан: в их языке отсутствует слово "ты". Однако я слишком признателен вам, сударыня, чтобы не подчиниться; позвольте мне только повторить мой вопрос, изменив его форму… Стало быть, вы меня знаете, сударыня?
— Кто же не знает прекрасного Костера де Сен-Виктора, который стал бы королем моды и элегантности, если бы королевский титул не был упразднен?
Костер де Сен-Виктор сделал резкое движение и повернулся к женщине лицом.
— Добейтесь, чтобы королевский титул был восстановлен, сударыня, и я склонюсь перед прекрасной королевой Орелией де Сент-Амур.
— А, так вы меня знаете, гражданин Костер? — смеясь, в свою очередь спросила молодая женщина.
— Право, кто же не знает Аспазию нашего времени? Впервые я имею честь лицезреть вас вблизи, сударыня, и…
— И… что вы на это скажете?
— Я скажу, что Париж ни в чем не уступает Афинам, а Баррас — Периклу.
— Смотрите-ка, удар по голове, полученный вами, не столь опасен, как я полагала вначале!
— Почему же?
— Да потому, что ничуть не лишил вас ума.
— Нет, — сказал Костер, целуя руку прекрасной куртизанки, — но он вполне мог бы лишить меня разума.
В тот же миг в дверь позвонили особенным образом. Рука, которую держал Костер, дрогнула; камеристка Орелии поднялась и, глядя на хозяйку с тревогой, вскричала:
— Госпожа, это гражданин генерал!
— Да, — ответила та, — я узнала его по звонку.
— Что же он скажет? — спросила камеристка.
— Ничего.
— Как ничего?
— Ничего; я ему не открою.
Куртизанка задорно покачала головой.
— Вы не откроете гражданину генералу Баррасу? — вскричала перепуганная горничная.
— Как! — воскликнул Костер де Сен-Виктор, рассмеявшись, — это гражданин Баррас?
— Он самый, и вы видите, — прибавила мадемуазель де Сент-Амур и опять засмеялась, — что он проявляет нетерпение, как простой смертный.
— Однако, госпожа… — продолжала настаивать камеристка.
— Я хозяйка в этом доме, — сказала капризная куртизанка, — мне приятно принимать господина Костера де Сен-Виктора и неприятно принимать господина Барраса. Я открываю свою дверь первому и закрываю, вернее, не открываю ее другому, вот и все.
— Простите, простите, моя великодушная хозяйка! — воскликнул Костер де Сент-Виктор, — но моя чувствительность восстает против того, чтобы вы приносили подобные жертвы, прошу вас, позвольте вашей горничной открыть двери генералу; в то время как он будет в гостиной, я уйду.
— А если я открою ему лишь с условием, что вы не уйдете?
— О, тогда я останусь, — вскричал Костер, — и даже весьма охотно, клянусь вам!
Позвонили в третий раз.
— Пойдите откройте, Сюзетта, — сказала Орелия.
Сюзетта поспешила открыть входную дверь.
Орелия закрыла за горничной дверь будуара на задвижку, погасила две свечи, горевшие возле большого зеркала, отыскала Костера де Сент-Виктора в темноте и прильнула губами к его лбу со словами:
— Жди меня!
Затем она вошла в гостиную через другую дверь будуара одновременно с гражданином генералом Баррасом, входившим туда через дверь столовой.
— Ну, что я слышал, моя красавица! — сказал он, подходя к Орелии. — Говорят, что под вашими окнами устроили резню?
— Именно потому, дорогой генерал, эта глупышка Сюзетта и не решалась открыть вам дверь и мне пришлось три раза повторять ей приказ, до того она боялась, что кто-нибудь из драчунов явится сюда просить у нас убежища. Напрасно я говорила ей: "Да ведь так звонит генерал, разве вы не слышите?" Я уже решила, что мне самой придется открывать вам. Но чему я обязана удовольствием видеть вас в этот вечер?
— Сегодня премьера в театре Фейдо, и я вас похищаю, если вы хотите пойти со мной.
— Нет, спасибо; все эти выстрелы, крики и вопли взволновали меня в высшей степени; мне нездоровится, я останусь дома.
— Хорошо; но, как только пьесу сыграют, я вернусь к вам и попрошу накормить меня ужином.
— Ах! Вы меня не предупредили, и поэтому мне совершенно нечего вам предложить.
— Не беспокойтесь, милая красавица, я зайду к Гарши, и он пришлет вам суп из раков, бешамель, холодного фазана, немного креветок, сыр под глазурью и фрукты — одним словом, всякие пустяки.
— Дорогой друг, будет лучше, если вы позволите мне прилечь; я клянусь вам, что буду чудовищно мрачной.
— Я не запрещаю вам ложиться. Вы поужинаете в постели и будите хмуриться сколько угодно.
— Вы на этом настаиваете?
— Скорее умоляю вас: вам известно, сударыня, что в этом доме распоряжаетесь только вы; каждый получает здесь приказы, и я всего лишь покорнейший из ваших слуг.
— Как же можно отказать человеку, который говорит такие слова? Ступайте в театр Фейдо, монсеньер, и ваша покорная служанка будет ждать вас.
— Дорогая Орелия, вы просто восхитительны, и я не знаю, почему я до сих пор не приказал загородить ваши окна решетками, как окна Розины.
— К чему? Вы же граф Альмавива.
— Не прячется ли в вашей спальне какой-нибудь Керубино?
— Я не стану говорить вам: "Вот ключ" — а скажу лишь: "Он в двери".
— Хорошо, судите сами, до чего я великодушен: если кто-нибудь там, я дам ему время скрыться. Итак, до скорой встречи, моя прекрасная богиня любви. Ждите меня через час.
— Ступайте! Когда вернетесь, перескажете мне пьесу; это доставит мне больше удовольствия, чем смотреть, как ее играют.
— Хорошо, но я не берусь ее спеть.
— Когда я хочу послушать пение, любезный друг, я посылаю за Тара.
— И между прочим, дорогая Орелия, мне кажется, что вы посылаете за ним слишком часто.
— О! Будьте покойны, госпожа де Крюденер следует за ним как тень, и, выходит, стоит на страже ваших интересов.
— Они вместе пишут роман.
— Да, в жизни.
— Это вас, часом, не злит?
— Нет, право; это занятие не приносит достаточного дохода, и я оставляю его уродливым и богатым светским женщинам.
— Спрашиваю еще раз: вы не хотите пойти со мной в театр?
— Спасибо!
— Ну, тогда до свидания.
— До свидания.
Орелия проводила генерала до двери гостиной, а Сюзетта — до входной двери, которую она закрыла за ним на три оборота ключа.
Обернувшись, прекрасная куртизанка увидела Костера де Сен-Виктора на пороге своего будуара.
Она вздохнула. Он был поразительно красив!
X
ДВА ПОРТРЕТА
Костер де Сен-Виктор не пользовался пудрой, которая снова вошла в моду; он не заплетал свои волосы в каденетки, не взбивал гребнем, а носил распущенными и завитыми; его локоны были иссиня-черными, как гагат; такого же цвета были и ресницы, обрамлявшие его большие голубые, словно сапфир, глаза; они в соответствии с выражением, которое им хотели придать, смотрели властно либо кротко. Его лицо, слегка побледневшее от потери крови, было матово-молочного цвета; тонкий и прямой нос — безупречной формы; полные алые губы скрывали великолепные зубы, а фигура, облаченная в костюм того времени, подчеркивавший ее достоинства, казалось, была создана по образу и подобию Антиноя.
С минуту молодые люди молча смотрели друг на друга.
— Вы слышали? — спросила Орелия.
— Да, увы! — сказал Костер.
— Он ужинает со мной, и это по вашей вине.
— Как?
— Вы заставили меня открыть ему дверь.
— И вам неприятно, что он будет ужинать с вами?
— Разумеется!
— В самом деле?
— Клянусь вам! Я не настроена сегодня вечером любезничать с теми, кто мне не нравится.
— А с тем, кто бы вам понравился?
— Ах! С этим человеком я вела бы себя очень мило, — сказала Орелия.
— Ну, а если я найду средство помешать ему отужинать с вами? — спросил Костер.
— Что же дальше?
— Кто будет ужинать вместо него?
— Что за вопрос! Тот, кто найдет средство, чтобы его здесь не было.
— С этим человеком вы не будете хмуриться?
— О нет!
— Доказательство?
Прекрасная дева любви подставила ему свою щеку.
Он прижался к ней губами.
В этот миг снова раздался звонок.
— Ах! На сей раз я вас предупреждаю, — сказал Костер де Сен-Виктор, — если это тот, кто по глупости решил вернуться, я не уйду.
Появилась Сюзетта.
— Следует ли открывать, госпожа? — спросила она растерянно.
— О Господи! Да, мадемуазель, откройте!
Сюзетта открыла дверь.
На пороге стоял мужчина с большой плоской корзиной на голове. Он вошел и сказал:
— Ужин гражданина генерала Барраса.
— Вы слышите? — спросила Орелия.
— Да, — ответил "невероятный", — но, клянусь честью, он его не отведает.
— Следует ли все же накрывать на стол? — спросила Сюзетта со смехом.
— Да, — ответил молодой человек, бросаясь к двери, — если не он, то кто-нибудь другой его съест.
Орелия смотрела ему вслед, пока он не вышел.
Когда дверь за ним закрылась, она повернулась к своей камеристке и сказала:
— Займемся моим туалетом, Сюзетта! Сделай меня как можно красивее.
— Для кого же из двоих госпожа хочет стать красивой?
— Я еще не знаю, а пока сделай меня красивой… для меня самой.
Сюзетта тотчас же принялась за дело.
Мы уже описывали костюмы щеголих того времени, а Орелия де Сент-Амур была щеголихой.
Она была родом из Прованса, из хорошей семьи и играет в то время, когда мы включаем ее в повествование, ту роль, что ей отводится нами; мы считаем своим долгом оставить ей подлинное имя, под которым она предстает в архивах тогдашней полиции.
Ее судьба была типичной для большинства женщин класса, для которого термидорианский переворот стал триумфом. Она была бедной девушкой, и в 1790 году ее соблазнил молодой дворянин: он заставил ее покинуть семью и увез в Париж; затем он эмигрировал, вступил в армию Конде и был убит в 1793 году; она осталась одна, не имея ничего, кроме своих девятнадцати лет, лишившись всякой поддержки, кроме своей красоты. Затем ее подобрал откупщик, и вскоре она приобрела, если говорить о роскоши, гораздо больше, чем потеряла.
Однако откупщики были преданы суду. Покровитель прекрасной Орелии оказался в числе двадцати семи человек, казненных вместе с Лавуазье 8 мая 1794 года.
Перед смертью он передал ей в собственность довольно значительную сумму (до этого она получала с нее только ренту). Таким образом, не обладая большим состоянием, прекрасная Орелия ни в чем не нуждалась.
Наслышанный о ее красоте и хороших манерах, Баррас явился к ней и, пробыв подобающее время сверхштатным поклонником, был наконец признан.
Баррас, в ту пору очень видный мужчина лет сорока, был из знатной провансальской семьи; кому-то его дворянское происхождение кажется сомнительным, но для тех, кто знает, что тогда говорили: "Древний, как скалы Прованса, знатный, как род Баррасов", — это бесспорный факт.
В восемнадцать лет он был младшим лейтенантом в Лангедокском полку, затем оставил службу и отправился к дяде, губернатору Иль-де-Франса. Во время кораблекрушения у Коромандельского берега он едва не погиб, но, к счастью, успел ухватиться за снасти и благодаря своему мужеству и хладнокровию смог добраться до острова, населенного дикарями. Он прожил там месяц вместе с другими спасшимися. Наконец пришла помощь, и их перевезли в Пондишери. В 1788 году он вернулся во Францию, где его ожидало большое состояние.
Во время созыва Генеральных штатов Баррас, подобно Мирабо, не колебался: выставил свою кандидатуру от третьего сословия и был избран. 14 июля он отличился во время взятия Бастилии; будучи членом Конвента, голосовал за казнь короля и в качестве депутата был послан в Тулон, когда город был отвоеван у англичан. Нам известно его донесение по этому поводу: он предложил попросту разрушить Тулон.
Вернувшись в Конвент, он принимал активное участие во всех крупных событиях Революции, в частности в перевороте 9 термидора, так что, когда была предложена новая конституция, ему, казалось, суждено было стать одним из пяти членов Директории.
Мы упомянули о возрасте Барраса и отметили, что он был красив. Это был мужчина ростом в пять футов и шесть дюймов, с прекрасной шевелюрой (он ее пудрил, чтобы скрыть раннюю седину), с чудесными глазами, прямым носом и полными губами красивой формы. Он не подражал утрированным манерам "золотой молодежи" и следовал моде, не выходя за рамки элегантности, приличествовавшей его возрасту.
Что касается прекрасной Орелии де Сент-Амур, ей едва минул двадцать один год; она достигла совершеннолетия и входила в пору расцвета женской красоты, который приходится, по нашему мнению, на возраст от двадцати одного года до тридцати пяти лет.
Это была чрезвычайно изысканная, чрезвычайно чувственная и чрезвычайно впечатлительная натура, сочетающая в себе одновременно свойства цветка, плода и женщины: аромат, сочность и прелесть.
Орелия была высокой и от этого на первый взгляд казалась немного худощавой, но благодаря костюму, который носили в ту пору, легко было заметить, что ее изящество было сродни облику Дианы Жана Гужона; ее светлые волосы были темно-рыжеватого оттенка, как и волосы тициановской Магдалины. Она была восхитительной со своей прической на греческий лад, с голубыми бархатными лентами в волосах; но когда в конце ужина она распускала локоны, падавшие ей на плечи, и встряхивала ими, чтобы они уподобились венцу, когда ее свежие, как камелии или персики, щеки выглядывали из рыжей гривы, оттенявшей черные брови, светло-голубые глаза, алые губы и жемчужные зубы, когда в ее розовых ушах сверкали грозди бриллиантов, — она становилась бесподобной.
Эта роскошная красота расцвела всего лишь за два года. Юная девушка, преисполненная колебаний и сожалений, женщина, которая уступает, но не отдается до конца, осталась в прошлом вместе с ее первым любовником — единственным мужчиной, которого она любила.
Затем неожиданно она почувствовала, как жизненная сила поднимается и начинает переполнять ее; глаза ее открылись, ноздри стали раздуваться; все в ней стало дышать любовью второй юности, которая приходит на смену отрочеству, смотрит на себя, улыбается собственной красоте, расцветающей день ото дня, и, задыхаясь, ищет того, кому она отдаст сокровища сладострастия, что таятся в ней.
С течением времени материальные трудности заставили ее уже не отдаваться, а продаваться, и она делала это, втайне мечтая о счастье, которое вернет ей однажды вместе с богатством ту свободу личности и чувств, в чем заключается достоинство женщины.
На вечерах в особняке Телюссон, в Опере и Комеди Франсез она видела раза два-три Костера де Сен-Виктора, ухаживавшего за самыми красивыми и изящными женщинами той поры, и всякий раз ее сердце, казалось, пыталось вырваться из груди и полететь к нему. Она чувствовала, что рано или поздно, даже если ей самой придется сделать первый шаг, этот мужчина будет принадлежать ей, или, скорее, она будет принадлежать этому мужчине. Но она настолько была в этом убеждена благодаря внутреннему голосу, порой приоткрывающему нам великую тайну будущего, что ждала удобного случая без особого нетерпения, веря, что когда-нибудь мужчина ее мечты окажется достаточно близко от нее или она — достаточно близко от него, и они соединятся в силу такого же непреодолимого явления, как притяжение железа к магниту.
И в тот вечер, открыв окно, чтобы взглянуть на суматоху, творившуюся на улице, она узрела в гуще схватки прекрасного демона своих одиноких ночей и невольно воскликнула: "Гражданин в зеленом, берегись!"
XI
ТУАЛЕТ АСПАЗИИ
Орелия де Сент-Амур могла бы окликнуть Костера де Сен-Виктора по имени, так как узнала его, но назвать по имени этого красавца, у которого было столько соперников и, следовательно, столько врагов, вероятно, значило бы вынести ему смертный приговор.
Придя в себя, Костер тоже узнал ее, ибо с некоторых пор она уже славилась своей красотой и становилась известной своим умом, что было дополнительным условием, необходимым всякой красавице, желающей стать королевой.
Случай постучался в дверь Орелии, и прекрасная куртизанка, как и обещала себе, сразу же ухватилась за него.
Со своей стороны, Костер также считал ее необычайно красивой, но он не мог тягаться с Баррасом ни щедростью, ни великодушием. Красота и элегантность заменяли ему богатство; зачастую он добивался успеха с помощью нежных слов там, где тогдашним сильным мира требовались большие материальные средства.
Однако Костеру были известны все постыдные тайны парижской жизни, и он не способен был принести положение женщины в жертву минутному эгоизму и мимолетному наслаждению.
Быть может, прекрасная Аспазия — а она уже могла распоряжаться собой благодаря состоянию, которое удовлетворяло ее потребности (и, как она была уверена, с ростом приобретенной ею известности будет и дальше непрерывно увеличиваться), — быть может, прекрасная куртизанка предпочла бы, чтобы молодой человек проявлял чуть-чуть меньше такта и чуть-чуть больше страсти.
Так или иначе, она хотела быть красивой, чтобы еще больше очаровать его при возвращении, если ему суждено остаться, или чтобы он сильнее сожалел о ней, если ему придется уйти.
В том самом будуаре, куда мы ввели читателя в начале одной из предыдущих глав, Сюзетта тщательно выполняла приказ хозяйки, прибавляя к чудесам природы всяческие ухищрения искусства, и делала ее красивой, как та сама выражалась.
Современная Аспазия, собираясь облачиться в наряд античной Аспазии, расположилась на той же софе, где недавно лежал Костер де Сен-Виктор. Однако теперь софа стояла на другом месте: между небольшим камином, заставленным старинными севрскими статуэтками и большим наклонным зеркалом на ножках в круглой оправе саксонского фарфора, изображающей громадный венок из роз.
Орелия, окутанная пеленой прозрачного муслина, вверила себя Сюзетте, и та причесывала хозяйку на греческий лад, то есть согласно моде, вызванной к жизни политическими событиями и особенно картинами Давида, находившегося в ту пору в зените славы.
Узкая лента голубого бархата, усыпанная бриллиантовыми звездочками, начиналась в верхней части лба, завязывалась на затылке и охватывала основание пучка, из которого выбивались небольшие пряди волос, столь легкие, что они развевались при малейшем дуновении.
Благодаря юной свежести лица и бархатистости персика, присущей ее прозрачной коже, прекрасная Орелия могла обойтись без пудры и белил, которыми женщины той поры (как и в наше время) покрывали свое лицо.

В самом деле, она стала бы от них хуже: бронзовая кожа ее шеи и груди отливала перламутром, серебром, и любое косметическое средство повредило бы ее свежести.
Ее руки, словно высеченные из алебастра и слегка позолоченные лучами зари, удивительно гармонировали с бюстом. Все ее тело, каждая его часть, казалось, бросали вызов прекраснейшим моделям античности и эпохи Возрождения.
Однако природа, будучи чудесным скульптором, как будто задалась целью растопить строгость античного искусства в изяществе и morbidezza, присущим современному искусству.
Эта красота была столь истинной, что сама ее обладательница, казалось, никак не могла к ней привыкнуть, и всякий раз, когда Сюзетта снимала с нее какой-то предмет одежды, обнажая ту или иную часть тела, она улыбалась самой себе с удовлетворением, но без тщеславия. Порой она часами оставалась в своем уютном будуаре, возлежала на софе, подобно Гермафродиту Фарнезе или Венере Тициана.
Это самосозерцание в присутствии свидетельницы (она тоже невольно любовалась своей госпожой, глядя на нее горящими глазами, будто юный паж), на сей раз было прервано гулким боем часов и Сюзеттой, приблизившейся к хозяйке с рубашкой из прозрачной ткани, какие ткут только на Востоке.
— Ну, хозяйка, — сказала Сюзетта, — я знаю, что вы очень красивы, и никто не знает об этом лучше меня. Но вот уже пробило полдесятого; правда, когда госпожа причесана, остальное — уже минутное дело.
Орелия повела плечами, подобная статуе, сбрасывающей покрывало, и прошептала, обращаясь к высшей силе, именуемой любовью:
— Что он сейчас делает? Улыбнется ли ему удача?
Сейчас мы расскажем вам о том, что делал в это время Костер де Сен-Виктор, ибо никто из нас не оскорбит Орелию подозрением, что она думала о Баррасе.
Как уже было сказано, в тот вечер в театре Фейдо давали премьеру под названием "Торбен, или Шведский рыбак"; ей предшествовала короткая одноактная опера "Добрый сын".
Покинув мадемуазель де Сент-Амур, Баррас должен был всего лишь перейти через Колонную улицу.
Он пришел в театр в середине короткой пьесы, и поскольку все знали его как одного из депутатов Конвента, который поддерживал конституцию самым решительным образом и должен был вскоре стать членом Директории, его появление было встречено ропотом, за которым последовали крики:
— Долой декреты! Долой две трети! Да здравствуют секции!
Театр Фейдо был одним из оплотов самой ярой парижской реакции. Однако те, кто пришел посмотреть спектакль, одержали верх над теми, кто пытался его сорвать.
Крики "Долой крикунов!" заглушили другие возгласы, и в зале снова воцарилась тишина.
Таким образом, короткая пьеса завершилась довольно спокойно, но, как только упал занавес, некий молодой человек забрался на одно из кресел партера и, указывая на бюст Марата, стоявший рядом с бюстом Лепелетье де Сен-Фаржо, воскликнул:
— Граждане, долго ли еще мы будем терпеть бюст чудовища с человеческим лицом, что оскверняет эти стены, ведь на месте, захваченном им, мы могли бы видеть бюст гражданина Женевы, прославленного автора "Эмиля", "Общественного договора" и "Новой Элоизы".
Не успел оратор закончить свое обращение, как с балконов, галерки, из лож, партера и амфитеатра послышались возгласы множества голосов:
— Это он, он, это Костер де Сен-Виктор! Браво, Костер, браво!
Три десятка молодых людей — остатки отряда, разогнанного патрулем, поднялись со своих мест, размахивая шляпами и потрясая тросточками.
Костер приосанился и, поставив ногу на барьер партера, продолжал:
— Долой террористов! Долой Марата, этого кровавого изверга, которому требовалось триста тысяч голов! Да здравствует автор "Эмиля", "Общественного договора" и "Новой Элоизы"!
Неожиданно кто-то воскликнул:
— Вот бюст Жан Жака Руссо!
Чьи-то руки подняли бюст над амфитеатром.
Каким образом скульптура оказалась на месте именно тогда, когда она потребовалась?
Никто не знал этого, но ее появление было встречено восторженными криками:
— Долой бюст Марата! Да здравствует Шарлотта Корде! Долой террориста! Долой убийцу! Да здравствует Руссо!
XII
"ЭТО ПО ВИНЕ ВОЛЬТЕРА, ЭТО ПО ВИНЕ РУССО"
Костер де Сен-Виктор только и ждал такого проявления чувств. Он ухватился за лепные кариатиды, подпиравшие литерные ложи, встал на карниз, опоясывавший ложи бенуара, и с помощью двадцати человек, которые подталкивали и приподнимали его, добрался до ложи Барраса.
Баррас, не понимавший, чего хочет Костер, и не подозревавший о том, что сейчас только произошло у прекрасной Орелии де Сент-Амур, не считал молодого человека одним из своих самых лучших друзей и потому невольно отодвинул свое кресло на шаг назад.
Костер заметил это движение.
— Извините меня, гражданин генерал Баррас, — сказал он со смехом, — у меня дело вовсе не к вам; но я, как и вы, депутат — депутат, которому поручено сбросить вот этот бюст с пьедестала.
Взобравшись на карниз литерной ложи, он ударил тростью о бюст Марата; тот зашатался на своем пьедестале, упал на сцену и разбился вдребезги под гром почти единодушных аплодисментов публики.
Тем временем такая же расправа была учинена и с более безобидным бюстом Лепелетье де Сен-Фаржо, убитого двадцатого января королевским гвардейцем Пари.
Те же радостные возгласы приветствовали и это разрушение.
Затем чьи-то руки подняли еще один бюст над партером с криком:
— Вот бюст Вольтера!
Как только прозвучало это предложение, бюст начали передавать из рук в руки по своего рода лестнице Иакова и водрузили его на пустой постамент.
Бюст Руссо проделал с другой стороны тот же путь, и обе скульптуры были установлены на пьедесталах под гром рукоплесканий, криков "Ура!" и "Браво!" всего зрительного зала.
Тем временем Костер де Сен-Виктор, стоя на карнизе ложи Барраса и держась одной рукой за шею грифона, образовывавшего выступ, ждал, когда воцарится тишина.
Ему долго пришлось бы ждать, если бы он не показал жестом, что просит слова.
Крики "Да здравствует автор "Эмиля", "Общественного договора" и "Новой Элоизы"!", а также возгласы "Да здравствует автор "Заиры", "Магомета" и "Генриады"!" наконец смолкли; но, поскольку все продолжали кричать: "Костер хочет говорить! Говори, Костер! Мы слушаем! Тсс!
Тсс! Тихо!", Костер снова взмахнул рукой и, посчитав, что его голос уже может быть услышан, сказал:
— Граждане, поблагодарите гражданина Барраса, сидящего в этой ложе.
Все взоры устремились к Баррасу.
— Прославленный генерал любезно напоминает мне, что то же кощунство, с которым мы только что покончили здесь, продолжается в зале заседаний Конвента. В самом деле, две картины кисти террориста Давида, изображающие искупление: смерть Марата и смерть Лепелетье де Сен-Фаржо, все еще оскверняют его стены.
Дружный крик вырвался из всех уст:
— В Конвент, друзья! В Конвент!
— Гражданин Баррас, милейший гражданин Баррас позаботится о том, чтобы нам открыли двери. Да здравствует гражданин Баррас!
Все зрители, которые встретили Барраса шиканьем, закричали разом:
— Да здравствует Баррас!
Что касается Барраса, то он был ошеломлен ролью, которую Костер де Сен-Виктор заставил его играть в своей комедии, где он, Баррас, разумеется, ничего не значил; схватив плащ, трость и шляпу, он бросился вон из ложи и устремился вниз по лестнице к своей карете.
Но, как ни стремительно он покинул театр, Костер успел спрыгнуть с балкона на сцену и с криком "В Конвент, друзья!" исчезнуть за арлекином, спуститься по служебной лестнице и позвонить в дверь Орелии прежде, чем Баррас подозвал свою карету.
Сюзетта тут же прибежала на звонок, хотя и не узнала в нем звонка генерала, а может быть, именно потому, что не узнала.
Костер быстро проскользнул в приоткрытую дверь.
— Спрячь меня в будуаре, Сюзетта, — сказал он. — Гражданин Баррас сейчас явится к твоей хозяйке и лично сообщит, что его ужин достанется мне.
Не успел он договорить, как до них донесся грохот кареты, которая остановилась у входной двери.
— Эй! Живо! Живо! — воскликнула Сюзетта, открывая дверь будуара.
Костер де Сен-Виктор устремился туда.
На лестнице послышались поспешные шаги.
— Ну, входите же, гражданин генерал! — сказала Сюзетта. — Я догадалась, что это вы, и, как видите, держала дверь открытой. Моя госпожа ждет вас с нетерпением.
— В Конвент! В Конвент! — кричала толпа молодых людей, которые шли по улице, ударяя своими тростями по колоннам.
— О Господи! Что там еще? — спросила, входя, Орелия, похорошевшая от нетерпения и тревоги.
— Вы сами видите, дорогая подруга, — ответил Баррас, — мятеж, который лишает меня удовольствия отужинать с вами. Я пришел сказать вам об этом лично, чтобы вы не сомневались в моем сожалении.
— Ах! Какое несчастье! — вскричала Орелия. — Такой прекрасный ужин!..
— И такое прекрасное уединение с вами! — добавил Баррас, пытаясь изобразить грустный вздох. — Однако мой долг государственного деятеля — превыше всего.
— В Конвент! — вопили бунтовщики.
— До свидания, прекрасная подруга, — сказал Баррас, почтительно целуя руку Орелии. — Мне нельзя терять ни секунды, если я хочу опередить их.
И, верный своему долгу, как он сам сказал, будущий член Директории лишь поспешил перед уходом вознаградить Сюзетту за ее верность, сунув ей в руку пачку ассигнатов, и помчался вниз по лестнице.
Сюзетта закрыла за ним дверь; видя, что она поворачивает ключ на два оборота и задвигает засов, ее хозяйка воскликнула:
— Что же ты делаешь?
— Сами видите, госпожа, я запираю дверь.
— А как же Костер, несчастная?
— Обернитесь-ка, госпожа, — сказала Сюзетта.
Орелия издала изумленный и радостный возглас.
Костер вышел из будуара на цыпочках и стоял позади нее, склонившись в полупоклоне и согнув локоть.
— Гражданка, — сказал он, — не окажете ли вы мне честь опереться на мою руку и пройти в столовую?
— Но как вам удалось? Как вы за это принялись? Что вы придумали?
— Вы узнаете об этом, — сказал Костер де Сен-Виктор, принимаясь за ужин г-на Барраса.
XIII
ОДИННАДЦАТОЕ ВАНДЕМЬЕРА
Одним из постановлений, принятых роялистским агентством с Почтовой улицы после отъезда Кадудаля, то есть в конце заседания, о котором мы рассказали, было решение собраться на следующий день во Французском театре.
Вечером людской поток, возглавляемый полусотней представителей "золотой молодежи", устремился, как уже было сказано, к Конвенту; но их лидер, Костер де Сен-Виктор, исчез, точно сквозь землю провалился; толпа и мюскадены натолкнулись на закрытые двери Конвента, члены которого были вдобавок извещены Баррасом о предпринятом на них наступлении.
Для искусства было бы прискорбно, если бы две картины, на которые ополчилась толпа, были бы уничтожены. Особенно ценной была одна из них — шедевр Давида "Смерть Марата".
Между тем Конвент, видя, какие опасности его подстерегают, и понимая, что в любой момент в Париже может проснуться новый вулкан, решил заседать беспрерывно.
Трое депутатов — Жилле, Обри и Дельмас, принявшие четвертого прериаля командование вооруженными силами, получили приказ подготовить все необходимые меры для обеспечения безопасности Конвента.
Тревога достигла предела, когда, по сообщению тех, кто наблюдал за приготовлениями к следующему дню, стало известно, что собрание вооруженных граждан должно состояться во Французском театре.
На следующий день, третьего октября, то есть одиннадцатого вандемьера, Конвент собирался отметить в том же зале заседаний мрачную дату в память о жирондистах.
Некоторые предлагали перенести это заседание на другой день, но Тальен взял слово и заявил, что было бы недостойно Конвента прерывать свою деятельность как в спокойную пору, так и в час опасности.
И Конвент тут же принял декрет, предписывавший всякому незаконному собранию избирателей разойтись.
Ночью происходили всевозможные стычки в самых отдаленных районах Парижа, раздавались выстрелы, гибли люди. Повсюду, где члены Конвента встречались с секционерами, тотчас же начинались потасовки.
Секции, присвоившие себе право самостоятельно принимать решения, также издавали декреты.
Согласно декрету секции Лепелетье, было назначено собрание секций одиннадцатого числа в театре Одеон.
То и дело приходили ужасающие новости из прилегающих к Парижу городов, в которых находились комитеты роялистского агентства. В Орлеане, Дрё, Вернёе и Нонанкуре вспыхнули восстания.
В Шартре народный представитель Телье пытался остановить мятеж, но потерпел неудачу и застрелился.
Шуаны срубили повсюду деревья, посаженные четырнадцатого июля и ставшие славными символами народного триумфа; они же изваляли статую Свободы в грязи; в провинции, как и в Париже, патриотов убивали на улицах.
В то время как Конвент принимал решения против заговорщиков, заговорщики действовали против Конвента.
В одиннадцать часов утра избиратели направились в театр Одеон, но там собрались лишь самые отчаянные.
Если бы избиратели решили подсчитать число собравшихся, они едва бы дошли до тысячи.
Среди присутствующих было несколько молодых людей, которые сильно шумели и, бравируя своей удалью, расхаживали с длинными саблями, царапали ими паркет, двигали скамейки. Однако общее число егерей и гренадеров, присланных всеми секциями, не превышало четырехсот человек.
Правда, более десяти тысяч человек окружали величественное здание, ставшее местом встречи, а также наводняли подходы к залу и близлежащие улицы.
Если бы начиная с этого дня хорошо осведомленный Конвент перешел к энергичным действиям, он подавил бы мятеж, но в очередной раз он предпочел прибегнуть к мирным средствам.
К декрету, объявлявшему всякое собрание незаконным, был добавлен пункт, согласно которому все, кто немедленно подчинится, будут избавлены от дальнейших преследований.
Как только был принят этот декрет, офицеры полиции в сопровождении шести драгунов покинули Тюильри, где заседал Конвент, чтобы предложить собранию разойтись.
Однако улицы были запружены зеваками, хотевшими узнать, что собираются предпринять офицеры полиции и драгуны; они окружили их и неотступно следовали за ними; таким образом, покинув дворец около трех часов дня, блюстители порядка добрались до площади Одеона лишь к семи часам вечера, провожаемые криками, свистом и всевозможными оскорблениями.
Издали было видно, как они на лошадях следуют по улице Равенства, ведущей к величественному зданию театра; они напоминали баркасы, вознесенные над толпой и движущиеся в бурном океане.
Наконец они достигли площади. Драгуны выстроились в ряд у ступенек театра; представители закона, кому было поручено обнародовать декрет, поднялись и встали под портиком театра, факельщики окружили их, и чтение началось.
Но лишь только послышались первые слова, как двери театра с грохотом отворились и оттуда выскочили "суверенные" (так называли секционеров) с охраной из числа выборщиков; они спустили блюстителей порядка с лестницы, в то время как охранники направились к драгунам, выставив вперед штыки.
Представители закона скрылись под улюлюканье черни, растворившись в толпе, драгуны разбежались, факелы погасли и, из глубины этого невообразимого хаоса раздались крики: "Да здравствуют секционеры! Смерть Конвенту!"
Эти призывы разнеслись по всему городу и докатились до зала заседаний Конвента. В то время как секционеры победоносно возвращались в Одеон и, в порыве воодушевления после первого успеха, клялись сложить оружие лишь на развалинах тюильрийского зала, патриоты, те самые, что должны были сетовать на Конвент, больше не сомневались в том, что свобода, последним оплотом которой являлось Национальное собрание, находится под угрозой, и сбегались толпами, чтобы предложить свою помощь Конвенту и потребовать оружие.
Одни из них недавно вышли из тюрем, других только что исключили из секций; немалое их количество составляли офицеры, вычеркнутые из списков главой военного комитета; к ним присоединился Обри. Конвент не решался принять их помощь. Однако Луве, неутомимый патриот, уцелевший посреди обломков всех партий, Луве, давно уже собиравшийся вновь вооружить предместья и снова открыть Якобинский клуб, так настаивал на этом, что одержал верх при голосовании.
Тогда, не теряя ни минуты, члены Конвента собрали всех находившихся не у дел офицеров, поставили их во главе солдат, у которых не было командиров, и все они — офицеры и солдаты — перешли под командование храброго генерала Беррюйе.
Это произошло вечером одиннадцатого числа, когда парижане узнали о разгроме блюстителей порядка и драгунов и когда Конвент решил, что Одеон будет очищен с помощью оружия.
Согласно приказу, генерал Мену прислал колонну войск и две пушки из Саблонского лагеря. Но, вступив в одиннадцать часов вечера на площадь Одеона, военные увидели, что она, как и театр, пуста.
Целую ночь Конвент вооружал патриотов, а также получал ультиматум за ультиматумом от секции Лепелетье, от секций Бют-де-Мулен, Общественного договора, Комеди Франсез, Люксембург, улицы Пуассоньер, Брута и Тампля.
XIV
ДВЕНАДЦАТОЕ ВАНДЕМЬЕРА
Утром двенадцатого вандемьера стены домов запестрели афишами, предписывавшими всем солдатам национальной гвардии явиться в свои секции, которым угрожали террористы, то есть Конвент.
В девять часов секция Лепелетье провозгласила свои заседания непрерывными, заявила о своем неповиновении и принялась собирать людей по всему Парижу.
Конвент, поддавшись на провокацию, делал то же самое.
Его глашатаи разъезжали по улицам, успокаивая граждан и поднимая патриотический дух тех, кому вручили оружие.
Странные колебания ощущались в воздухе, колебания, которые свидетельствуют в больших городах о лихорадочном возбуждении и являются симптомом важных событий. Было ясно, что мятежные секции перешли все допустимые границы и теперь речь шла уже не о том, чтобы убедить и образумить секционеров, а сокрушить их.
Ни один из дней Революции еще не начинался с таких грозных предзнаменований: ни 14 июля, ни 10 августа, ни даже 2 сентября.
Около одиннадцати часов утра все почувствовали, что час пробил и пора брать инициативу в свои руки.
Видя, что секция Лепелетье стала штабом мятежников, Конвент решил разоружить ее и приказал генералу Мену выступить против секционеров с достаточно значительной войсковой частью и пушками.
Генерал прибыл из Саблона и проехал через весь Париж.
И тогда он воочию увидел то, о чем не подозревал, а именно, что ему придется иметь дело со знатью и богатой буржуазией — одним словом, с теми, чье мнение обычно является законом.
Надо было стрелять не по рабочим предместьям, как он предполагал.
Речь шла о Вандомской площади, улице Сент-Оноре, бульварах и Сен-Жерменском предместье.
Герой первого прериаля проявил нерешительность тринадцатого вандемьера.
Он все же выступил, но поздно и замедленно.
Чтобы сдвинуть его с места, пришлось прислать к нему депутата Лапорта.
Между тем весь Париж ждал исхода этого важного поединка.
К несчастью, секцию Лепелетье возглавлял человек (мы познакомились с ним во время его визита в Конвент и беседы с вождем шуанов), который достаточно быстро принимал решения, в то время как Мену был слаб и нерешителен в своих действиях.
Лишь в восемь часов вечера генерал Вердье получил приказ генерала Мену сформировать левую колонну из шестидесяти гренадеров Конвента, ста человек батальона департамента Уаза и двадцати кавалеристов, выступить против секции Лепелетье, а также захватить левую сторону улицы Дочерей Святого Фомы и ждать там дальнейших приказаний.
Лишь только войско Вердье вступило на улицу Вивьен, как на пороге монастыря Дочерей святого Фомы, где заседала секция Лепелетье, показался Морган; он вывел сто гренадеров-секционеров и приказал им зарядить свои ружья.
Гренадеры Моргана подчинились без колебаний.
Вердье отдал такой же приказ своему войску, но в ответ послышался ропот.
— Друзья, — вскричал Морган, обращаясь к солдатам Конвента, — мы не станем стрелять первыми, но, как только начнется стрельба, не ждите от нас пощады: раз Конвент хочет войны, он ее получит.
Гренадеры попытались что-то сказать в ответ. Вердье крикнул:
— Прекратить разговоры в строю!
Воцарилась тишина.
Он приказал кавалеристам вытащить сабли из ножен, а пехотинцам — взять оружие к ноге.
Солдаты повиновались.
Тем временем центральная колонна приближалась по улице Вивьен и правая колонна — по улице Нотр-Дам-де-Виктуар.
Все собрание превратилось в вооруженную силу: около тысячи человек вышли из монастыря и выстроились перед портиком.
Морган встал на десять шагов впереди всех со шпагой в руке.
— Граждане, — обратился он к своим солдатам-секционерам, — большинство из вас — женатые люди, отцы семейств, следовательно, на мне лежит ответственность за множество жизней, и, как бы мне ни хотелось отплатить смертью за смерть этим кровожадным членам Конвента, которые обезглавили моего отца и расстреляли моего брата, я приказываю вам, во имя ваших жен и детей, не открывать огня! Если же кто-то из наших врагов хотя бы раз выстрелит — вы видите, я стою на десять шагов впереди вас, — он погибнет от моей руки.
Эти слова прозвучали среди глубочайшей тишины: прежде, чем произнести их, Морган поднял шпагу в знак того, что собирается говорить. Таким образом, ни одно слово не ускользнуло от внимания секционеров и патриотов.
Не было ничего проще, чем ответить на эту речь тройным залпом — справа, слева и с улицы Вивьен — и таким образом свести ее к пустой браваде.
Морган, служивший отличной мишенью, непременно был бы убит.
Каково же было всеобщее удивление, когда вместо приказа "Огонь!", который все ожидали услышать, и последующего тройного залпа, они увидели, как депутат Л апорт, посовещавшись с генералом Мену, направился к Моргану, в то время как генерал крикнул своим солдатам, уже собравшимся стрелять:
— К ноге!
Этот второй приказ был исполнен столь же неукоснительно, как и первый.
Однако удивление еще больше возросло, когда перебросившись с депутатом Лапортом несколькими фразами, Морган вскричал:
— Я пришел сюда только для того, чтобы воевать, так как полагал, что мы будем драться. Раз уж дело сводится к комплиментам и уступкам, это касается заместителя председателя; я же удаляюсь.
Вложив шпагу в ножны, он встал в ряды секционеров.
Заместитель председателя также вышел вперед.
После десятиминутных переговоров между гражданами де Лало, Лапортом и Мену войска пришли в движение.
Часть секционеров обогнула монастырь Дочерей святого Фомы и направилась к улице Монмартр.
Республиканцы отходили в сторону Пале-Рояля.
Но едва лишь войска Конвента скрылись из вида, как секционеры вернулись во главе с Морганом и разом закричали:
— Долой две трети! Долой Конвент!
Этот возглас, прозвучавший на сей раз из монастыря Дочерей святого Фомы, тут же был подхвачен во всех районах Парижа.
Две-три церкви, в которых уцелели колокола, ударили в набат.
Эти зловещие звуки, которых не слышали в городе уже три-четыре года, напугали парижан сильнее, чем пушечный грохот.
Это возвращалась на крыльях ветра религиозная и политическая реакция.
В одиннадцать часов вечера, одновременно с давно не звучавшим набатом, в зал заседаний Конвента пришло известие о результате похода генерала Мену.
Заседание не объявляли закрытым, но зал к этому времени опустел.
Теперь все депутаты вернулись, теряясь в догадках и не в силах поверить, что столь четкий приказ окружить и разоружить секцию Лепелетье обернулся дружеской беседой, после которой все спокойно разошлись.
Когда же они узнали, как, вместо того чтобы уйти домой, секционеры вернулись на то же место и бросили вызов Конвенту, осыпая его из монастыря, словно из крепости, оскорблениями, Шенье устремился к трибуне.
Мари Жозеф, озлобленный суровым обвинением, преследовавшим его до самой смерти и даже на том свете, обвинением в том, что он из зависти позволил казнить своего брата Андре, неизменно был сторонником самых жестких и неотложных мер.
— Граждане! — вскричал он. — Я не в силах поверить этому сообщению! Отступление перед лицом врага — это несчастье, отступление перед бунтовщиками — это измена. Прежде чем сойти с этой трибуны, я хочу выяснить, существует ли еще воля большинства французского народа и намерены ли с ней считаться, или же мы должны покориться власти секционеров, хотя именно мы являемся государственной властью. Я требую, чтобы правительство обязали немедленно отчитаться перед собранием в том, что происходит в Париже.
В ответ на этот решительный призыв послышались возгласы одобрения.
Предложение Шенье было единодушно принято.
XV
НОЧЬ С ДВЕНАДЦАТОГО НА ТРИНАДЦАТОЕ ВАНДЕМЬЕРА
Член правительства Делоне (из Анже) поднимается на трибуну, чтобы лично держать ответ.
— Граждане, — говорит он, — мне только что доложили, что секция Лепелетье окружена со всех сторон.
Раздаются аплодисменты.
Однако чей-то голос, перекрывая гром рукоплесканий, кричит:
— Это неправда!
— А я, — продолжает Делоне, — утверждаю, что секция блокирована.
— Это неправда! — повторяет тот же голос еще громче, — я только что прибыл оттуда; наши войска отступили, и секционеры хозяйничают в Париже.
В тот же миг из коридора доносятся страшный шум, топот, крики, брань. Людской поток, грозный и бурный, как морской прилив, врывается в зал. Трибуны заполняются людьми. Поток докатывается до самой трибуны.
Слышен крик сотни голосов:
— Оружие! Оружие! Нас предали! Генерала Мену — под суд!
— Я требую, — говорит Шенье со своего места, вскочив на скамью, — я требую арестовать генерала Мену, немедленно судить его и, если он будет признан виновным, расстрелять его во дворе Тюильри.
Крики "Генерала Мену — под суд!" усиливаются.
Шенье продолжает:
— Я требую, чтобы оружие и патроны были снова розданы патриотам. Я требую образовать из патриотов батальон; он будет называться священным батальоном Восемьдесят девятого года, и его бойцы дадут клятву погибнуть на ступенях зала заседаний.
Тотчас триста-четыреста патриотов, казалось, только и ждавшие этого предложения, врываются в зал, требуя дать им оружие. Это ветераны Революции, живая история шести минувших лет, люди, что сражались у стен Бастилии и разгромили 10 августа тот самый дворец, который они хотят ныне защищать; это генералы, покрытые шрамами; это герои Жемапа и Вальми, изгнанные из армии, ибо их блестящие победы были одержаны безвестными людьми, ибо они победили пруссаков без всякой системы и разбили австрийцев, не зная математики и правописания.
В своем изгнании из армии они обвиняют заговорщиков-аристократов, реакционера Обри, отобравшего у них шпаги и сорвавшего с их плеч эполеты.
Они целуют ружья и сабли, которые им раздали, и прижимают их к груди с криком:
— Теперь мы свободны, ибо скоро мы умрем за отчизну!
В это время вошел секретарь и доложил, что явились представители секции Лепелетье.
— Вот видите, — вскричал Делоне (из Анже), — я же знал, что говорил; они пришли принять условия, выдвинутые Мену и Лапортом.
Секретарь вышел и вернулся пять минут спустя.
— Глава делегации спрашивает, — сказал он, — гарантируют ли ему и тем, кто его сопровождает, безопасность; ему нужно что-то сообщить Конвенту.
Буасси д’Англа протянул руку:
— Клянусь честью нации, — сказал он, — те, кто сюда войдет, выйдут отсюда целыми и невредимыми.
Секретарь вернулся к тем, кто его послал.
В собрании воцарилось гробовое молчание.
Депутаты еще надеялись, что этот новый демарш секционеров выведет их из лабиринта, в котором они оказались, избрав путь примирения.
В тишине послышались приближающиеся шаги, и все взоры устремились к двери.
По залу пробежал трепет.
Главой делегации оказался тот самый молодой человек, что накануне так высокомерно говорил с Конвентом.
По его лицу было видно, что он пришел не для того, чтобы публично покаяться.
— Гражданин председатель, — сказал Буасси д’Англа, — вы просили, чтобы вас выслушали, — мы вас слушаем; вы просили гарантировать вам жизнь и свободу — мы предоставляем вам эти гарантии. Говорите!
— Граждане, — произнес молодой человек, — мне хотелось, чтобы вы отвергли последние предложения, с которыми обращается к вам секция Лепелетье, ибо мое единственное желание — сразиться с вами. Самым счастливым мгновением в моей жизни станет то, когда я войду в эти стены по колено в крови, с мечом и огнем.
Угрожающий ропот послышался с мест, где сидели члены Конвента; нечто вроде гула изумления донеслось с трибун и из уголков зала, где собрались патриоты.
— Продолжайте, — сказал Буасси д’Англа, — бесцеремонно угрожайте нам; вы знаете, что вам нечего бояться, ведь мы гарантировали вам жизнь и свободу.
— Поэтому, — продолжал молодой человек, — я не стану хитрить и скажу вам прямо, что привело меня сюда. Меня привело сюда решение пожертвовать своей личной местью во имя общего блага и даже ради вашего блага. Я счел себя не вправе передавать через кого-то другого последнее предупреждение, я пришел к вам сам. Если завтра на рассвете стены Парижа не будут пестреть афишами, где вы укажете, что весь Конвент уходит в отставку и Париж со всей остальной Францией волен выбирать своих представителей без каких-либо условий, мы расценим это как объявление войны и выступим против вас.
У вас пять тысяч человек, у нас же шестьдесят тысяч и вдобавок на нашей стороне правда.
Он достал из жилетного кармана часы, усыпанные бриллиантами.
— Сейчас без четверти полночь, — продолжал он. — Если завтра в полдень, то есть через двенадцать часов, пробудившийся Париж не будет удовлетворен, зал, под крышей которого вы сейчас укрываетесь, будет разрушен до основания, и дворец Тюильри будет подожжен со всех сторон, чтобы выкурить из королевского жилища ваш дух. Я закончил.
Призывы к возмездию и угрозы вырвались из всех уст; патриотам недавно вернули оружие, и они готовы были броситься на дерзкого оратора, но Буасси д’Англа протянул руку и сказал:
— Я дал слово как от своего, так и от вашего имени, граждане. Председатель секции Лепелетье может уйти отсюда живым и невредимым. Вот как мы держим наше слово: посмотрим же, как он держит свое.
— Значит, война! — радостно вскричал Морган.
— Да, гражданин, и война гражданская, то есть худшая из войн, — ответил Буасси’Англа. — Ступайте же и больше не появляйтесь перед нами, ибо в следующий раз я не смогу поручиться за вашу безопасность.
Морган удалился с улыбкой на устах.
Он ушел с тем, чего добивался, — с уверенностью, что уже ничто не может помешать завтрашнему сражению.
Как только он вышел, страшный шум поднялся в зале, где сидели депутаты, на трибунах и среди патриотов.
Часы пробили полночь.
Наступило тринадцатое вандемьера.
Теперь, поскольку до начала схватки остается еще шесть-восемь часов, покинем Конвент, борющийся с секциями и посетим один из салонов, где принимали сторонников обеих партий и куда, следовательно, поступали более достоверные новости, чем в Конвент или в секции.
XVI
САЛОН ГОСПОЖИ БАРОНЕССЫ ДЕ СТАЛЬ, СУПРУГИ ШВЕДСКОГО ПОСЛА
Примерно в середине Паромной улицы, между улицами Гренель и Планш, возвышается массивное здание; его и сегодня можно узнать по четырем попарно соединенным ионическим колоннам, подпирающим тяжелый каменный балкон.
Это особняк шведского посольства, в котором жила знаменитая г-жа де Сталь, дочь г-на Неккера, жена барона де Сталь-Гольштейна.
Она настолько известна, что почти не имеет смысла описывать ее физический, духовный и нравственный облик. Тем не менее мы уделим этому некоторое внимание.
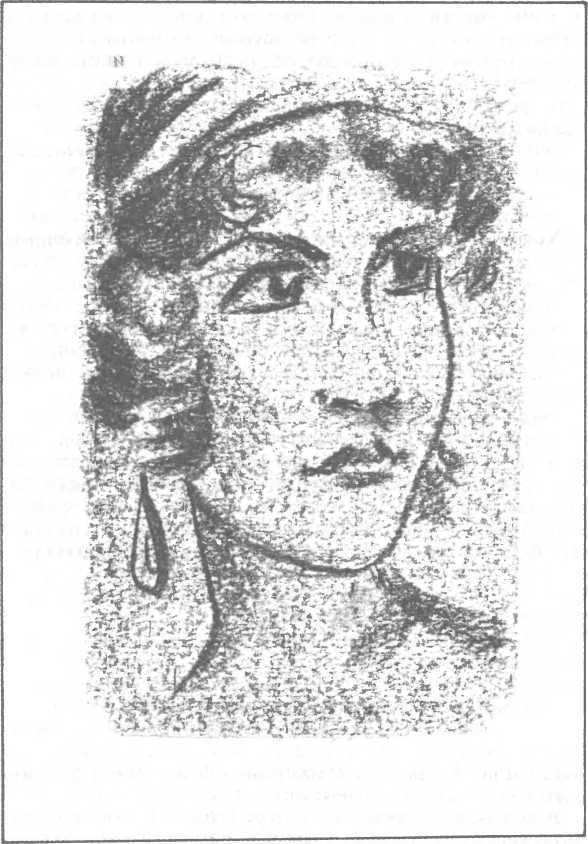
Госпожа де Сталь, родившаяся в 1766 году, находилась в этот период в расцвете своего таланта, чего нельзя сказать о ее внешности: эта женщина никогда не была красивой. Страстно обожая своего отца, заурядного человека, что бы о нем ни говорили, она разделила его участь и эмигрировала вместе с ним, хотя положение ее мужа как посла гарантировало ей и отцу не только свободу действий, но и безнаказанность.
Однако вскоре она вернулась в Париж, составила план побега Людовика XVI и в 1793 году обратилась к революционному правительству в защиту королевы, когда ту предали суду.
Когда Густав IV объявил войну России и Франции, шведского посла отозвали в Стокгольм. Его не было в Париже со дня казни королевы и до дня казни Робеспьера.
После 9 термидора г-н де Сталь приехал во Францию в том же качестве посла Швеции, и г-жа де Сталь, которая не могла жить, не видя своего "ручейка на Паромной улице", отдавая ему предпочтение перед озером Леман, вернулась туда вместе с мужем.
Она немедленно открыла в Париже салон и, конечно, принимала в нем всех тех, кто отличился либо во Франции, либо за ее пределами. Несмотря на то что она одной из первых приняла идеи 1789 года, то ли под влиянием разворачивавшихся событий, то ли под влиянием внутреннего голоса образ ее мыслей изменился, и она изо всех сил стала содействовать возвращению эмигрантов и столь явно требовать их реабилитации, особенно г-на де Нарбонна, что небезызвестный мясник Лежандр публично выступил против нее.
Два салона: ее и г-жи Тальен — поделили между собой Париж. Но салон г-жи де Сталь был на стороне конституционной монархии, то есть занимал промежуточное положение между кордельерами и жирондистами.
В тот вечер, а именно в ночь с двенадцатого на тринадцатое вандемьера, между одиннадцатью часами и полночью, когда в Конвенте царило величайшее смятение, салон г-жи де Сталь был полон гостей.
Вечер выдался на редкость блестящим, и, глядя на туалеты женщин и непринужденные манеры мужчин, трудно было предположить, что на парижских улицах вот-вот начнется побоище.
Однако в разгар веселья и всплеска остроумия, сверкающего во Франции с особенной живостью и воодушевлением в час опасности, внезапно, точно в предгрозовые летние дни, по салону пробегали облака, вроде тех, что бросают тень на луга и посевы.
Каждого вновь прибывшего встречали с любопытством, робкими возгласами и тут же засыпали вопросами, свидетельствовавшими о всеобщем интересе к происходящему.
Гости ненадолго покидали двух-трех женщин, окруженных в салоне г-жи де Сталь почетом за красоту и ум.
Все устремлялись к новому посетителю, вытягивали из него все, что он знал, и возвращались в свой кружок, чтобы обсудить последние новости.
В силу некоего молчаливого соглашения каждая женщина, которая благодаря красоте или уму имела право на привилегию, о коей мы только что упомянули, содержала в обширных апартаментах первого этажа шведского посольства свой отдельный двор; таким образом, помимо салона г-жи де Сталь, в тот вечер у госпожи баронессы собрались салоны г-жи де Крюденер и г-жи Рекамье.
Госпожа де Крюденер была на три года моложе г-жи де Сталь; она происходила из Курляндии и родилась в Риге. Дочь богатого помещика барона Витингхофа, в четырнадцать лет она вышла замуж за барона Крюденера и последовала за ним в Копенгаген и Венецию, где он исполнял обязанности русского посланника. Разойдясь с мужем в 1791 году, она вновь обрела свободу, которой ненадолго пожертвовала ради брака. Это была весьма очаровательная и весьма умная особа, превосходно говорившая и писавшая по-французски.
Упрекнуть ее можно было единственно в том, что в эту отнюдь не сентиментальную пору она питала чрезвычайное пристрастие к одиночеству и мечтаниям.
Поистине северная задумчивость, наделившая ее сходством с героинями древнескандинавских сказаний, придавали ей в толпе беспечных и веселых людей неповторимое очарование: в нем было что-то мистическое.
Всем очень хотелось посетовать на нее за то, что она впадает в такого рода экстазы в разгар вечера. Если же вам удавалось приблизиться к ней в эти мгновения сверхвозбуждения и заглянуть в ее прекрасные глаза, ясновидящая г-жа де Крюденер, затмевавшая святую Терезу, заставляла вас позабыть светскую женщину.
Впрочем, утверждали, что эти прекрасные глаза, столь часто устремленные к небу, немедленно опускались на землю, как только красавец-тенор Тара входил в салон, где находилась эта женщина.
Роман, который она в то время писала, озаглавленный "Валерия, или Письма Гюстава де Линара Эрнесту де Г.", повествовал об истории их любви.
Это была женщина двадцати пяти-двадцати шести лет с белокурыми волосами, характерными для женщин северных широт. В мгновения экстаза ее лицо казалось застывшей маской из мрамора, большое сходством с которым ему также придавала белая атласная кожа.
Ее друзья — а их у нее было немало до тех пор, пока не появились ученики, — говорили, что в то время, когда ее душа общалась с духами, ее уста исторгали бессвязные слова, тем не менее, подобно речам античных пифий, не лишенные смысла.
Одним словом, г-жа де Крюденер была предтечей современного спиритизма. В наши дни сказали бы, что она была медиумом. Поскольку это слово тогда еще не было придумано, мы ограничимся эпитетом "вдохновенная свыше".
Госпожа Рекамье, самая юная из всех популярных женщин того времени, родилась в Лионе в 1777 году; звали ее Жанна Франсуаза Жюли Аделаида Бернар. В 1793 году она вышла замуж за Жака Роз Рекамье, который был на двадцать шесть лет старше ее. Источником его доходов был огромный шляпный магазин, открытый в Лионе его отцом.
Будучи совсем юным, он стал коммивояжером этого торгового заведения, после того как получил классическое образование, позволявшее ему при случае цитировать Горация или Вергилия. Он говорил по-испански, так как особенно часто бывал в Испании по своим коммерческим делам. Это был красивый, высокий, белокурый мужчина крепкого телосложения, легковозбудимый, щедрый и легкомысленный; он был не очень привязан к своим друзьям, хотя никогда не отказывал им в денежной поддержке.
Когда один из его лучших друзей, которого он выручал много раз, умер, он лишь сказал со вздохом:
— Еще один ящик кассы закрыт!
Женившись в разгар террора, 24 апреля 1793 года, он отправился в день своей свадьбы посмотреть на казни (то же он сделал накануне и то же собирался сделать на следующий день).
Он видел, как умер король и как умерла королева; видел, как умерли Лавуазье и двадцать семь откупщиков, а также его близкий друг Лаборд и, наконец, почти все из тех, с кем он поддерживал деловые либо приятельские отношения; когда его спрашивали, почему он с таким усердием посещает столь печальные зрелища, он отвечал:
— Чтобы свыкнуться с плахой.
В самом деле, г-н Рекамье почти чудом избежал гильотины, и после этого его потребность ходить на казни как на службу исчезла.
То ли ежедневное созерцание смерти отвратило его от красоты жены, и он питал к ней лишь отеческую любовь, то ли виной тому был один из тех изъянов, какими своенравная природа любит порой отмечать свои самые прекрасные творения, — так или иначе, целомудрие его супруги навсегда останется тайной, хотя и не являлось ни для кого секретом.
Между тем мадемуазель Бернар, по словам ее биографа, в свои шестнадцать лет, когда она стала его женой, из ребенка превратилась в цветущую девушку.
Гибкая, изящная фигура; плечи, достойные богини Гебы, шея восхитительной формы и безупречных пропорций; маленький алый рот; жемчужные зубы; прелестные, хотя и немного худые руки; каштановые от природы вьющиеся волосы; тонкий и правильный, истинно французский нос; бесподобный цвет кожи; простодушное и порой лукавое лицо, доброе выражение которого делало его неотразимо привлекательным; некая небрежность и гордость одновременно; несравненная посадка головы (именно об этой женщине можно было по праву сказать то, что герцог де Сен-Симон говорил о госпоже герцогине Бургундской: "У нее была походка богини, скользящей по облакам") — такова была г-жа Рекамье.
Салоны г-жи Рекамье и г-жи де Крюденер казались столь независимыми друг от друга, как будто они находились в разных особняках; лишь главный салон, через который можно было попасть в другие два, был владением хозяйки дома.
Хозяйке дома недавно исполнилось двадцать девять лет; это была, как только что говорилось, знаменитая г-жа де Сталь, уже прославленная в политике благодаря той роли, которую она сыграла в назначении г-на де Нарбонна на пост военного министра, и в литературе благодаря ее восторженным письмам о Жан Жаке Руссо.
Она не была красивой, и тем не менее было невозможно пройти мимо, не обратив на нее внимания и не осознав, что вы соприкасаетесь с одной из тех выдающихся личностей, что сеют слово на ниве мысли, как пахарь бросает свои крошечные зерна в борозду.
В тот вечер она была одета в красное бархатное платье с разрезами по бокам, подбитое атласом соломенного цвета; на голове у нее был желтый атласный тюрбан, увенчанный райской птицей. Зажав в полных губах веточку цветущего вереска, она покусывала ее, являя взору прекрасные зубы; у нее был немного крупный нос и немного темные щеки, но ее глаза, брови и лоб были удивительно красивыми.
Была она земной женщиной или божеством, но в ней чувствовалась сила.
Прислонившись к камину, положив на него одну руку и по-мужски жестикулируя другой, время от времени откусывая от веточки вереска по цветку, г-жа де Сталь говорила красивому белокурому юноше, одному из ее горячих поклонников, чье лицо было обрамлено вьющимися волосами, ниспадавшими на плечи:
— Нет, вы ошибаетесь, клянусь вам, дорогой Констан, нет, я не против Республики, совсем наоборот; те, кто меня знает, помнят, как страстно я поддерживала принципы восемьдесят девятого года, но я испытываю отвращение к санкюлотам и продажной любви. С тех пор как было признано, что свобода не самая прекрасная и целомудренная из женщин, а куртизанка, которая переходит из рук Марата в руки Дантона, из рук Дантона — в руки Робеспьера, я уже не питаю к вашей свободе почтения. Я еще допускаю, что нет больше ни принцев, ни герцогов, ни графов, ни маркизов. Звание "гражданин" прекрасно, если оно относится к Катону; обращение "гражданка" благородно, если оно относится к Корнелии. Но терпеть тыканье моей прачки, хлебать спартанскую похлебку из одного котла с моим кучером?.. Нет, этого я никогда не приму. Равенство — прекрасная вещь, но необходимо договориться о значении слова "равенство". Если это означает, что все будут получать одинаковое образование за счет родины — это хорошо, что все люди будут равны перед законом — это прекрасно! Но если это значит, что все французские граждане будут скроены на один лад в физическом и нравственном смысле, то это закон Прокруста, а не Декларация прав человека. Если уж выбирать между конституциями Ликурга и Солона, между Спартой и Афинами, то я выбираю Афины, и к тому же Афины Перикла, а не Лисистрата.
— Ну что ж, — с лукавой улыбкой возразил красивый белокурый юноша, которому была адресована эта гражданская отповедь и который впоследствии стал известным Бенжаменом Констаном, — вы не правы, дорогая баронесса, вы говорите об Афинах в пору заката, вместо того чтобы посмотреть на этот город в начале пути.
— В пору заката! В эпоху Перикла! Мне кажется, что, напротив, я говорю об Афинах в пору расцвета.
— Это так, но ничто, сударыня, не начинается с расцвета. Расцвет — это зрелый плод, а до плода существуют почка, листья, цветок. Вам не нравится Лисистрат? Вы заблуждаетесь. Это он, встав во главе неимущих классов, подготовил почву для грядущего возвышения Афин. Что касается двух его сыновей, Гиппия и Гиппарха, я оставляю их на ваше усмотрение. Но Клисфен, который довел число сенаторов до пятисот, как только что сделал Конвент, ведь именно он открывает великую эпоху войн против персов. Мильтиад разбивает персов при Марафоне — Пишегрю только что разбил пруссаков и австрийцев. Фемистокл уничтожает их флот у Саламина — Моро только что захватил флот голландцев в кавалерийской атаке. Это еще одна странность. Свобода Греции родилась в борьбе, которая, казалось, должна была привести к гибели, подобно тому как наша свобода родилась в борьбе с иностранными монархиями.
В ту же эпоху были расширены права; тогда же архонты и судьи были избраны из представителей всех классов. Кроме того, вы забываете, что именно в этот плодотворный период явился Эсхил; с беспечным ясновидением гения он создает Прометея, то есть символ бунта человека против тирании; Эсхил — это младший брат Гомера, но кажется его старшим братом!
— Браво! Браво! — воскликнул чей-то голос. — Право, вы прекрасно сочиняете. Между тем в квартале Фейдо и в секции Лепелетье люди убивают друг друга. Вы слышите бой колоколов? Они вернулись из Рима.
— А, это вы, Барбе-Марбуа, — сказала г-жа де Сталь мужчине лет сорока, чья красота была величественной и безжизненной (такого рода красота встречается среди придворных и дипломатов); впрочем, это был очень порядочный человек, зять президента-губернатора Пенсильвании Уильяма Мура. — Откуда вы?
— Прямо из Конвента.
— Что там делают?
— Спорят. Объявляют секционеров вне закона, вооружают патриотов. Что касается секционеров (они уже отыскали колокола, и вы их слышите), то это переодетые монархисты. Завтра они отыщут свои ружья, и, думаю, у нас начнется славная пальба!
— Что поделать! — сказал очень некрасивый мужчина с гладкими волосами, впалыми висками, мертвенно-бледным лицом и кривым ртом; уродство этого лица было одновременно и человеческим и звериным, — я повторяю им в Конвенте изо дня в день: "До тех пор пока у вас не будет четко налаженного полицейского ведомства и министра полиции, действующего не по долгу службы, а по призванию, дела будут идти из рук вон плохо". В конце концов, поглядите на меня: я обзавелся дюжиной молодцов ради своего удовольствия, занимаюсь сыском как любитель, ибо меня забавляет игра в полицию и я осведомлен лучше правительства.
— И что же вам известно, господин Фуше? — спросила г-жа де Сталь.
— Ах, госпожа баронесса, по правде сказать, мне известно, что шуаны были созваны в Париж из всех частей королевства, и позавчера у Леметра… Вы знаете Леметра, баронесса?
— Это агент принцев?
— Он самый. Так вот, Юра и Морбиан обменялись там рукопожатиями.
— И что это значит? — спросил Барбе-Марбуа.
— Это значит, что Кадудаль снова дал там присягу на верность, а граф де Сент-Эрмин снова поклялся отомстить.
Посетители других салонов поспешили перейти в главный салон и столпились вокруг трех-четырех новых гостей, которые принесли свежие новости.
— Нам прекрасно известно, кто такой Кадудаль, — ответила г-жа де Сталь, — это шуан; он сражался в Вандее, а затем переправился через Луару, но кто такой граф де Сент-Эрмин?
— Граф де Сент-Эрмин — это молодой дворянин одной из лучших семей Юры, средний из трех сыновей. Его отец был гильотинирован, мать умерла от горя, брата расстреляли в Ауэнхайме, и он поклялся отомстить за брата и отца. Таинственный председатель секции Лепелетье, знаменитый Морган, тот, что нанес Конвенту оскорбление, явившись в зал заседаний, — знаете ли вы, кто это?
— Нет.
— Ну так это он!
— По правде говоря, господин Фуше, — сказал Бенжамен Констан, — вы неправильно выбрали свое призвание. Вам следовало быть не моряком, не священником, не депутатом, не преподавателем, не комиссаром Конвента. Вам следовало бы быть министром полиции.
— Если бы я им был, — ответил Фуше, — в Париже было бы спокойнее, чем сейчас. Я спрашиваю вас: разве не в высшей степени нелепо отступать перед секциями? Мену следовало бы расстрелять.
— Гражданин, — сказала г-жа де Крюденер, любившая прибегать к республиканским формам обращения, — к нам пришел гражданин Тара; возможно, он что-то знает. Тара, что вам известно?
Она втолкнула в круг мужчину чуть старше тридцати лет, одетого с безупречным вкусом.
— Ему известно, что половина ноты равна двум четвертям, — насмешливо произнес Бенжамен Констан.
Тара поднялся на цыпочки, чтобы разглядеть автора недоброй шутки.
Тара был силен в музыкальной грамоте; это был самый удивительный их всех когда-либо живших певцов и, к тому же один из наиболее законченных типов "невероятных", которых запечатлела остроумная кисть Ораса Верне. Он был племянником члена Конвента Тара, со слезами на глазах зачитавшего Людовику XVI смертный приговор.
Его отец, видный адвокат, хотел, чтобы сын тоже стал адвокатом, но природа и образование сделали из него певца.
Природа наградила его изумительным тенором.
Итальянец по имени Ламберти давал ему уроки совместно с Франсуа Беком, директором театра в Бордо, и эти уроки внушили Гара-сыну такую страсть к музыке, что, приехав в Париж учиться праву, он стал учиться пению. Узнав об этом, отец лишил его содержания.
В то же время граф д’Артуа назначил его своим личным секретарем и устроил ему прослушивание у королевы Марии Антуанетты, и та немедленно пригласила его участвовать в своих частных концертах.
Тара совершенно рассорился с отцом, ибо ничто так не портит отношения отцов и детей, как лишение последних содержания. Граф д’Артуа собирался в Бордо и предложил Тара ехать вместе. Тот немного поколебался, но желание предстать перед отцом в новом качестве возобладало.
В Бордо он встретил своего бывшего учителя Бека, который сильно бедствовал, и решил дать концерт в его пользу.
Любопытство и желание послушать земляка, что уже приобрел некоторую известность в качестве певца, привело жителей Бордо в театр.
Концерт принес огромный сбор, и Тара имел такой успех, что отец, присутствовавший на представлении, вскочил со своего места и заключил сына в объятия.
За это покаяние coram populo Тара простил отцу все.
До Революции Тара оставался любителем, но, лишившись состояния, сделался настоящим артистом. В 1793 году он решил уехать в Англию; его корабль был унесен ветром и пристал к берегу в Гамбурге. Семь-восемь концертов, что певец дал с величайшим успехом, позволили ему вернуться во Францию с тысячей луидоров, каждый из которых стоил в ассигнатах семь-восемь тысяч франков. По возвращении он встретил г-жу де Крюденер и сошелся с ней.
Термидорианская реакция приняла его в свой круг, и в тот период не было ни одного большого концерта и представления, ни одного модного салона, где бы Тара не фигурировал в первых рядах артистов или гостей.
Это высокое положение делало Тара, как уже было сказано, весьма чувствительным. Поэтому не было ничего удивительного в том, что он приподнялся на цыпочки, желая узнать, кто свел его искусство к бесспорному в музыке принципу: половина ноты равняется двум четвертям.
Читатель помнит, что это был другой "невероятный" — Бенжамен Констан, не менее чувствительный в вопросах чести, чем Тара.
— Не ищи понапрасну, гражданин, — сказал он, протягивая ему руку, — это я выдвинул столь легкомысленное предположение. Если ты знаешь что-нибудь, скажи нам!
Тара от души пожал протянутую ему руку.
— Признаться, нет, — сказал он. — Я только что был в зале Клери; моя карета не смогла следовать через Новый мост, так как он охраняется, — пришлось объезжать вдоль набережных, где стоит адский грохот барабанов, и проехать через мост Равенства. Дождь льет как из ведра. Госпожа Тоди и госпожа Мара дивно спели две-три пьесы Глюка и Чимарозы.
— Что я вам говорил! — перебил его Бенжамен Констан.
— Не бой ли барабанов мы слышали? — спросил чей-то голос.
— Ну да, — продолжал Тара, — но из-за дождя он звучит слабее; нет ничего более мрачного, чем бой мокрого барабана.
— Ах, вот и Буасси д’Англа! — вскричала г-жа де Сталь, — вероятно, он пришел из Конвента, если только не сложил с себя полномочия председателя.
— Да, баронесса, — промолвил Буасси д’Англа с печальной улыбкой, — я пришел из Конвента, но мне бы хотелось принести вам более приятные известия.
— Что ж! — воскликнул Барбе-Марбуа, — снова прериаль?
— Если бы только это! — продолжал Буасси д’Англа.
— В чем же дело?
— Либо я сильно ошибаюсь, либо завтра весь Париж будет охвачен огнем. На сей раз это настоящая гражданская война. На последние предупреждения секция Лепелетье ответила: "У Конвента — пять тысяч человек, а у секций — шестьдесят тысяч; до рассвета члены Конвента должны покинуть зал заседаний. В противном случае мы беремся прогнать их оттуда".
— Что же вы собираетесь делать, господа? — спросила г-жа Рекамье своим прелестным нежным голосом.
— Сударыня, — сказал Буасси д’Англа, — мы собираемся сделать то же, что сделали римские сенаторы, когда галлы захватили Капитолий, — умереть на своих местах.
— Как бы на это посмотреть? — спросил г-н Рекамье с величайшим хладнокровием. — Я видел убийство депутатов поодиночке, и мне было бы интересно посмотреть на массовое избиение Конвента.
— Приходите завтра от двенадцати до часа дня, — отвечал Буасси д’Англа с не меньшим хладнокровием, — вероятно, тогда-то все и начнется.
— Ну, вовсе нет, — сказал новый гость, входя в салон, — вас не ждет ореол мучеников, и все вы спасены.
— Полноте! Не надо шуток, Сен-Виктор, — сказала г-жа де Сталь.
— Сударыня, я никогда не шучу, — возразил Костер, склоняя голову и приветствуя одновременно баронессу де Сталь, баронессу де Крюденер, г-жу Рекамье и других женщин, находившихся в салоне.
— Да что же случилось, в конце концов? Что вас заставило поверить во всеобщее спасение? — спросил Бенжамен Констан.
— Дело в том, дамы и господа, — я оговорился: граждане и гражданки, — дело в том, что по предложению гражданина Мерлена (из Дуэ) Национальный Конвент только что постановил: бригадный генерал Баррас в память о термидоре назначается командующим вооруженными силами. У него высокий рост, сильный голос; он не может долго разглагольствовать, это правда, но он превосходно может сказать без подготовки несколько энергичных и яростных фраз. Вы прекрасно понимаете, что, раз уж генерал Баррас будет защищать Конвент, тот спасен.
А теперь, когда я выполнил свой долг, госпожа баронесса, успокоив вас и этих дам, я возвращаюсь домой и буду готовиться.
— К чему? — спросила г-жа де Сталь.
— Сражаться с ним завтра, госпожа баронесса, сражаться от всей души, за это я вам ручаюсь.
— Ах так! Значит, вы роялист, Костер?
— Ну да, — отвечал молодой человек, — я полагаю, что в этой партии больше всего хорошеньких женщин. И потом… потом… у меня есть другие причины — о них знаю я один.
Еще раз поклонившись со своим неизменным изяществом, он вышел, а все принялись обсуждать принесенную им новость, которая, признаться, никого не успокоила, что бы ни говорил Костер де Сен-Виктор.
Однако, поскольку звон колоколов усиливался, барабаны не прекращали грохотать, а дождь не переставал лить, поскольку после этого сообщения ни у кого уже не оставалось надежды получить новые известия и, наконец, поскольку бронзовые часы с изображением Мария на развалинах Карфагена пробили четыре часа, — каждый из гостей подозвал свою карету и все уехали, скрывая под напускным спокойствием настоящую тревогу.
Назад: Часть Вторая 13 вандемьера
Дальше: XVII ГОСТИНИЦА "ПРАВА ЧЕЛОВЕКА"

