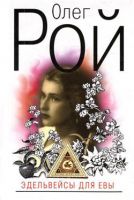15
Обложили Головина чувонцы, ровно зверя, стоят, разглядывают, а хозяин заимки чертежи его на песке посмотрел и говорит:
— Сдается нам, ты лазутчик воеводский. Мысли у тебя недобрые, парий.
— А чего им добрыми-то быть? — отпарировал Ивашка. — Я к вам четырнадцать месяцев шел, а вы не хлебом-солью — рогатинами встречаете. Семеро на одного… Исполать вам! Благодарствую!
И ни единым словом не пронял их: стоят и будто навершиями отточенными пощекотать хотят.
— На что тебя к нам царь Петр послал? — гнет свое чувонец.
— Ты сам угадай, на что, коль мои мысли знаешь!
— Тебе бы не след дерзить нам, парий. Мы с лазутчиками не валандаемся. Сгибаем два дерева, к ногам струним и отпускаем.
Ивашка опять на топор покосился — далековато стоит, успеют достать рогатиной. И тогда нащупал локтем нож каменный на поясе, от нижнего чина Булыги доставшийся: несмотря на свою диковинность, лешачий ножичек хоть и невелик лезвием, да широк был и настолько востер — побриться впору, не всякий железный перед ним устоит, С таким в абордажной схватке добро бы было. Ежели перекатом уйти под древки рогатин к ногам югагиров да пазгать их по животам — и кожаная одежина не спасет…
— Прежде возьми меня, чтоб струнить. Югагиры рогатины нацелили и два мягких шажка вперед сделали — не щекотать, вроде бы на воздух поднять хотят.
— Годи, ребза, — осадил их хозяин заимки и, строй покинув, к Головину приблизился, — Скажешь нам, с чем явился, мы думать будем, что с тобою сотворить.
— Я уже сказывал, раз царь послал — князю вашему отвечу. — Он встал. — Лучше пойдите да позовите.
— А кто с тобой пришел? — Югагир на избу глянул. — И в храмине моей почивает?
У Ивашки сердце екнуло — прознали!
— Не твоего ума дело, кто! — огрызнулся. — Зови Оскола и все тут! С тобой говорить не стану.
— Князь никого не велел к себе и близко подпускать, — заявил тот. — И всякому, кто найти его попытается, быть деревами разорванным.
— Ну, коль вы грозные такие, как знаете! Я вот сделаю челн и уйду от вас, ничего ему не сказав. А когда он прознает, зачем приходил, поздно будет. И с вас, поди, по три шкуры спустит, что не донесли ему.
— Допрежь мы с тебя скору спускать станем, покуда не заговоришь, — в задир пошел чувонец. — И с заимки сей никуда не выпустим! Без нашего желания ты отсюда и шагу сделать не сможешь, а на челне своем, так ежели только в последний путь.
Головин вспомнил, как они с Варварой кругами по лесу ходили, и угрозам югагиров внял. Однако сдаваться не собирался.
— Чего Распута страшится? Вас вон сколько! Да еще, верно, другие по лесам сидят, а я один. Труса празднует, что ли?
— Что празднует Оскол, дело не твое, парий! Ты пред нами ответ держи!
Когда тебе семь рогатин в грудь целят и столько же пар глаз поедом едят, тут ничем, кроме отваги да ярости, не возьмешь. Чуть слабину почуют — запорют, как зверя, в рем-ки, в лохмотья посекут.
Головин в сердцах шапкой о землю.
— Ну и люди вы упрямые! Я-то думал, чувонцам и впрямь грядущее ведомо. А вы дачее носа своего не зрите! Ну, ладно, каков с вас спрос, должно быть, простого звания чувонцы. Князь-то что? Тоже ни сном ни духом? И не ведает, кто к нему вдет? Не чует?
— Князь не звал никого! — был ему ответ. — И не ждет, тем паче людей царевых.
— Может, Распута ваш спрятался и помирать готовится? — напропалую пошел Ивашка. — Оттого и лишился прозренческого дара? Дядя его, Тренка, как о смерти думать стал, так вовсе ослеп и нюх утратил. А провидец и мудрец был, поговорить отрадно! Может, все вы здесь отходить собрались, и оттого твердолобые, хоть кол на голове теши? Ежели сказано: царем ко князю послан и с ним говорить стану, то иного слова не дождетесь!
— Сказывал, с Тренкой к нам добирался? — спросил вдруг хозяин заимки. — Со сродником княжеским?
— Ну, с Тренкой! Был бы он жив, подтвердил.
— Зрел, яко его лютой казни предавали?
— Зрел…
— Такое же и с тобой сотворим. С царевыми людьми у нас ныне око за око, зуб за зуб.
— Полно стращать-то! А Тренку, между прочим, хотели казни предать, да не предали. Оттого человеком умер!
Югагиры переглянулись и еще шажок вперед сделали, верно, чтоб слышнее было, ибо вода ночью в речке прибыла и расшумелась.
— Отчего же не предали? — враз как-то поостыл чувонец.
— Волки были сыты! Иной пищи было довольно в тот час…
Они вновь переглянулись, и будто пробежал меж ними некий молчаливый разговор.
— Яко же он сей мир покинул? — все еще пытал хозяин заимки.
— У меня на руках скончался, — признался Головин. — Схоронил его по вашему обычаю, как научил.
Показалось, они вздохнули облегченно, однако рогатин не убрали. Хозяин заимки взглянул уже без былой неприязни.
— Молча ушел либо со словом?
— Пророчествовал…
— И что же сказывал?
— «Не удалось супостату мой рок изрочить, — сказал. — Знать, снова приду ко царскому двору».
— А срок назвал? — чуть ли не в голос спросили чувонцы.
— Сказал, немногим менее лет двухсот спустя.
— Как его имя будет?
— Имя будет — Григорий, прозвищем Распута…
Чувонцы рогатины подняли вверх навершиями и, опершись на них, ровно оцепенели, но Головину показалось, разговаривают они, что-то обсуждают, только молча. Тут хозяин заимки прервал их «разговор».
— Ступайте, ребза, — велел он. — Передайте князю.
И пошел берегом речки, откуда в первый раз явился, а семеро его соплеменников побежали в лес, и в тот час растворились в предрассветной мгле.
Ивашка потоптался еще на берегу, хотел в избу пойти, но глядь, Варвара к нему спешит. В сумерках лик ее белым почудился, ровно мелом попудрен.
— Кто были сии люди? — спросила, задыхаясь, будто на пожар бежал а.
— Радуйся, невеста, — обронил Головин, отворачиваясь. — От жениха твоего люди, чувонцы.
Она как-то обреченно присела на бревно, потупилась скорбно.
Или показалось…
А Головин стер с песка свои рисунки и принялся новые чертить, дабы выметать из себя мысли зыбкие. И верно, от того челл на картинках кривился и кособочился, словно в огне горел.
— Куда же они ушли? — наконец спросила княжна.
— Должно быть, за Осколом, — между делом обронил он. — Едва уговорил, не ждали нас тут… Сказал сим чувонцам, буду только с князем говорить.
Голос ее тоже показался обреченным:
— О чем станешь говорить, Иван Арсентьевич?
— Да будет о чем… — Он подыскивал причины, — У меня от государя императора послание к нему есть. Обсудить след…
— А еще о чем?
— Ну, спросит, к примеру, где приданое? Сороковину лисий чернобурых твой родитель получил, а дары его и приданое растеряли мы…
И опять ему почудилась надежда, глуховатой пастушьей дудкой прозвучавшая:
— А без приданого он взамуж не возьмет? Не надобно было бы сомнения сеять в ее душе, но не сдержался:
— Не знаю, что дороже ему… Приданое с дарами иль невеста. Сдается, ничего, иначе бы давно уж здесь был, коль провидец.
Варвара помолчала, затем произнесла окрепшим голосом: — Что гадать? Господь все зрит, Он и рассудит.
— И то верно, — согласился Головин, о своем думая. Он рисовал на песке да стирал, и вдруг поймал линию точную, лебединого очертания, и в тот час зримо предстал перед ним челн — крутобокий, с насадным изгибом носа и кормою обтекаемой. Боясь стряхнуть видение, Ивашка мысленно посадил Варвару и сам сел за весло. Челн колыхнулся на водной глади, словно приноравливаясь, и сам полетел над рекою.
Иван же взял и начертал на песке то, что видел, — двоих людей в лодке, а княжна к сему интерес проявила, приподнялась, чтоб рассмотреть, что это он там рисует, и пришлось стереть челн.
И в тот же миг он из воображения стерся…
— Ступай-ка в избу, княжна, — сказал Головин. — И почивать ложись. Ночь еще на дворе…
— Здесь подожду, — заупрямилась она. — Грех в строгий пост в постели нежиться…
— Что ждать-то? Князь, может, не скоро придет…
— Я мешать тебе не стану, Иван Арсентьевич. Черти свой челн. Солнышка дождусь и пойду…
Он тогда и в ум не взял, куда пойдет, решил, в избу вернется, суженого ожидать, и посему, дерзости исполнившись, речной песок разровнял и вновь принялся рисовать. И вот поди же ты, во второй раз еще искуснее удалось вычертить лебяжью линию! Вычертил, примерил, каков формою форштевень след вытесать, размеры шпангоутов посчитал, все отдельно нарисовал и взялся за топор.
Тут и солнце поднялось за Индигиркой — розовое выкатилось, разлиновало тенями землю и ветерком студеным дохнуло. Варвара незаметно перекрестилась и к избе направилась. А Ивашка распилил последнее дерево, расколол его на плахи и взялся тесать. Сам же то на избу, то по сторонам поглядывает, но не дает свободы сердцу и, дабы не озябло, яростью его согревает. Форштевень цельным вытесал, по рисунку, выстрогал его гладко, выбрал топором пазухи для бортовых тесин и принялся за шпангоуты, каждый из которых из трех частей состоял. Нарисует угольком часть, вытешет и сразу за другую: когда сердце в любовной ярости, рука сама раззадоривается и красоту сотворяет.
Заготовил он части и пошел в избу, чтоб шомпол взять и, раскалив его на огне, отверстий нажечь да сбить шпангоуты деревянными гвоздями. Варвара в своей светелке была и, судя по шепотку, молилась, постница. Головин и тут сердце скрепил, не дозволил себе остужаться и ее страстной молитве мешать; вместе с шомполом суму свою прихватил, где государев указ хранился, чтоб, если князь явится, ему оный и предъявить.
Да на цыпочках удалился.
К полудню уже остов челна выставил, скрепив его донными тесинами да бортовой обводкой. Не хватало единой детали — замка, чтоб кормовые тесины свести и замкнуть. А требовалось не толстое и кривое от природы деревце, коих вокруг было довольно. Посему он отлучился на четверть часа в ближайший лес, вырубил подходящую березку, вытесал из нее замок, вместо долота каменным ножом лешего выбрал узкие пазы, приладил замок к остову, и челн сам собою нарисовался. Отошел Иван в сторону, полюбовался — точь-в-точь получилось, как привиделось.
И хотел уж Варвару позвать, чтоб взглянула, но тут видит, берегом Индигирки человек идет, судя по одеждам кожаным, югагир. Издали сначала показалось, хозяин заимки, но ближе подошел — нет, другой: ростом с Головина, черная борода уже проседью побита, волосы ремешком повязаны, брови вразлет, ровно крылья птичьи, и взор воистину варварский, пристальный, ровно у филина…
Один пришел, и оружия при нем никакого, даже ножа на поясе нет, да Ивашка будто на медвежью рогатину напоролся — бог весть почему, но именно эдаким и представлялся ему чувонский князь. Не сказать красавец писаный, и не богатырь вовсе, да такие обыкновенно по нраву бывают девицам.
Только вот встреча не так мыслилась: подошел Оскол, встал чуть бочком и ноги расставил, словно к кулачной драке изготовился.
Руки не подал.
— Сказывай, зачем звал. Я князь югагирский, Оскол Распута.
Вроде бы как одолжение сделал, что пришел, а ведь прибежать должен и сразу про невесту спросить да на нее позреть…
Головин решил нравам здешним особого значения не придавать — не Русь святая, всих студеных землях свои хладные обычаи, хлеба-соли не дождешься. Прежде всего след перед самим собой по чести поступать, как совесть велит и этикет посольский.
— По поручению его величества Петра Алексеевича прибыл капитан третьего ранга Головин Иван, сын Арсентьев, — представился, как подобает. — Во исполнение предсмертной воли государя императора сопроводил невесту твою, княжну Варвару Тюфяккну.
Он хоть бы глазом моргнул, глядит, ровно филин, и ждет. А Ивашка уже далее слово свое изготовил, намереваясь сказать, мол, невесты сей он не отдаст Оскалу, ибо самому так мила и люба, что жизни без нее не мыслит. Но в утешение ему, князю, и всему народу югагирскому передает указ государев, коим волен распоряжаться по своему усмотрению. И отныне чувонцы ослобождаются от ясака, их унижающего, и переводятся в разряд людей российских. Ему же, князю Распуте, готов он, Головин, высватать всякую девицу, которая будет по нраву.
Изготовил сие слово, да Оскол сказать не дал.
— Неведомо мне, о какой невесте ты толкуешь, боярин, — говорит, — коль невесту, посланную мне царем Петром, государевы люди на Енисее полонили и в Ленский острог заточили. А уж оттуда я сам ее добыл, и теперь она — жена мне, по обычаю чувонскому и христианскому венчанная.
И ныне радостную весть сообщила — наследника зачала. Сие событие в роду Распут суть праздник великий, и след мне вещий камень ставить, дабы имя сыну добыть. Я же от торжества отлучился, дабы с тобою говорить.
Ивашка-то вмиг догадался, о ком речь идет, но к сему обороту не готов был и мыслью словно в запертую дверь уперся: сказать, что Оскол Пелагею в жены взял, или уж промолчать? Дело-то сделано, князь по собственной воле оженился! А что не узрел на ком, что заместо родовитой княжны ее служанку взял, так чувонец сам виноват, где его прозренческии взор был? Отчего самообман в своей вещей книге не вычитал?
А ему, Головину, от сего только радоваться бы!..
Постучался мыслью, и отворилась дверь.
— Государевы люди посольство пленили, сие верно, — говорит, а сам будто на плаху идет, под топор. — Только в обозе служанка невесты была, Пелагея именем. А истинная, княжна Тюфякина, со мною на нарте ехала.
Князь опять, ровно филин, воззрился на него и только раз моргнул, показывая птичьи веки. Но даже взглянуть на Варвару не пожелал, не расстроился.
— Сия Пелагея по нраву мне пришлась, — отвечает. — Душою к ней прирос. А что любо, то и рок суть, от того и род свой продлить след.
Головин облобызать его готов был, да усмирил чувства.
— Добро, коли так. Оскола же иное озаботило:
— Чуваны сказывали, ты дядю моего, Тренку, в последний путь проводил?
— Проводил…
— По нашему обычаю воздать тебе надобно. И я воздам — вещую книгу пред тобой открою.
Ивашка на избу глянул, где княжна таилась, но не сказал, что уже получил награду, самую желанную.
— Не хочу я, князь, грядущего знать, — проговорил сдержанно, — Мне и настоящее добро. Лучше людям своим накажи, чтоб верную дорогу мне указали, как поскорее обратно выбраться.
Оскол воззрился на остов челна и молвил со знанием дела:
— Добрый челн будет, ходкий. Не видывал подобных. — Помолчал и добавил: — Токмо нет тебе обратного пути.
— Как же нет? — слегка оторопел Головин. — Мне след возвращаться.
— Не пройти на заход. Далее Лены-реки не пустят.
— По всем дорогам заслонов не наставят.
— Один будет, в него и угодишь.
— Ну, один я обойду! Укажи, в котором месте?
— Указать-то могу, — не сразу вымолвил Оскол.
— Да не обойдешь, ибо судьбы своей не минуешь. На пороге дома настигнет и в темя клювом ударит. Роковая печать с тобою. Ее и отнимут царские люди. Вкупе с головою…
Ивашка сразу же о княжне подумал, а про указ государев в тот миг совсем забыл.
— А ежели я на Индигирке останусь? — безнадежно спросил. — Схоронюсь где-нито?
Оскол вновь мигнул и, как филин, взор свой куда-то мимо Головина устремил.
— И здесь сыщут. Да еще новую беду на нашу землицу накличешь.
— Что же я эдакое сотворил, коль, словно зверя дикого, всюду травить станут?
— Роковую печать с собою носишь. Только сейчас Ивашка и вспомнил про указ, достал из сумы свиток с печатями государя Петра Алексеевича.
— Возьми себе! — Снял со свитка тряпицу и подал, — Я волен по своему усмотрению сим указом распорядиться. Отныне югагиры от ясака освобождаются и в разряд российских людей переводятся. Государь сию привилегию даровал! Теперь воевода с казаками здесь свои суды чинить не будут. На, прочти!
Распута даже в руки бумагу не взял.
— Царев указ югагирам не благо, а погибель верная. Приму его — иные ясачные народы в тот же час исполчатся на нас.
— Что же с ним делать? Может, на огне спалить?
— Бумага сгорит, да печать останется. Вернуть ее след тому, кто послал.
— Ежели верну, откроется мне обратный путь?
Князь опять вдаль посмотрел и говорит:
— Не откроется.
— Да отчего же?!
— Оттого что, придя на сей промысел, ты в ловушку угодил. Куда бы на заход ни пошел, непременно назад возвратишься. Ужель ты здесь не кружил?
— Кружил! — Головин вспомнил, как ходил лес на челн искать. — И на кого же вы поставили сей заколдованный круг?
— Лисиц чернобурых промышляем, — был ответ. — А твари сии вспять своим следом не ходят.
— Куда же мне идти?
— На восход ступай, единый путь тебе открыт.
— Нагадал же ты мне дорогу, князь! Как же я на сем челне через моря и океаны пойду? Да и чертежей тех землиц у меня нету!
— Иного пути с сего промысла не бывает, — вымолвил князь и, показалось, усмехнулся. — Ты, боярин, жар-птицу изловил. А с нею токмо на солнце идти надобно. Тогда незрим станешь. Да держи ее крепче, чтоб не вырвалась.
Повернулся и пошел себе путем, откуда явился, — след вслед…
И едва скрылся из виду, Головин полетел к избе, ворвался с шумом, дверь нараспашку оставил.
— Варвара! Сие рок, чудо свершилось! Услышал Господь вопли твои! А я ведь знаю, о чем ты молилась!
Послушал — ни слова в ответ. И тихо как-то — должно быть, слушает…
— Бог по справедливости рассудил, Варвара, — однако с напряжением проговорил он. — Князь Оскол служанку твою, Пелагею, из плена вызволил. И замуж за себя взял. Знать, ты вольна теперь от слова своего…
Завесу на двери приподнял, а там пусто.
— Варвара? — не веря глазам, окликнул Ивашка,
В другую заглянул, в третью — никого! Вбежал в светелку княжны, постель ощупал, под топчан заглянул — спрятаться-то негде!..
И узрел тут, что нет узелка ее малого, с коим ехала на Индигирку Варвара, — с тем, что от приданого осталось: медная иконка-складенок, требник, ладану кусочек да свечной огарок, ровно у бедной невесты…
Иван на улицу выскочил, огляделся, округ избы оббежал. И слышит, кто-то стонет, вроде бы рядом. Ринулся на сей звук, а стон от него дальше, все слышней, да не догнать. К реке побежал — и он впереди несется; к своей верфи бросился — и там стон! А мысль будто вторит — похитили княжну, украли, покуда князь про дорогу толмачил! Товарищи его подкрались с другой стороны, умыкнули и увели неведомо куда!..
Потом остановился посередине заимки, прислушался и понял, что гоняться-то напрасно, ибо у него из груди стон вырывается. Задавил он в себе сей клекот, унял панику в голове: на что было похищать? Когда сам князю сказал — невесту привел? Пелагею Распута из острога вынул, так не по обычаю — по нужде, ибо взаперти держали…
Ушла Варвара. Взяла свой узелок и ушла куда глаза глядят. По всему было видно: не хочет она за Оскола, в тягость ей станет сие замужество, сама уж не рада, что случил ось так…
Но и за другого ей нельзя. Хуже смерти — слово свое нарушить, присяганье перед иконою!..
Вот и сгинула, чтоб никому не достаться…
И мысль сия перелила стон в рев звериный.
— Варвара…
Когда в избу за шомполом приходил — в келейке своей была, молилась, шепоток ее слышал. Знать, миновало стой поры часа три, не более того — далеко уйти не могла. Только вот в какую сторону направилась? Вверх по Индигирке речка не даст, вброд не одолеть; только вниз: остается и обратным путем, на заход солнца — туда, куда путь заказан! Да не ведает о сем княжна!
Не раздумывая более, Головин и ринулся вдоль берега. И уж когда на полверсты отбежал, спохватился, что подзорной трубы и ружья не взял, сумки зарядной на поясе нету. Один лишь ножик лешачий в ножнах, да уж некогда возвращаться, и примета плохая.
Бежит, а сам по сторонам взором рыщет: следа на мху не найти, ибо княжна в мягких нганасанских унтайках ушла, и не увидеть ничего вдалеке — зелень в сем студеном краю скоро выметывается, вон уже листвяжник хвою выбросил, кусты листвою, ровно покровом, укрылись, багул зацвел огненными сполохами и так обманно светит, будто под каждым древом по жар-птице сидит!
А Индигирка еще полноводна, стрежень повсюду, даже у каменистых берегов валунами глухо брякает, полощет жеванный ледоходом ивняк, а где скалы вплотную подступают, там воду ключом пучит, гулкие воронки крутит, и эдакие, что дерево с кроной, где-то подмытое и упавшее, торчком ставит, засасывает и после выплевывает много ниже, ровно рубанком оструганное. Ивашка взбежал на горку. И как глянул вниз, остолбенел на миг: вдруг будто наяву позрел Варвару, над жерлом сим летящую!
Ужель решится на грех столь тяжкий?!
— Варвара!..
А воронка крутит, притягивает, засасывает не только дерева да сор весенний, но и взор человеческий манит. Страшно, а манит! Будто и впрямь врата в преисподню!
В тот же миг Ивашка отогнал наваждение — тьфу, тьфу, тьфу!
Да почуял, как от берега, от сей пучины речной, в иную сторону поманило — прочь от реки, прямо на заход солнца. Головин побежал по горной залысине, хотя не было там ни тропинки, ни следа на щебенке, ни прочих примет места хоженого.
С версту промчался и на каменный столб наткнулся, вокруг малыми камнями обложенный, — встречались уже подобные знаки. Огляделся и далее побежал, куда влекло; с горки в распадок, а там снова вверх, и все прямо бежал, благо, что закат яркий — не собьешься. Вечерняя заря плавила небо, ровно железо в горниле, и оно, стекая на твердь земную, обращалось в стаю жар-птиц.
И клин сей летел впереди, зазывая его за собой.
— Варвара!..
В ответ лишь эхо рычит зверем лютым.
Сколько уж пробежал — не мерял, да глядь, снова очутился на заимке, и не вечерняя уже заря — утренняя, за рекою Индигиркой…
Когда и круг сделал, не позрел.
Глядит, а возле остова челна Варвара сидит, с узелком и притомленная изрядно.
— Не уйти отсюда, Иван Арсентьевич, — пожаловалась. — Третий круг сделала, а все одно сюда прихожу. Леший водит…
— Ничего, — сдерживая дыхание, вымолвил он. — Мы с тобой лешего обведем. Мы с тобой встречь солнцу пойдем, вокруг всего света…
08.08.08д. Скрипино
Назад: 14
На главную: Предисловие