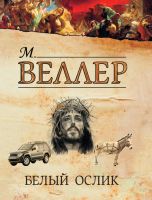22
— Молился Богу сатана и вымолил Россию для мучений!
Дух затаив, озрел весь сруб — духовник, старец Епифаний спокойно почивал на нарах, глухой и темный Лазарь сидел в углу и хоть не спал, но безъязыкий, мог лишь мычать. Четки пнул ногой, встал на колена, помолился в угол.
— О, Господи, я столько лет страдал, уразуметь пытаясь, за что России муки. Я думал день и ночь! А ныне вот открылось!.. Дух Святый! Неужто ты глаголешь мною, рабом твоим? Откуда откровение сие — молился Богу сатана и вымолил Россию для мучений? И верно, кто, как не дьявол может мучить православных?
Тем часом за спиной раздался шорох, стук и вздох тяжелый.
— Ох-хо-хо-ох…
— Ты, старче? — окликнул Аввакум. — Ох, преподобный, дивлюсь и ужасаюсь, егда уста мои принадлежат Святому Духу. Велел ты поспешать, коли вдова приснилась, послушай же, что ныне мне открылось. Молился Богу сатана и вымолил Россию для мучений!
Не отозвался старец. А обернулся и позрел — да почивает он! На костяных ногах, с огарочком в руке, пробрался к Лазарю и посветил в лицо.
— Ужель язык отрос?..
Поборник старой веры зрел мимо и даже не мычал. Чу, вновь шаги! Иль сруб под снегом оседает, а посему блазниться?
Распоп перекрестился, сел за стол-колоду, пером к бумаге прикоснулся и без отрыва и огрехов единым духом написал: «Молился Богу сатана и вымолил Россию для мучений». Прислушался — вдруг снова шорох, нары заскрипели, и голос был:
— Корош батька Авва! Так говорил Арсений Грек!
Со страхом оглянулся — се старец встал и воду пьет!
— Ты звал меня?
Духовник Епифаний поставил ковш, уста утер.
— Почудилось, ты звал…
— Послушай меня, отче! — взмолился Аввакум. — Послушав же, ответь: я ль, грешный протопоп, сие изрек? Молился Богу сатана… Ты слышишь, преподобный?.. И вымолил Россию для мучений. Сие есть истина?
— Молился и вымолил?.. Добро, сие благословляю.
Распоп вдруг взор поднял и выронил листок: заместо старца у ведра — табашник, вор и проходимец Паисий Лигарид! Саван черный и побрит — блядолюбивый образ!
— Свят-свят… — рука для крестного знамения не поднялась. — Ты кто?
— Я супротивник твой, — и трубку с табаком достал. — Митрополит Паисий. Ужели не признал?
Перо сломав, отпрянул Аввакум и осенил крестом.
— Ты сатана! Признал тебя! Сгинь, пропади, нечистый!
Паисий к каменке склонился и, уголек достав рукою голой, табак свой раскурил.
— Признал, признал меня, ревнитель благочестья. А то чего же не признать? Сколь сварились с тобой, сколь копий поломали… Ох-хо-хо-ох! Уж думал, не сведет судьба, да ты меня позвал!
— Да я не звал! Вот я тебя крестом! Святой молитвой!..
— Неужто старый стал? — вздохнул антихрист. — Ослышался, поди… Не ты ли поминал меня, егда тебе открылась истина: «Молился Богу сатана и вымолил Россию для мучений»? Уж, подтверди, коль ты сие сказал.
— Сказал, — признался Аввакум, нательник сжав в кулак.
— Ну вот, добро, что не отрекся от слов своих. Ты помянул меня, и я в тот час явился, чтоб утвердить сие. Ты прав, распоп, молился к Богу я и вымолил. Знать, я прилежен был и истово молился, коли Господь меня услышал. Теперь помысли, чье слово Господу слышней? Вас, православных, или мое, суть, Князя Тьмы?
— Изыди вон, проклятый! — чернилами плеснул — антихрист увернулся.
— Не прогоняй, коль звал, — и засмеялся. — Поелику господь в твои уста свои слова влагает, так не страшись меня, не лей чернил, аще и пригодятся. А ну, сразись со мной? Иль дух в тебе иссяк? Ты же со мной сражался? По всей Москве, на площадях, с амвона, что ты кричал? Митрополит табашный? Суть, сатана?.. Но кто меня признал? И кто тебе поверил?
— Увы, увы мне! Народ наш чист и посему доверчив. Егда из-за моря явившись, Князь Тьмы наденет ризы, знать имя ему отче. А коль отец, знать прав, дурного не глаголит и посему табак вонючий твой почудится за благо! О горе, горе мне! С тобой сражаясь, я мыслил просветить народ, чтоб отделял зерно от плевел, да все напрасно. Святые люди, право слово!
Антихрист дымом пышкнул, засмеялся:
— Не потому ль Господь и отдал мне Россию? На что Ему доверчивый народ, что, не задумываясь, ряженому верит? Ужели мало в мире народов хитроумных и сметливых, вести которых за собой составит честь и Богу? А прямодушные… Они просты и безыскусны, глаза таращат, в рот глядят. И ими управлять зело большая скука. Господь того и ждал, егда я преклонюсь пред ним, замолвлю слово и заберу Россию под свою десницу.
— Чтоб мучить? — вскинулся распоп. — Ты лжешь, треклятый! Не верю я тебе! Господь всемилостив, и чтоб любя всех нищих и блаженных, вдруг бросил их на произвол судьбы? Тебе отдал?!. Не верю, дьявол! Да ведаешь ли ты, что Русь, суть нива Божья, где сеется и процветает Христова вера и любовь? Где зреет Его плод? Не ведаешь, так знай! И кто тебе поверит, что Всевышний вдруг отдал свою ниву вору мира? На муки смертные?!
— Но ты поверил мне?
— Я?
— Ты, ты, Петрович. Что здесь написано? — и взял с колоды лист. — «Молился Богу сатана и вымолил Россию для мучений»… Позри, твоя рука?
— Моя рука, — промолвил он со страхом.
— Да видит Бог, твоя! Коль написал, прочтут потомки. И поверят, и обвинят меня. Ты ж не холоп, не простолюдин — суть, Аввакум Петров! А я? Я ж малый вовсе и по сути, персть, и зреть меня возможно лишь в потоке света, коль око востро. Но и сие досужий вымысел. Открою тебе тайну, коль еще не знаешь. Сказать по правде, меня вовсе нет!
— Ах, ряженый обманщик! Меня не проведешь. Коль зрю тебя с рогами и копытом, ты есть, Зло Мира! И от тебя идет скверна из края в край, по всей России!
— Ну, будет, Аввакум, — Княз Тьмы печально засмеялся. — Эх, был бы я, все в Божьем царстве было в по иному. А ныне что? Господь один, как перст, но вас же много! Все молятся, кричат, взывают — дай! Дай хлеба, блага, радости, дождя иль снега. Егда тепло, дай хлада, а хлад царит — тепла. Как угодить вам, люди? Ужель доселе вы не вняли, мир суть таков, как создал Бог? И все по его воле? Нет, молятся и лбом по половицам — дай! Язычники вы суть, не христиане. Иль может, вовсе веры нет… А был бы дьявол сущ, в миг бы позрели Бога!
— Постой, но кто же есть? — душа насторожилась, словно смерть пришла.
— Господь есть сущ, Всевышний. И боле никого!
— А как же сатана?
— Да нет его! Ни сатаны, ни дьявола, ни Князя Тьмы, ни ангела, упавшего на землю. А равно и антихриста! И мелких бесов нет, чертей и прочей нечисти. Все вымысел, как су, рога, копыта. Нет зла на белом свете как такового, ибо правит Бог.
— Ты лжешь, Паисий! Хочешь скрыться и убедить меня, что нет антихриста от сотворенья мира, а значит, нет и зла? Но вот оно, повсюду! Иль ты не зришь его?
— Зло есть, распоп, и много. Устал уж зреть его…
— И кто же правит злом, коли не дьявол? Ужели скажешь, Бог?
— От Бога лишь любовь, от человека — зло, — потряс бумагой. — Позри сюда, кто написал? «Молился Богу сатана…»
Распоп бумагу выхватил и в клочья разорвал.
— Я сотворил сие и уничтожил! Но от кого мне было откровенье? Кто начертал слова?
— Твоя гордыня!
— Да я смирен, как агнец! Ты наустил! Ты надоумил, рукой моею намарал!
Князь Тьмы отпрянул, изумился.
— Почто же я? Уволь уж, право! Привыкли, Божьи дети, чуть что худое — дьявол! А я и знать не знал, покуда не услышал из уст твоих сие.
— Ага, признался! Ты суть — дьявол! И от тебя исходит зло!
— Се верно, дьявол я…
— А что же споришь?
— Но порожден не Богом, коль исходить из истины, что мир сей создан Им. Не падший ангел я!
— Известно мне, кто ты. Есть истины иные, ученье суть, святых отцов. Они же пишут о тебе и называют сатаною, суть, Князем Тьмы! Или ошиблись старцы, оболгали?
— Ох уж, отцы святые! Они были, как ты, неистовы, и тако же творили. Меня же вознесли, дабы пугать народ и в крепости держать. Чуть в сторону ступил, уж говорят, продался дьяволу, расписка кровью и на костер его. Или, к примеру, дева красна была от рода — Господь узрел и наградил! — в тот час же скажут на меня и поведут в огонь. Чего уж там! Сии отцы святые любовь земную, совокупленье, продолженье рода и то отдали сатане! Но сам помысли, ты же веришь в Бога, коль создан ты по образу и подобию, возможно ль, чтобы уд твой поганым был и мерзким? Ужо перестарались! Так и со мной. Эк, вознесли, чуть ли не вровень с Богом! А в самом деле нет меня…
— Добро, коль ты не созданье Божье, то откуда взялся? Чье отродье?
— Ох, отче Аввакум, твое.
— Мое?!
— Ты породил меня — позри, яко силен? И образ твой, позри?
И вдруг преобразился! Стоял табашник, вор, а стал священник православный — иконописный лик и ряса со крестом. Хоть Аввакум давно не зрел себя в зерцале, однако же признал — ей-ей, как в молодые годы!
— Я много чад родил, но токмо не тебя! — не дрогнув, вымолвил распоп. — А что похож — известно всем, какой ты лицедей.
— Я суть твоя другая, однако плоть от плоти! Я изначально был в тебе, как семя, как гнида, в коже был. Егда же вышел, ты вскормил меня, удобрил почву, и я возрос. А ну-ка, вспомни, Аввакум, с лет каких ты гнев испытал и злость или иной порок? Пожалуй, с отроческих, егда родитель твой, священник, напившись зелья, учил супонью и запирал в чулан. Безвинно бил, и ты гневился, чем пестовал меня. А сам казнил ли прихожан? Кого ты плетью высек посередине храма? — он вынул рукопись из-под колоды и полистал ее. — Вот се ты пишешь сам, как сек, и как секли тебя. Но здесь неясность есть, за что озлобился народ, что тысячей пришел, чтобы убить тебя? Ты рещешь, дьявол научил попов и мужиков, и баб, но ей же ей, я не учил! Я малый был в тебе, по сути, отрок. И все одно, толпою навалились и убили, под избу бросив. По Божьей воле токмо жив остался. Ох, злобен был, егда очнулся! Рвал и метал! И вот тогда возрос я, возмужал! Ну, а когда хулил царя и поносил попов-отступников, я взматерел и стал воистину суть дьявол.
— Ужели я вскормил тебя в своей душе? Свят-свят…
— На сей раз угадал! Вскормил, отец, а посему я всюду за тобой, куда бы ноги ни вели.
— И всякий смертный так? За каждым тень бредет?
— Не всякий, Аввакум. В ином я оживу, а он, ну, впрямь тишайший! Не то, что злобится — не забранится. Воистину божественного нрава! И вот тогда я сам не свой, ни почвы, ни кормленья. Итог же — суть, преображенье. Не дьявол боле я, а имя рещат — совесть. Две ипостаси мне отпущено и две судьбы — иль зло, иль совесть, но выбрать не имею права. За вами выбор, за людьми.
— Я ратовал за совесть…
— Ох, припоздал, добро ли исправлять? Я стар уже, закоренел во зле…
— Тебя исторгну! Изыди прочь!
— Ты многих уж исторг. Кого в огонь послал, кого на дыбу. Здесь у тебя вдова была. Вон, четки обронила… Ты и ее исторг. А ныне где она? Что с нею сотворилось?.. Не ведаешь, однако думы гложут, кто мучает Россию…
В ту зимнюю ночь метелило, ни луны и ни звезд, да светло на Ямском дворе от костров, будто в масленицу. Марию, монахиню беглую, к огню подвели.
— Зри!
Воротынский сорочку сорвал, надругавшись над иноческой непорочностью.
— Зри, вдова!
Руки бечевкой стянули, и птицей забилась душа — ужели живьем сожгут? Но нет, веревку с дыбы спустили и вздернули над огнем.
— Зри, вдова! Се пытаем не мы, князья — ты своею крепостью! Покорись царю и прими три перста!
— Передайте Тишайшему — се три перста!
И кукиш сложив, показала князьям. Взбагровел Воротынский, упрев у огня, тут же в уголь счернел.
— Подавайте сестру ея!
Монахиню сбросили в снег, мол, остынь, а на место ее притащили сестру Евдокию.
— Зри!
— Крепись, Феодора! — сказала сестра. — Не мне сия пытка — тебе испытанье. А мне все равно, коль муж меня предал.
Князь Одоевский плат сдернул с нее, простоволосую выставил, а подручный его, князь Волынский, руки веревкою спутал.
— Зри же, вдова! — неистовал Воротынский. — Ужель позору не боишься?
— Мне нет позору — вам позор. Да видано ли, эдак жен пытать?
— Вина велика, возгневила царя.
— В чем же моя вина?
— Ответствуй, где Истина?
— Истина там, где князья светлейшие — не палачи.
На встряску подняли сестру.
— Зри! Иль сердца нет у тебя? Не муж ты, а суть, жена! Ужели не вздрогнет душа?
— Трепещет душа, и сердцу несносно зреть муки. Да верой тверда.
— О, Господи! Не женщина се — сатана! Эй, князи, огня ей под ноги!
Огня подгребли под дыбу, уголья и головни — вскричала сестра, а боярыня вдруг подломилась, пала на снег и обмерла.
— Зри! — Воротынский ей голову поднял, но падала голова.
— Пыток сих не снесла, — Одоевский потрогал руки, длань подставил к устам. — Ужель примерла? Не дышит…
Испугались князья, вдову положили на дровенки и, огорлие сняв, стали жилку искать. Ан не бьется жилка, знать и жизнь утекла… Встали над телом, очей не поднять.
— Ох, братья князи, беда, — вымолвил князь Волынский. — Не велел царь до смерти пытать…
Одоевский снегом руки умыл.
— След сказать, не пытали вдовицу, сама примерла.
Воротынский набычился, взор кровяной.
— За вдову-то мы оправдаемся. А вот Истину царь не простит. Сами будем висеть на встряске.
— Наша жизнь такова: мы казним — нас казнят, — засмеялся князь Одоевский. — Кто приближен к престолу, смертью своей не умрет.
А Волынский склонился над телом.
— Зрите, князи!.. Образ ее, суть лик! Икона!.. Ох, братья князи, мы грех творим…
— Довольно блажить, князь Василий!
— Позрите же, князи! Се не вдова, не боярыня — се дева святая! А кто же мы? Мучители и палачи?.. Ох, братья князи!..
— И верно, лежит, как живая, — князь Одоевский отпрянул. — Не смерть се — успенье… А ежели мы и впрямь?..
Но Воротынский сдернул с коня попону и тело укрыл.
— Опомнись, князь Яков!
— Сквозь великие муки прошла… И сына ея удушили!
— Да лживая се молва! Захворал Иван, а немцы снадобье положили…
В сей миг отлетела попона, и восстала вдова. Огляделась и простонала:
— Где ныне я? Се яма в Боровске?
Отшатнулись князья, устрашились, но в тот час с собой совладали.
— На Ямском дворе ты, боярыня. А на встряске — сестра!
— А мнилось, я в яме, у врат, вы — суть архангелы…
И озлились князья, пряча стыд и смятенье.
— Архангелы мы! — возле дровен плясал Одоевский. — И в сей час на дыбу вознесем, коль не скажешь, где Истина!
Но палач Воротынский толк в пытках знал, посему осадил:
— Полно, князь Яков. Вдова кротка и покорна, что ее мучить на дыбе? А сестру ея наземь спустите, пускай отдохнет.
Воды зачерпнул и поднес. Боярыня испила.
— Вам мыслилось, я умерла?
— Да уж напугала…
— Не бойтесь, князья, пытайте. Я здесь не умру. Смерть меня ждет в Боровске.
— Никто не ведает где. Се Божий промысел. Ужо бы призналась, покаялась, слово в сам замолвил, и смерти не бывать ни здесь и ни в Боровске. Ох, коли в ведала, яко страдает царь! Яко уповает он на Господа, чтоб просветлил твой разум…
— Не лукавь-ка, князь, голой рукой не возьмешь.
— Ох, боярыня, свет Феодосья! Муки смертные…
— Феодора я ныне…
— Слыхал, ангельский чин приняла… И слава Богу! Вели, что царю сказать? Часа не минет, как спросит.
— Передай, я постриг приняла, чтобы Господу быть покорной, но не ему.
— Мы Господу все покорны. Да на Земле — царям. Смирись же, черница, покайся, открой, где схоронили Истину. И государь простит, именье вернет…
— А сына, коего немцы удушили?
— От хвори умер он, Господня воля. Что проку, государыня, противиться царю? Ты овдовела, и ныне сына нет, именья. Убыток так велик, что свара с государем ничего не стоит. Верни ему то, чем владел он по праву.
Держась за дровни, она встала.
— Се верно, князь Иван. Велик убыток, все пропало, все обратилось в персть. И где схоронили Истину, не ведаю. Нет ничего у меня, а есть токмо два перста. Сии два перста, коими я в силах сражаться с иродом царем. И с вами!
Князь Воротынский стерпел.
— Ты ведь жена — не воин. К лицу ль тебе сражаться?
— А царю со мною? К лицу ли вам, князья светлейшие, на дыбе мучить жен?
— Мы слуги государевы…
— Нет, князь Иван, не слуги вы — рабы презренные! Вы псы матерые! В былые времена вам было в место лишь на царской псарне. А ныне у престола вы!.. Егда же у престола псы цепные, коем едино, что длани полизать царю, что бабу разорвать на дыбе… Егда вы у престола, царь тоже пес, токмо с великими клыками.
Терпенье лопнуло у князя. Сорвавши плат, он взял вдову за космы и поволок было к огню — вдова противилась, смеялась:
— Сие добро! Да токмо силы мало. Эй, раб Яков? Чего встал? Позри, умучался уж раб Иван!
— Как смеешь оскорблять? — взъярился Одоевский. — Мой род от царственных князей! Ужо в сей час повеселишься…
Схватив за плечи, бросил на колени и руки стал вязать. Боярыня лишь усмехнулась:
— Имея родовую честь, поднимется ль рука вдову, черницу распинать на дыбе? Ты ж род свой в грязь втоптал и кровью полил!
Волынский суетился, пугаясь, восклицал:
— Святая! Ей же ей, Святая!.. Худое мы творим!
— А ну-ка, подсоби! — прикрикнул князь Иван.
Втроем впряглись, поволокли к костру, однако же вдова завязки порвала и вскинулась рука.
— Стой, вороные! Тпру!.. Покаяться хочу допреж огня.
— Свершилось, Господи!.. Покайся! — с земли подняли на колена.
Боярыня к огню оборотилась и наложила крест двоеперстный.
— На что вам Истина, князья, коль чести нет? А ежели в была, в сей час бы указала. Опомнитесь! Ваших дедов умучили цари, да не сломали. А что же вы? С какою кровью в ваши жилы попала кровь рабская?
Взъярился Воротынский.
— В огонь ее! Что встали?
— Постойте, князи, я не все сказала… Не жаль меня — род пожалейте свой! Не пачкайте моею кровью! Царя боитесь? Но побойтесь Бога! Не балуйте царей, вас заклинаю! Не балуйте царей…
Назад: 21
На главную: Предисловие