Книга: Просветленные не ходят на работу
Назад: Глава 7. Поворот колеса
Дальше: Глава 9. Жизнь взаймы
Глава 8. Скелеты в гостях
После долгого перерыва я возобновил созерцание дерева.
Как заявил брат Пон, сознание обладает склонностью фиксироваться на себе самом, и поэтому его нужно постоянно встряхивать, изменять те формы, в которых оно находится. Взгляд на себя со стороны — одно из сильнейших потрясений, которое может пережить человек, и одно из самых полезных.
На этот раз все получилось на удивление легко, я почти тут же вошел в транс, а затем понял, что разглядываю себя.
Картинка была на удивление четкой, я видел даже прыщ, что вскочил у меня на бритой макушке, и размышлял с древесной неторопливостью, что под этим бугорком на коре может укрываться паразит.
Возвращение тоже прошло легко, корни стали ногами, ветви руками, и я заморгал, привыкая к человеческому зрению.
И тут же мне в голову прилетело нечто липкое и вонючее, а на уши обрушилась лавина визгливых криков. Обезьяны, месяц державшиеся поодаль, выбрали этот момент, чтобы навестить участок джунглей, где я медитировал, а обнаружив там меня, восприняли это как оскорбление.
Я вытер физиономию, стараясь дышать равномерно и глядеть на свои эмоции со стороны.
Злости я не чувствовал, ненависти к этим шумным существам — тоже, лишь раздражение и досаду. О том, чтобы ругаться или отмахиваться от них, даже мысли не возникало, и желания сбежать я не ощущал.
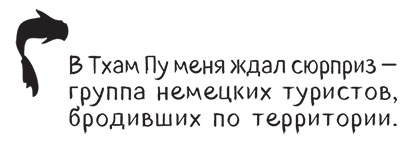
Самая крупная макака спрыгнула наземь и уселась напротив, оскалив желтые крупные зубы.
Я смотрел на нее, представляя по отдельности каждую из частей этакого «биоконструктора»: бурую шкуру, длинный извивающийся хвост, ком лиловых кишок, похожих на человеческие, фрагменты скелета, головной мозг с отростком спинного, легкие и трепещущее сердце.
Неприятные звуки тоже были сами по себе, словно не обезьяна их издавала.
Макака скакнула ближе, но тут же метнулась в сторону, будто ее испугало что-то за моей спиной. Следом бросилась вся стая, а я невольно обернулся, надеясь увидеть брата Пона или одного из молодых монахов.
Но позади меня не было никого.
Пожав плечами, я поднялся с земли — все равно с медитацией я закончил, делать тут больше нечего, нужно идти в ват, там мне найдут дело, наверняка не такое интересное, но не менее полезное.
Но в Тхам Пу меня ждал сюрприз — группа немецких туристов, бродивших по его территории, фотографируя все, вплоть до кастрюль и развешенных для просушки одеял.
Брат Пон изображал, что он рад такому вниманию, улыбался, как три Будды разом, но отказывался понимать английский, который знал получше многих обитателей Британских островов.
Меня заметили, и в мою сторону тут же нацелились несколько объективов.
К счастью, одеждой я не отличался от местных, а физиономия моя в достаточной степени азиатская, чтобы я без грима смог сойти за тайца, разве что не очень смуглого и достаточно высокого.
Одна из туристок, женщина выдающихся габаритов, попыталась заговорить со мной. В ответ я только развел руками, показывая, что понимаю не больше старшего товарища.
Что эти типы здесь делают? Откуда они взялись?
Гости оказались назойливыми, один даже попытался без спроса заглянуть в мое жилище. Лишь увидев совсем не кроткое выражение, возникшее на моем лице в этот момент, он от своей идеи отказался.
А еще через полчаса, бормоча «ауфвидерзеен», немцы утопали прочь.
— Что это было? — мрачно поинтересовался я.
— Турист — такой зверь, что отыщет дорогу куда угодно, — брат Пон усмехнулся. — Только я подозреваю, что именно этих фарангов привел сюда ты.
— Я?! — удивлению моему не было предела.
— Точнее, они явились в ответ на твою потребность. Ты многому научился здесь. Только эти знания и навыки получены, если можно так сказать, в тепличных условиях. Нужно закрепить их в обстановке более естественной, в процессе взаимодействия с другими человеческими существами.
— И что, экскурсии теперь будут посещать нас каждый день? — уныло осведомился я.
— Если надо, то и каждый, — заявил монах. — До тех пор, пока ты не научишься воспринимать их с искренним дружелюбием, а не с той злобной мордой, с которой ты явился из джунглей…
— Но там опять эти хвостатые, — и я рассказал о визите настроенных совсем не благосклонно макак.
— Ты действовал куда лучше, чем ранее, — сказал брат Пон, выслушав меня. — Однако должен понимать, что корни ненависти, на ветвях которой растут все эти события, ты еще не выкорчевал.
— Но я же стараюсь! Я… — я вовремя осекся, поняв, что начинаю жаловаться.
— Старание само по себе не имеет смысла, если оно не приносит результата. Например, что толку упорно долбить проход в скале, если можно без проблем ее обогнуть? Кроме того, несмотря на все наши усилия, за время пребывания здесь ты обзавелся кое-какими новыми привычками… например, ты привык к тому, что никто тебе не мешает. Думаешь, дело будет обстоять так же, когда ты вернешься к себе в Паттайю?
Я вздрогнул, пытаясь вспомнить, говорил ли брату Пону, что живу именно в этом городе: по всему выходило, что нет, в памяти ничего подобного не осталось, но ведь мог обмолвиться мимоходом и забыть.
— Так что начинаем работу, — сообщил мне монах. — Осознай свои привязанности. Новые, возникшие уже здесь… они ничуть не лучше старых, хотя ты можешь считать иначе.
И он отправил меня промывать рис, прекрасно зная, что это дело я не люблю.
На следующее утро явилась еще одна группа туристов, на этот раз японских.
Под насмешливым взглядом брата Пона я с метлой в руке позировал на фоне нашего Будды. Вспышки следовали одна за другой, гости возбужденно переговаривались, а я думал, что разглядывая «настоящего тайского монаха» на получившихся кадрах, жители Страны восходящего солнца и не заподозрят, что родился он в России.
Но истинный ужас я постиг, когда в Тхам Пу приперлась команда моих соотечественников: дикий, невероятный случай, ибо путешественники такого рода, воняющие перегаром обладатели красных обгорелых рож, не водятся вдали от больших курортов.
— О боги, — прошептал я, услышав, как лесную тишину огласил родной мат.
В заросли со свистом улетела бутылка из-под пива «Чанг», и моему взгляду предстала живописная группа — откормленные, могучие дядьки в панамках, шлепках и шортах, их дебелые подруги, ухитрившиеся даже в дикий лес явиться на каблуках, хнычущий толстый мальчик лет двенадцати и пара девчонок-близнецов намного младше.
— Здорово, брателло! — дружелюбно рявкнул один из гостей, хлопнув меня по плечу. — Пришли сюда ваш храм посмотреть! Типа настоящий, не для лохов! Сечешь, да?!
Если орать погромче, то тебя поймет даже иностранец, ни бельмеса не знающий на твоем языке — этого лингвистического принципа, как ни странно, придерживаются многие туристы, и не только русские.
Я беспомощно улыбнулся, думая, что если и есть ад, то вот он.
Гости из России изучали строения вата, мальчик звонил в молитвенные колокола, женщины по очереди фотографировались с одним из молодых монахов, близняшки визгливо ссорились.
— Что, не радует тебя это зрелище? — брат Пон, как обычно, подкрался бесшумно, но за проведенное здесь время я научился не вздрагивать, когда он вот так появлялся за плечом.
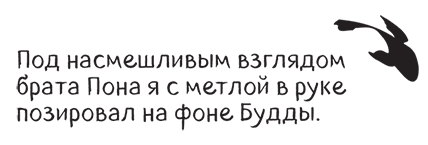
Отрицать было бесполезно, и я признался:
— Нет. Не люблю быдлотуристов.
— Но ведь ты не любил их и ранее, в прошлом, — в голосе монаха звякнул металл. — Помнишь, что я говорил тебе: путь, ведущий к свободе, длинный и тяжелый, и если тащить с собой всякое барахло, то шансов дойти просто нет?
Я покаянно вздохнул и забормотал про себя «это не я, это не мое».
— Подумай еще, откуда взялась эта неприязнь, — вкрадчиво продолжил брат Пон. — Может быть, ты воспринимаешь их как конкурентов в борьбе за самок и пропитание? Завидуешь тому, что они беззаботные и веселые, хотя бы сейчас, а ты весь такой мрачный и угнетенный?
Его предположения заставили меня поморщиться, я открыл рот, чтобы возразить, да так и замер: как бы мне ни хотелось заявить обратное, но какая-то доля истины в словах монаха имелась.
— И растет все это из корня ненависти к другим живым существам, — шептал он. — Неудивительно, что даже макаки на тебя бросаются!
Я ощутил злость на себя, но каким-то непонятным образом сумел от нее отстраниться, так что она меня лишь коснулась, а не заполнила целиком. Прокатилось мимо и раздражение на сородичей, что даже в Тхам Пу явились, навьюченные алкоголем, наглостью и уверенностью в том, что их ждет очередной аттракцион, разве что почему-то бесплатный.
Остались лишь печаль и сожаление — ведь в чем-то я ничуть их не лучше.
Тоже волоку с собой разные манатки, цепляюсь за них, хотя осознаю, что от этого мусора лишь вред.
— Брось это! Брось! — резко сказал брат Пон. — Будь подобен древнему мудрецу… Однажды в некоем селении юная красавица поссорилась с мужем и ушла от него, — тон его изменился, стал более мягким, почти напевным. — Направилась она в соседнюю деревню, где жили ее родители. Супруг, потосковав часок, бросился следом, чтобы догнать, уговорить вернуться, и на полдороге встретил странствующего монаха. Естественно, он тут же подбежал к нему и стал расспрашивать, не проходила ли тут женщина в красном платье, с гибким станом и кудрявыми волосами, украшенная браслетами и умело накрашенная? На что бхикшу ответил ему: да, тут проходил скелет, только я не разобрал, какого он пола.
Я не выдержал и улыбнулся.
— Вот пусть и они будут для тебя не более чем бродячие наборы белых костей. Громыхающие, издающие бессмысленный шум образы, созданные твоим сознанием из пустоты.
И с последними его словами что-то сдвинулось у меня в голове.
Туристы превратились в карикатуру, нелепо кривляющиеся рисунки на поверхности окружающей меня реальности… а как можно злиться или негодовать на поступки мультяшных персонажей, испытывать к ним ненависть или зависть?
Теперь я был готов сам провести им экскурсию по Тхам Пу на чистейшем русском языке, навешать на уши такую кучу лапши, которую за день не сварят в китайском ресторане, а напоследок содрать по сто бат с рыла…
— Это, пожалуй, лишнее, — заметил брат Пон со смешком. — Но идея неплохая. Подумаю, как ее в жизнь воплотить.
Поскольку солнце еще не зашло, я работал, сидя у входа в хижину.
Стружки выходили из-под лезвия ножа такие гладкие и мягкие, что хоть мажь их на хлеб вместо масла. Я снимал их с заготовки бодхисаттвы Амитабхи, некогда создавшего особый рай, именуемый Сукхавати, место, предназначенное для духовного развития.
И труд мой понемногу близился к завершению.
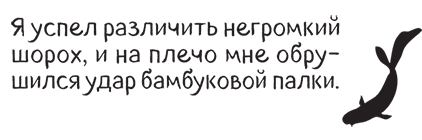
Я на миг остановился, раздумывая, как лучше поступить с правым коленом бодхисаттвы, прикрыл глаза и обнаружил, что вижу заснеженную горную вершину, подпирающую небеса: склоны из золота и лазури, неправдоподобно зеленые леса, дворцы богов и хижины отшельников, прозрачные озера и водопады, белых слонов и громадных ярких птиц.
Зрелище было таким, что я едва не задохнулся от восторга.
Как назвал эту гору брат Пон? Меру?
Не может же быть, чтобы это видение, куда более яркое и четкое, чем картинка на экране кинотеатра, не имело значения… Наверняка в нем содержится некий смысл, послание, только его нужно извлечь, разгадать шифр…
Но с чего начать?
Я вспомнил, что занят делом, открыл глаза и попытался вспомнить, как именно собирался резать дальше. Но замысел уплыл, растворился, оставив смутное ощущение того, что нечто важное упущено.
Сжал покрепче нож, ставший вдруг тяжелым, а рукоять — неудобной.
Ладно, никому не помешает, если я еще немного полюбуюсь…
Я закрыл глаза, успел различить негромкий шорох, и на плечо мне обрушился удар бамбуковой палки.
— Вот ты чем тут занимаешься? — в голосе брата Пона не было ни гнева, ни удивления. — Журналов с голыми красотками у нас не достать, так ты замену отыскал. Молодец.
— Но что в этом плохого? — с досадой спросил я.
— А то, что времени у тебя слишком мало, чтобы отвлекаться на всякую ерунду. Причем не важно, что она выглядит красиво и что созерцать ее можно часами, а то и сутками.
— Что, правда? — я прикусил язык, но слишком поздно.
— Разве я когда тебе врал? — вот в этой фразе брата Пона я различил сожаление. — Понимаешь, от разглядывания Меру и ее обитателей в тебе не изменится вообще ничего.
— А она существует на самом деле?
Монах вздохнул и покачал головой:
— В чем-то ты остался тем же невежественным и любопытным типом, что едва не сбил меня с ног на автостанции. Все, что ты можешь вообразить, существует. Когда-то. Где-то. Если бы твое обучение проходило в нормальном темпе, а не с такой скоростью, то ни одна из этих вещей не имела бы шансов произойти. Все эти видения, Голос Пустоты… это, — щелкнув пальцами, он отыскал нужное слово: — Спецэффекты! Дело же не в них…
— Это я понимаю, — сказал я.
— Тогда забудь про Меру! — вид у брата Пона стал суровый. — И вообще, что-то… Расслабился ты!
Я хотел было возмутиться, что суечусь, как пчела с утра до ночи, но он поднял руку, и я осекся, не успев выдавить и слога. Монах смерил меня взглядом, отчего мне стало неуютно, захотелось спрятаться куда угодно, хоть на дно болота, хоть в дупло, и заговорил:
— Настало время тебе научиться тому, что на санскрите именуется смрити. Перевести это можно как полное осознавание, постоянное самонаблюдение за всем, чем ты занят. Делая длинный вдох, ты осознаешь, что делаешь длинный вдох, делая короткий — соответственно, делая выдох, осознаешь выдох. Поднимая ногу, чтобы сделать шаг, ты отдаешь себе отчет в том, что поднял ее, а опуская ее, в том, что стопа соприкоснулась с землей. Сидя, стоя, лежа ты должен помнить, в каком положении тело. Входя и выходя в помещение, знать об этом, справляя нужду, уделять внимание этому процессу так, словно он является величайшим чудом…
Я собрался было захихикать, но брат Пон был слишком серьезен.
— Жуя, наблюдать за каждым куском, одеваясь, замечать прикосновение ткани ко всем частям тела, раздеваясь, вслушиваться в шорох полотна и улавливать сгибание каждого пальца, — продолжил он. — И все это постоянно, без перерывов, с утра до ночи. Для того, чтобы осознавать себя во сне, ты еще не дорос.
— Постоянно? — воскликнул я. — Но это же невозможно!
— Для обычного человека — да, — не стал спорить монах. — Для тебя — я бы не сказал. Или ты зря ел наш рис все это время?
И он нахмурился.
— В общем, приступай, — мне достался ободряющий хлопок по лысой макушке. — Будешь лениться…
И брат Пон погрозил мне палкой, той самой, которой огрел меня не так давно.
Он отошел, а я взялся за нож, пытаясь сообразить, как одновременно резать и осознавать все движения кисти, наклон головы, то, что я сижу, как вдыхаю и выдыхаю.
Невозможно — кричал мой разум!
И вскоре стало ясно, что он не так уж неправ — увлекшись работой, я мигом забывал про смрити, а уделяя ей все внимание, начинал портачить и быстро превратил почти готовую статуэтку в жалкого уродца.
И в этот момент, несмотря на все медитации, я ощутил нечто похожее на ненависть.
— Испытывая желание грязно выругаться и пырнуть ближнего ножом, не забывай это желание осознавать, — с глубокомысленным видом заметил брат Пон, как раз в этот момент проходивший мимо.
Но мне от его слов легче не стало.
Утром к нам в гости явились китайцы — маленькая группа человек из семидесяти.
Такая прорва народа заполонила наш ват и окрестности, и в Тхам Пу стало шумно, почти как на Уолкинг-стрит в Паттайе. А когда туристы ретировались, то мусора от них осталось не меньше, чем от толпы посетителей рок-фестиваля, так что до вечера мы собирали обертки шоколадок и бутылки от кока-колы.
Как ни странно, эта малоприятная работа помогла мне в какой-то степени справиться со вчерашним заданием. Пусть не постоянно, на короткие отрезки времени я смог входить в такое состояние, что получалось одновременно и действовать, и осознавать это действие.
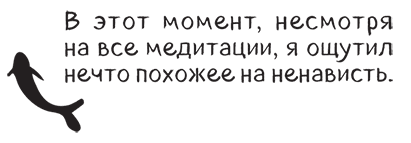
Монах же огорошил меня, сказав, что это лишь первая фаза смрити.
Вторая заключалась в том, чтобы классифицировать все, происходящее во мне и вокруг, как приятное, неприятное или нейтральное, и при этом стараться, чтобы эти оценки не стали основой для действий.
Почесав в затылке, я попытался взять и эту вершину, но ничего у меня не вышло.
Я сбивался, отвлекался, злился, что не могу сосредоточиться, метался, пытаясь эффективно распределить внимание.
— Ты стараешься, — заметил брат Пон. — Этого делать не надо. Все устроится само. Просто делай как выходит, без напряжения, без самопринуждения, ведь насилие есть насилие, даже если его прилагаешь к себе, а оно, как ты помнишь, входит в список неблагих действий.
Этот совет поставил меня в тупик — то есть как «устроится само»?
Зачем тогда вообще прилагать какие-то усилия?
— А затем, что без вложения энергии не добиться успеха, — ответил монах, выслушав мои полные недоумения вопросы. — Только вложение должно быть мягким, легким. Жестокое напряжение, работа на износ, изнурение себя — все эти вещи наполняют тебя вместо того, чтобы делать пустым, и противопоказаны тому, кто движется к свободе. Самое же вредное, что они сами по себе заставляют тебя верить, что ты занят чем-то важным, хотя на самом деле это может быть совсем не так.
Мне ничего не осталось, как вновь почесать в затылке и взяться за дело.
Легче было, как ни странно, в те моменты, когда я занимался физическим трудом — все ясно, вот оно, твое тело, работает, и ты спокойно за этим наблюдаешь, да еще и лепишь ярлыки на каждый момент:
«неприятное», «нейтральное», «приятное», опять «неприятное».
Когда же в процесс вовлекалось сознание, то задача усложнялась неимоверно.
Я сбивался, отвлекался не пойми на что, иногда уходил в собственные мысли так далеко, что вообще переставал осознавать, где нахожусь и чем именно занимаюсь. Пытался вернуться к назначенной задаче и ловил себя на том, что напрягаюсь до такой степени, что мышцы спины корежит судорогой.
В какой-то момент я начал функционировать как бы в двух очень непохожих друг на друга режимах, первый был связан со смрити, второй исключал осознавание полностью, и его я задействовал во время медитаций.
На следующий день после китайцев к нам явилась группа европейцев, маленькая и тихая, если сравнивать с гостями из Поднебесной, и я уже подумал, что нашествие «скелетов» идет на убыль.
Вечером, когда стемнело, я сидел под навесом и слушал рассказы брата Пона о древних архатах, когда от реки долетело нарастающее бухтение лодочного мотора. Затем оно стихло, его место заняли сердитые голоса, лязг и монотонное постукивание.
— Что это? — спросил я.
— Скоро узнаешь, — отозвался монах.
Со стороны тропки, что вела к Меконгу, ударил луч фонаря, ушел в сторону, за ним явился еще один. Послышались шаги, и я различил фигуру человека с предметом вроде рюкзака на спине.
Брат Пон поднялся.
Человек с рюкзаком сделал ваи, но очень быстрое, смазанное, не такое, какое используют обычные тайцы при встрече с монахом. По спине моей побежали холодные мурашки, и я автоматически классифицировал это ощущение как «неприятное», отметил, что дыхание мое участилось.
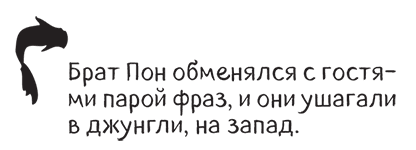
И тут же поток осознавания подхватил меня, напряжение исчезло, стало очень-очень легко. Нет, я не увидел ночных визитеров словно костяки в одежде, я различал, что их трое, что они нагружены так, будто собрались в поход на вершину Эвереста, что у одного имеется пистолет.
Но меня совершенно не интересовало и не тревожило, что он с этим пистолетом может сделать.
Брат Пон обменялся с гостями парой фраз, и они ушагали в джунгли, прямиком на запад. На Меконге вновь затарахтела лодка, и звук этот начал понемногу удаляться, к сожалению, утаскивая с собой то состояние ясности, что охватило меня на короткое время.
— Это было неплохо, — сказал брат Пон, вернувшись на свое место. — Для начала.
Я посмотрел на него с укором.
— Третий этап смрити, — продолжил монах как ни в чем не бывало, — это мысль. Точнее, наблюдение за ней. Как писали древние — «необходимо видеть, какой она является, аффективной или неаффективной, неприязненной или не неприязненной, касающейся заблуждений или истины, ограниченной или распыленной в пространстве и времени».
Я хотел было возмутиться, заявить, что не справлюсь с подобным, но понял, что оправдание это не идет из моей глубины, что я его на самом деле выдумал по привычке, выставил перед собой точно щит, призванный оградить меня от окружающего мира.
И осознание этого факта ударило меня не хуже воткнутого в печень ножа.
— Ты начинаешь понимать! — брат Пон заулыбался, во тьме блеснули белые зубы. — Отлично!
Я открыл рот, потом закрыл, и так пару раз подряд, а потом спросил совсем про иное:
— А кто были эти люди?
— Какие такие люди? — уточнил монах с самым невинным видом. — Забудь о них. Неужели тебе нечем заняться и не о чем беспокоиться? Если так, сейчас мы это исправим…
Третий этап дался мне легче, может быть, потому, что я уже освоил два и на очень глубоком уровне рассудка понял, в чем тут дело, а может быть, оттого, что я всю жизнь отождествлял себя с собственным разумом.
Мысли после того, как я начал за ними наблюдать, потекли совершенно иначе.
С одной стороны, они стали более четкими и выпуклыми, а с другой, менее глубокими, из трехмерных превратились в двумерные, в эфемерные образы, скользящие по поверхности разума. Лишились тех корней, что прикрепляли их к недрам сознания, делая процесс мышления тяжкой ношей.
Наблюдать за ними оказалось на удивление интересно — точно смотришь на то, как перед твоими глазами зарождаются, развиваются и гибнут, рассеиваясь в дым, в пар, поколения фантастических животных, принимающих самые разные обличья, но в то же время сохраняющих внутреннее родство и генетическую преемственность.
Так что уже через пару дней брат Пон рассказал мне про четвертый и последний этап смрити, и сделал он это, потащив меня на длинную изнурительную прогулку по лесу.
— Это желания, — сказал он. — Вы, западные люди, к ним очень-очень привязаны. Виноваты в этом помимо прочего и всякие разные психологи, которые сделали из них настоящий культ. Развенчать его будет нелегко, но тебе придется это сделать, если хочешь чего-то добиться на нашем пути.
— Но у меня нет желаний! — пылко возразил я.
Мне и в самом деле казалось, что за время жизни в Тхам Пу я избавился от того, что можно назвать этим словом.
— Ты серьезно в это веришь? — брат Пон глянул на меня с сомнением.
— А как же!
Он хмыкнул, после чего осторожно, очень аккуратно взял меня за запястье.
О господи, как же я хочу, чтобы мы поскорее закончили бродить по джунглям и вернулись к вату, в тень и покой… Да, неплохо бы закончить статуэтку Вайрочаны до сегодняшнего вечера, а то вожусь с ней неделю…
Помимо этих двух главных желаний я осознал еще с десяток поменьше и понял, что они тут, никуда не делись, только не кричат громко в уши, требуя внимания, а мягко шепчут.
— Теперь что скажешь? — поинтересовался брат Пон, убрав руку.
Я покаянно опустил голову.
— Главная проблема с желаниями — их трудно осознать, а осознав, тяжело относиться к ним без оценки, — продолжил монах. — Не осуждать или хвалить себя за них. Захотел я стакан рома и толстую женщину — это плохо, возжаждал посетить храм и посмотреть на лик Будды — это хорошо.
— А разве это не так?
— Нет, конечно. И то и другое порождает привязанность, лишает свободы. Понимаешь? Конечно, созерцание Просветленного породит не такие кармические последствия, как пьяная оргия, но с точки зрения стоящего за ними желания это не имеет особого значения.
— То есть ощущения я делю на приятные, неприятные и нейтральные, а желания просто осознаю?
— Именно так. Первые мы склонны вообще не замечать, а вторые если замечаем, то тут же встраи ваем их в некую систему моральных принципов, а от нее уже и пляшем. Укрепляем образ личности с помощью либо самоосуждения, либо самовосхваления, хотя одно ничуть не лучше другого.
Это я понять мог, исходя хотя бы из того, что брат Пон говорил мне ранее.
Но, как я уже не раз убеждался за время моего пребывания в Тхам Пу, понять некий принцип и воплотить в жизнь это понимание — две абсолютно разные вещи. Попытка отслеживать желания закончилась поначалу ничем, я не смог зацепиться за их поток так же, как сделал это с ощущениями или эмоциями.
Ну а кроме того, предыдущие этапы осознавания никуда не делись, я выполнял их все одновременно.
Это оказалось настолько тяжело, что меня начал мучить голос Пустоты, не дававший о себе знать уже много дней. Вновь забубнил в ушах надоедливый шепот, запылали перед глазами, складываясь в созвездия, узоры из драгоценных камней, похожих на уголья.
Брат Пон, когда я рассказал ему об этом, минутку подумал, а потом сказал:
— Придется тебе подышать дымом.
И не успел я спросить, что это значит, как он велел мне взять топор и отправляться за хворостом.
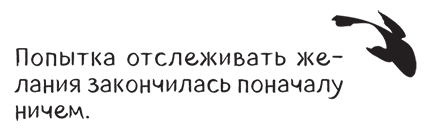
Из того, что я натаскал из джунглей, сложили четыре поленницы, между которыми осталась площадка около двух метров в диаметре.
— Забирайся внутрь, садись и закрой глаза, — велел брат Пон, в то время как один из молодых монахов поливал дрова сладко пахнувшей прозрачной жидкостью.
— И вы это подожжете? — спросил я, с опаской глядя на спички в руках наставника.
— Само собой, — подтвердил он.
— Так я же сгорю! Или задохнусь!
— Не думаю, — брат Пон мягко похлопал меня по спине. — Другого выхода нет. Хочешь голос Пустоты слушать?
Я почесал в затылке и решил, что нет, не хочу.
— Дыши равномерно и осознавай, что происходит с тобой, — продолжал инструктировать меня монах уже после того, как я уселся наземь.
Чиркнула спичка, раздался треск горящих ветвей, но я постарался не обращать на звуки внимания. Потянуло дымом, а уже в следующее мгновение этот дым заполнил грудь целиком, и возникло ощущение, будто меня дерут когтями изнутри.
Кашель едва не вывернул мои легкие наизнанку.
— А ну прекрати! — рявкнул брат Пон так, что его голос перекрыл гул пламени. — Дыши! Дыши!
Я хотел сказать, что это не я, что оно само, но меня скрутил новый приступ кашля. Монахи тем временем подожгли остальные поленницы, и пламя вздыбилось со всех четырех сторон.
Жар поднялся такой, что я ощутил себя внутри громадной печи.
— Дыши, иначе сгоришь! — закричал брат Пон.
Я попытался выполнить его приказ, но тело не слушалось, меня били корчи, спазмы крутили живот, голова болела, глаза жгло, и казалось, что одежда моя начала тлеть, а кожа — обугливаться.
Я попытался глотнуть воздуха, затем подумал, что я сейчас сдохну, что надо бежать отсюда…
И провалился в темноту.
Очнувшись, я понял, что лежу там же, где сидел, что огонь потушен, но монахи вовсе не спешат мне на помощь. Обхватив руками голову, пульсировавшую как осиное гнездо, внутри которого бесчинствуют разозленные насекомые, я медленно сел.
— Выходить из круга нельзя, — сказал брат Пон, глядя на меня без жалости. — Помогать тебе мы не имеем права, даже воды принести не можем. Ритуал же надо довести до конца. Если прервать его сейчас, то все пойдет насмарку, все твои усилия.
— Но я же погибну тут, — выдавил я, морщась от звуков собственного голоса. — Задохнусь!
— Нет. Дыши так, как может дышать пустота, и дым не сможет повредить тебе. Стань бестелесным, и пламя не обожжет то, чего нет.
Голова вроде бы болела чуть меньше, но все равно при одной мысли о повторении пытки меня начинало мутить.
— Но зачем это? — спросил я. — Неужели нельзя обойтись…
— Можно, — перебил меня брат Пон. — Но не тебе и не сейчас. Ситуация такая. Какие-то вещи застряли в тебе настолько, что их не рассеять просто так, осознаванием, нужно сопроводить его определенными телесными стимулами, не самыми обычными и даже болезненными. Я надеялся, что обойдемся без этого, но, видимо, нет, не обойдемся. Решай. Либо ты выходишь из круга, я перестаю быть твоим наставником, и ты уезжаешь завтра же.
— Я остаюсь, — пробурчал я.
— Отлично, — и он сделал знак помощникам.
Второй раз оказался ничуть не лучше первого, дым вновь полез мне в глотку с такой силой, будто его затягивало туда пылесосом, губы и язык пересохли, из глаз потекли слезы. Сначала я попытался бороться с неприятными ощущениями, но добился лишь нового приступа кашля, от которого едва опять не потерял сознание.
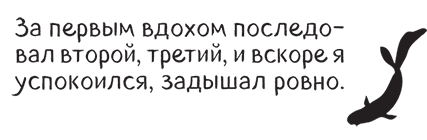
Но в следующий момент я сам не понял как, но расслабился, и когда вдохнул в этом состоянии, то осознал, что хватаю ртом прохладный воздух, непонятно откуда взявшийся посреди дымных струй.
За первым вдохом последовал второй, третий, и вскоре я успокоился, задышал ровно.
— Вот видишь, это не так сложно! — одобрил брат Пон откуда-то из-за круга огня и дыма.
Начнем осознавание — физические ощущения, их классификация, мысли и желания…
И в этот момент у меня не возникло ни малейшей проблемы с тем, чтобы выполнить смрити в полном объеме. Поначалу я сам не отдал себе в этом отчета, а когда сообразил, что происходит, тут же сбился и заново почувствовал, что сижу в кольце из четырех костров, а вокруг пылает огонь.
Хотя к этому моменту дрова начали прогорать и жар уменьшился.
Но дыма натянуло вновь, и я закашлялся, да так, что не смог остановиться и после того, как вокруг остались лишь зола и угли.
— Все, уже все, — сказал брат Пон, подходя ко мне. — Это ты опять выдумываешь. Вспомни, что ты пуст, и внутри не должно быть ничего, способного издавать такие звуки.
Но тем не менее я продолжал кашлять до самого вечера и ночью пару раз проснулся оттого, что у меня хрипело в груди. Зато утром встал свежий, точно огурец, а когда попробовал заниматься смрити, то выяснилось, что препятствия, еще вчера казавшиеся неодолимыми, исчезли.
Я мог осознавать желания, по крайней мере не самые слабые, и не смешивать их при этом с мыслями или ощущениями. Причем удавалось мне это не только в моменты, когда я занимался физической работой, а постоянно.
И голос Пустоты сгинул без следа, не появлялся даже тогда, когда я вынужден был напрягаться, чтобы достичь нужной степени концентрации.
Зато появилось что-то новое, ощущение того, что все, мной осознаваемое, находится в стороне от меня, что я наблюдаю не за частью себя, а за некими внешними процессами. Когда я ощутил это впервые, то даже испугался, а попытавшись рассказать о своем состоянии брату Пону, запутался в словах.
— Не трясись, — сказал он после того, как закончил смеяться. — Этого и добиваемся. Наслаждайся.
Сначала я не понял, как можно наслаждаться подобным — это как получать удовольствие от не самой легкой и монотонной работы вроде прополки или вскапывания огорода. Но затем как бы «поймал волну» и в какой-то момент сообразил, что выполняю все четыре этапа смрити, не прилагая усилий, что все получается само собой и еще остаются внутренние ресурсы на то, чтобы просто думать, ощущать, жить.
Туристы перестали навещать Тхам Пу так же резко, как и появились, так что два дня я провел в состоянии почти непрерывного созерцания и начал думать, что так будет всегда.
Но утром третьего, выходя из храма, где подметал, я обнаружил, что мимо вата идет вереница людей с огромными рюкзаками на спинах — бородатые и патлатые юноши, загорелые жилистые девушки, короче говоря, типичные бэкпекеры, которых можно встретить в любом уголке Таиланда.
Один из них поздоровался со мной по-тайски, я кивнул в ответ.
Надежда, что эти ребята пройдут мимо, умерла через пять минут, когда они начали сгружать рюкзаки. Шагавший первым, рыжий, носатый, закопченный почти до черноты направился к навесу, под которым сидел брат Пон.
Беседа их оказалась короткой и закончилась тем, что монах благосклонно кивнул и приглашающе повел рукой.
— Располагаемся, парни, — сказал рыжий по-английски, повернувшись к своим.
Сердце мое упало.
Палатки они поставили, конечно, не на территории вата, но рядом, сбоку от тропинки к источнику. Отправившись за водой, я встретил пару мощных девушек, что улыбнулись мне белоснежно, как модели из рекламы зубной пасты.
Улыбки эти были искренними, а глаза барышень светились тем покоем, который я так редко встречал у людей своего круга, у тех, кто вынужден работать, крутиться, точно белка в колесе.
— Давно в путешествии? — спросил я неожиданно даже для себя.
— Полгода, — отозвалась та из девушек, что пониже, щекастая, с круглыми голубыми глазами. — Филиппины, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Бирма, опять Таиланд… Дальше Лаос, Вьетнам, Китай, Корея… еще год, и можно будет лететь обратно в Штаты. Или нет.
— Если хватит пороху, то двинемся на запад, в Индию, — добавила вторая, повыше, с торчавшими из-под бейсболки прядями очень светлых волос.
Они зашагали прочь, унося наполненные бутылки, а я остался смотреть им вслед.
За этот день я прошел мимо лагеря наших соседей не один раз и видел, как они общаются: никаких криков или громкого смеха, ни следа алкоголя, не говоря уже о наркотиках, которыми порой балуются подобные типы.
А после заката солнца нас пригласили, как выразился рыжий предводитель, на «концерт».
Я, честно говоря, думал, что брат Пон откажется, но он неожиданно для меня согласился. Так что мы уселись в рядок, точно статуи бодхисаттв, и в свете двух костров, разведенных так, чтобы осветить выбранный под «сцену» участок, началось представление.
Один парень играл на губной гармошке, другой жонглировал тремя светящимися шариками. Девушки пели, и не на английском, а на языке, которого я не знал, очень мягком и мелодичном.
И глядя на них, на их плавные движения, на тот мир, что окутывал их, словно облако, я осознал, что испытываю зависть: вот он, пример того, как можно жить в согласии с самим собой, не быть в рабстве у денег и общепринятых представлений, но при этом не бежать от цивилизации, отказываясь от всего, не забиваться в дикий угол джунглей, как это пришлось сделать мне!
Зависть, которую я вроде бы давно победил!
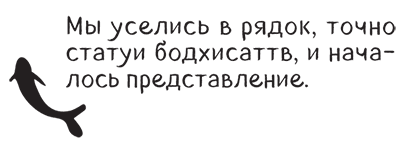
Следом за ней явился стыд, и до самого окончания «концерта» я просидел как на иголках. Та волна, что несла меня последние дни, схлынула, и все попытки вновь зацепиться за осознавание закончились неудачей: смрити ускользало точно песок, который пытаешься сжать в кулаке.
Брат Пон смотрел испытующе, и под его взглядом мне было так же неуютно, как грешнику на сковородке.
— Ну, я думал, что одолел… — забормотал я, продолжая рассказ. — А оно вот, снова… Почему так? Откуда?
— Ну как откуда? — он пожал плечами. — Все из того же омраченного сознания. Только не вздумай расстраиваться. На самом деле хорошо, что зависть вылезла наружу. Намного хуже было бы, не отдавай ты в ней себе отчета… А что до того, кому ты позавидовал… Смотри, как говорили древние — все люди подобны лотосам, что выросли в пруду, одни из них красные, другие голубые, третьи белые, но все они рождены в воде, имеют исток свой в воде и не выберутся из нее до тех пор, пока не обзаведутся достаточно длинным стеблем… Только вот стоит ли белому лотосу испытывать вожделение и недоброжелательство по отношению к сородичу, имеющему красный цвет лепестков?
— Нет, конечно! — я потер лоб, пытаясь собраться с мыслями. — Но ведь они… Почему кто-то может добиться свободы, как наши гости, без каких-то особых усилий, а другим приходится пахать?
— А кто тебе сказал, что они добились свободы? — брат Пон укоризненно покачал головой. — Да, то, что именуется белой кармой, у них в данный момент превалирует над другими ее видами, но рано или поздно ее действие закончится, и тогда все-все изменится… Да, у этих молодых людей есть шанс на то, чтобы осознать пустоту, но он не больше и не меньше, чем у других.
— Это почему так?
— Если бы ты умел видеть так, как должно, то ты бы разглядел, что сознание каждого из них забито, — монах взял палочку, нарисовал на земле круг и заполнил его кривыми штрихами. — Пусть там очень мало алчности и ненависти, но невежества не менее, чем у других. Пусть там нет мыслей о том, как заработать побольше и как оттолкнуть локтем ближнего, там хватает другого хлама…
Мне очень не нравилось то, что говорил он, не хотелось, чтобы рушился такой красивый образ беспечных путешественников, разбивающих палатки где пожелают, устраивающих «концерты» для тех, кто оказался рядом.
— Кроме того, ты пытаешься оценивать, судить людей по тому, как они себя ведут, — продолжил брат Пон. — Но забываешь, что воспринимаешь не самих людей, а их образы, созданные разумом, картинки, имеющие очень мало отношения к реальности, порожденные твоим восприятием.
— Та самая «труба»? — вспомнил я метафору, некогда поразившую мое воображение.
— Именно, — отозвался он. — Ты же не можешь знать, что на самом деле есть каждый из них?
— Не могу, — вынужден был согласиться я. — Но почему-то так хочется верить, что эти ребята и вправду чисты духом, что они идут не только по лику земли, но и к свободе…
— Так верь, кто мешает? — брат Пон улыбнулся. — Только осознавай свою веру. Помни, что она столь же нереальна, как и все остальное, и тогда все будет хорошо. Помимо того, давненько ты не считал колокола… Иди, займись.
— Но зачем?! Ведь их число не изменилось?
— Откуда ты знаешь? — монах посмотрел на меня с подчеркнутой строгостью. — Помни, что ты сейчас совсем не в той реальности, в которой находился, когда приехал в Тхам Пу.
Очень хотелось возразить, но я сдержался.

Было искушение просто обойти вокруг храма и сказать «сто семь», но я знал, что, во-первых, мое жульничество окажется замечено, а во-вторых, ложь наверняка повлечет за собой не самые приятные кармические последствия.
Поэтому я этот соблазн быстренько отогнал и двинулся в обход вата, считая колокола и одновременно выполняя смрити.
Да, вот она, моя зависть к бэкпекерам и рядом вера в то, что они такие хорошие и замечательные. Ничуть не лучше и не хуже прочих желаний, мыслей и ощущений, что мерцают и меняются, живут каждое не более мгновения. И лишь благодаря тому, что повторяются в очень похожем виде, могут казаться длительно и реально существующими.
К моему удивлению, у меня получилось сто два…
Почесав в затылке, я даже не стал подходить к брату Пону с этим результатом, а сразу двинулся на второй круг: нет, в этот раз я не злился, вообще не испытывал особо сильных эмоций, но куски старой меди вновь играли со мной странную игру, будто прятались друг за друга или, наоборот, раздваивались.
Сто девять… сто пять…
На четвертом круге, когда вышло сто восемь, я сдался.
— Правильно, — сказал брат Пон, когда я озвучил этот результат. — Как твоя зависть?
Я подумал некоторое время, а потом ответил:
— Не существует.
— Когда вновь появится, то ты знаешь, чем тебе нужно заняться, — и он указал в ту сторону, где покачивались, отбрасывая блики лоснящимися боками, только что сосчитанные мною колокола.
Бэкпекеры простояли рядом с нами две ночи, а потом как-то тихо и незаметно, без прощаний, исчезли. По этому поводу я не ощутил вообще ничего, ни горя, ни радости, ни облегчения, мелькнула только мысль, что они вполне могли не уйти своими ногами, а раствориться, остаться где-то в другой реальности.
Но ее пришлось отвергнуть, когда выяснилось, что гости не озаботились убрать за собой мусор.
Сделать это за них пришлось нам.
Пять статуэток стояли в ряд и, глядя на них, я испытывал настоящую гордость.
Рисунок на земле может изобразить кто угодно, даже ребенок, а вот вырезать такое под силу далеко не каждому. А если еще учесть, что у меня нет ни таланта, ни художественного училища за плечами…
— Закончил, выходит? — спросил брат Пон, отрываясь от созерцания бодхисаттв.
— Да, они все тут, — сказал я и отбарабанил, точно на уроке буддоведения: — А могхасиддхи, Вайрочана, Амитабха, Акшобхья и Ратнасамбхава.
Нет, я не обольщался — те фигурки, которые послужили мне образцами, выглядели намного лучше, каждая из них вполне могла занять место в музее или в алтаре пагоды, дацана или вата. Мои же были не более чем искусными поделками, но я бы не постыдился показать их кому угодно из знакомых и признать авторство.
Не зря терпел порезы и выкинул не один десяток испорченных заготовок.
— Неплохо, очень даже неплохо, — и брат Пон взял желтокожего Ратнасамбхаву, повертел, оглядывая с разных сторон. — Не скажу, что все по канону, но выглядит достойно. Наступил момент сделать то, ради чего ты с ними возился.
Я вздрогнул от радостного предвкушения.
Наверняка то, что я закончил работу, станет вехой на моем духовном пути, я узнаю некую истину или научусь делать что-то новое…
Брат Пон напрягся, побагровел, его пальцы изогнулись, точно превратились в когти. Раздался хруст, по бокам Ратнасамбхавы побежали трещины, рука с зажатым в ней драгоценным камнем отломилась.
Через миг наземь упала груда щепок.
— Нет… — прохрипел я.
Этого не может быть, это не более чем страшный сон, я сейчас проснусь.
— Да, — сказал брат Пон, с ласковой улыбкой берясь за Акшобхью.
Вновь мгновение страшного напряжения, когда словно все его тело превратилось в раму, обтянутую сухожилиями, прочными, как металлические струны, и рядом с первой кучкой щепок образовалась вторая.
Я сглотнул, открыл рот, но сказать ничего не смог.
А потом сидел и только смотрел, как монах одну за другой уничтожает статуэтки. Горечь заполняла меня изнутри и почти шла горлом, словно желчь, сердце билось с перерывами.
Я пытался считать вдохи, напоминал себе, что «это не я, это не мое», но ничего не помогало.
Ради чего я горбатился над фигурками бодхисаттв вечера напролет?
Ради того, чтобы они вот так, в один момент превратились в труху?
— Ну вот, — сказал брат Пон, разделавшись с Вайрочаной, который оказался последним. — Понял?
— Нет, — ответил я, испытывая желание придушить наставника голыми руками.
Обида и злость, о существовании которых я вроде бы давно забыл, в этот момент очень ярко напомнили о себе, и на миг я словно вернулся в те времена, когда еще не был знаком с неправильным монахом…
БУСИНЫ НА ЧЕТКАХ
Невозможно достичь чего-то нового, не избавившись от старого.
Нам дан некий ограниченный «объем жизни», и помимо него мы пространством не располагаем. Так что если есть желание обзавестись чем-то, чего мы ранее не имели, вроде мудрости, уравновешенности или силы воли, то придется выкинуть нечто, не столь необходимое.
На самом деле такого добра много в жизни каждого — и в первую очередь это привычки, необязательно те, что общество признает «дурными», въевшиеся в кровь шаблоны поведения, прилипшие словечки и фразочки, бытовые ритуалы, нелепые страхи и суеверия.
Если стряхнуть с себя хоть что-то из этой шелухи, то идти будет намного легче.
* * *
Практика полного осознавания, именуемого еще смрити, формируется в четыре этапа.
Первый состоит в том, чтобы отдавать себе отчет во всех физических действиях и ощущениях: ритм и глубина дыхания, сокращение мускулов, положение тела в пространстве и его перемещения, окружающая среда.
Начинать можно с небольших отрезков времени, но в конечном итоге такое осознавание должно стать постоянным, оно обязано присутствовать вне зависимости от того, чем вы заняты.
Второй этап — добавляется постоянная классификация ощущений на приятные, неприятные и нейтральные, причем не в оценочном смысле, а исключительно в телесном.
Третий — наблюдение за собственной мыслью, постоянный контроль над тем, какими качествами она обладает: эмоциональная или спокойная, разорванная или связная, относящаяся к прошлому, будущему или настоящему.

Четвертый — осознавание желаний, любых, даже самых низменных, которые иногда появляются у любого человека, кроме разве что просветленных. Их нужно не подавлять и не осуждать себя за их появление, а бесстрастно регистрировать, и тут же переходить к следующему, не задерживаясь на пережитом.
Идеал — полное исключение автоматизма из процесса функционирования организма, а также «объективизация» потока восприятия, отстранение его от личностных оценок и вообще от идеи личности.
* * *
Излишнее старание, напряжение, самоизнурение — верный путь к неудаче.
Нет, усилия прикладывать необходимо, но процесс этот должен быть легким, приносить в первую очередь радость.
Если же мы вынуждены принуждать себя, то мы делаем что-то не то или не так.
Назад: Глава 7. Поворот колеса
Дальше: Глава 9. Жизнь взаймы

