Книга: Просветленные не ходят на работу
Назад: Глава 8. Скелеты в гостях
Дальше: Пара слов от автора в завершение
Глава 9. Жизнь взаймы
Осознавать не забываешь? — спросил меня брат Пон.
— Что именно? — чтобы выдавить из себя эти два слова, я приложил столько сил, что даже вспотел.
Внутри бушевала настоящая буря, онемение языка прошло, и на него просились совсем другие сочетания звуков, очень-очень эмоциональные.
— А все подряд, — ответил монах как ни в чем не бывало. — Чувства, для начала.
— Да я… — я споткнулся. — Да мне… вы… зачем так?
— А ты надеялся владеть этими предметами вечно?
— Ну не вечно…
— А сколько? — перебил меня брат Пон.
— Ну, до смерти…
— А когда она наступит? — он наклонился вперед и требовательно заглянул мне в глаза. — Не забывай, что прямо сейчас она парит над твоими плечами и может забрать все! Через минуту, через секунду!
Я вздрогнул, накатила волна паники, показалось, что холодное черное облако уже опускается мне на затылок, что еще миг, и сердце замрет в леденящем объятии, а свет в глазах померкнет.
И что тогда?
То единство, которым я считал себя много десятилетий, распадется, перестанет существовать, а поток энергии, порожденной моими деяниями, вызовет следующее воплощение — если повезет, то в виде человека, а если нет, то животным, голодным духом или вовсе в аду.
— Испытывать страх перед смертью так же глупо, как бояться захода солнца, — брат Пон, как обычно, читал мои чувства. — Она придет, неизбежно явится за нами, заберет все.
— Это-то и пугает! — воскликнул я.
— Если считать это «все» своим, — поправил меня монах. — Своей собственностью.
— Но разве это не так?
— Конечно, нет, и ты должен это понимать. На самом деле ты не владеешь ничем. Все, начиная с тела, дано тебе лишь взаймы на сравнительно короткий промежуток времени. Семь-восемь десятилетий, ну максимум век, и все будет отобрано у тебя, а многое и еще ранее. И какой смысл привязываться к тому, что столь недолговечно? Понятно, что тебе с детства внушали — вот они, твои ручки, вот они, твои ножки, и ты привык к этой идее… Но пора отвыкать, ведь единственное, что у тебя есть — это сознание, это восприятие, и если приковать его к бренной плоти толстыми цепями, то о какой свободе можно говорить?
Тут брат Пон замолчал и даже глаза прикрыл, давая мне время немного подумать. Заговорил он лишь в тот момент, когда я «переварил» услышанное и задумался, какой вопрос задать первым:
— Ты должен всегда, в любых обстоятельствах быть готов расстаться со всем, даже с жизнью, ведь и она на самом деле не является твоей, а лишь дана во временное пользование.
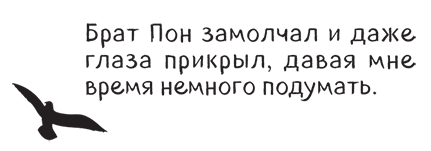
И он рассказал мне о юной монахине, так ревностно служившей учению, что она решила отправиться в путешествие, чтобы выслушать проповедь из уст самого Просветленного. В лесу ей повстречался юноша-охотник, с первого взгляда воспылавший к красавице страстной любовью.
Он шел за ней, громко восхищаясь ее прелестями и пытаясь склонить девушку к тому, чтобы она нарушила обет целомудрия.
Поняв, что юноша не отстанет, монахиня спросила, что именно в ее внешности больше всего поразило парня. И тот забормотал о прекрасных глазах, синих, точно небо над Гималаями, ясных, как вода горного озера.
— И тогда… — брат Пон хитро глянул на меня. — Она вырвала собственный глаз. Вручила его охотнику со словами «вот, держи этот комок слизи и утоли свое влечение»…
Услышав подобное, я содрогнулся, но в то же время мне стало намного легче — глупо расстраиваться по поводу каких-то статуэток, если ты можешь потерять часть собственного тела!
— И ты думаешь, она переживала из-за этой потери? Что-то я в этом сомневаюсь.
— Ну да, мне до такого самоотречения далеко… — проворчал я.
— Каждый обладает возможностью познать истину, и все в этом смысле равны, — сказал монах. — А теперь я скажу, что произойдет благодаря тому, что я сделал с твоими бодхисаттвами. На основе этой груды щепок через несколько лет возникнет муравейник. Насекомые из него уничтожат змеиные яйца, одно из которых в ином случае произвело бы на свет ядовитого гада. Ну а тот укусил бы еще не родившегося мальчика из знакомой тебе деревни, и тот бы умер.
— Что, правда? — недоверчиво спросил я.
Брат Пон вряд ли способен на ложь, но он может запросто выдумать эту историю, чтобы проиллюстрировать некие принципы.
— Нет ничего строго определенного в этом мире, но такой вариант очень вероятен.
— А как же те статуэтки, которые вы показывали мне? — озвучил я, наконец, тот вопрос, что так и рвался на язык. — Почему они сохранились? Ведь смерть заберет их?
Монах рассмеялся.
— Я знал, что ты спросишь! Первый комплект, изготовленный мной в ученичестве, мой наставник швырнул в огонь, после чего я едва не бросился на него с кулаками. Бодхисаттвы, послужившие тебе образцами, вырезаны мной намного позже, когда я стал куда более пустым… Я к ним совершенно не привязан, могу уничтожить в любой момент. Возможно, когда-то и ты обзаведешься своим комплектом, и поверь, создать второй будет намного легче, чем первый.
Ополоснув миску, я убедился, что не пропустил ни комочка риса, ни кусочка овощей, и отставил ее к остальным.
Все, с мытьем посуды покончено, нужно отнести ее на кухню…
Но, повернувшись, я обнаружил, что на берегу, рядом с мостками стоит непонятно откуда взявшийся брат Пон.
— Погоди, не спеши, — сказал он, не отрывая взгляда от другого берега, что едва просматривался сквозь дымку. — Думал ли ты о том, как будешь жить, когда вернешься?
— Вы отучили меня беспокоиться о будущем, — и, помявшись, я без охоты признался: — Хотя иногда я все же размышляю, что ждет меня там, среди людей, знавших меня совсем другим.
— Насчет этого можешь не беспокоиться. Люди не отличаются наблюдательностью. Мало кто заметит, что ты изменился.
Я пожал плечами.
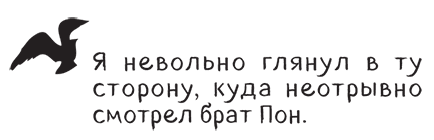
— Поначалу тебе придется особенно тяжело, — продолжил брат Пон, задумчиво водя по воде кончиком посоха. — Старые привычки и способы восприятия, на которых базировался твой мир, разрушены, и многие безвозвратно, новые же будут тебе скорее мешать, чем помогать… Ты попытаешься жить там так же, как жил здесь, и у тебя не получится, и тогда наступит разочарование в том, чему я учил тебя.
— Не наступит! Я… — я осекся, заметив на губах монаха понимающую усмешку. — Наверное…
— Многое ты потеряешь, — продолжил он так, словно я вовсе ничего не говорил. — Главное должен сохранить — самонаблюдение, усилие, концентрацию, осознание себя как потока мгновенных состояний, радость, спокойствие и умиротворение, и все это в любых условиях, не в мирной обстановке вата, а в бурлении обычной жизни, в делах и заботах, в столкновениях с другими…
Я невольно глянул в ту сторону, куда неотрывно смотрел брат Пон, в первый момент не увидел ничего интересного, но затем понял, что Меконг, обычно бурый и мутный, выглядит сегодня не совсем так.
По поверхности реки шла серебристая полоса, местами она исчезала, словно ныряла вглубь, но затем вновь появлялась. Вокруг нее вились несколько других, темно-желтая, золотистая и серая, и выглядело все это пучком исполинских поблескивающих лент.
— Вот так и мы, — сказал брат Пон задумчиво. — Возникаем, чтобы раствориться. Затем снова и снова… Сталкиваемся с другими, расстаемся, забываем, что было ранее… Крутится колесо, миллионы раз забрасывая нас в разные уголки Вселенной… И зачем? Кажущаяся полнота бытия оборачивается пустотой, в то время как истинная пустота обещает невероятное богатство существования…
Печаль, звучавшая в его голосе, похоже, была искренней, так что я слушал, затаив дыхание.
— Помнишь, мы с тобой говорили о сознании? — брат Пон посмотрел на меня, и Меконг вновь стал таким же, как всегда, громадной канавой, заполненной мутной жидкостью.
— Мы говорили о нем много раз, — осторожно отозвался я.
— О его видах. О том, что каждый человек обладает шестью видами сознания. Зрительным, слуховым, обонятельным, вкусовым, осязательным и собственно ментальным, которое сосредоточено на образах, порождаемых нашим умом.
— Да, помню.
Беседа на эту тему действительно имела место, но всего один раз, и никаких практических выводов из нее не последовало, что меня тогда сильно удивило, поскольку брат Пон не раз заявлял, что имеет ценность лишь то знание, которое так или иначе можно использовать на пути мудрости.
— На самом деле, помимо шести перечисленных, существуют еще два вида сознания. Седьмое — это то, что можно назвать «умом», и именно его средний человек полагает центром своей личности, ведь он является той осью, вокруг которой вертятся остальные виды сознания.
— А в чем разница между ментальным сознанием и умом? — спросил я.
— Шестое сознание — это лишь пассивная регистрация образов внутреннего мира. Седьмое — активное их комбинирование с элементами других сознаний, формирование картины себя и окружения.
Брат Пон подождал немного и, лишь убедившись, что вопросов у меня пока нет, продолжил:
— Но есть еще и восьмое, которое именуют «сокровищницей».
— Почему? — не выдержал я.
— А это ты сейчас попробуешь узнать. А ну, закрывай глаза.
И я уселся в позу для медитации прямо на мостках, рядом с кастрюлей из-под риса и стопкой чистых мисок. Судя по шагам, брат Пон приблизился, шуршание одежды подсказало мне, что он тоже сел.
— Ты должен увидеть реку, — сказал он. — Чистую, прозрачную, не как Меконг. Вообрази ее себе…
Мелькнула мысль, что с такой задачей я справлюсь без труда, и я взялся за дело. Представил берега, заросшие березняком, волны цвета серебра, золотой песок и шелестящую осоку.
А затем понял, что не могу удержать образ, что он ускользает, рассыпается на части.
И это после того, как я перенес в воображение бхавачакру, зафиксировал ее в мельчайших подробностях? После того, как я словно на видеопленке разглядывал священную гору Меру и ее обитателей, смертных и бессмертных?
Я сосредоточился, пытаясь собрать картинку, точно пазл, — берега, вода, осока…
В один момент вроде бы получилось, я даже увидел блики на волнах, ощутил ту смесь запахов, что царствует на малых речках средней России в разгар лета, сам встал на мягкое илистое дно.
— Отлично, — сказал брат Пон. — Что ты видишь под волнами?
И тут же образ рассыпался, лопнул, как зеркало, в которое бросили кирпич. Произошло это настолько внезапно и оказалось так болезненно, что я вздрогнул и открыл глаза.
Понял, что натворил, и мне стало стыдно.
— Я все испортил, да? — спросил я.
— Нет, — брат Пон покачал головой. — Я и не ждал, что ты добьешься успеха. Сознание-сокровищница рано или поздно откроет перед тобой свои тайны, но не сегодня.
Несмотря на его слова, я ощущал себя так, будто проворонил благоприятную возможность, упустил шанс сделать что-то важное, а следующий если и представится, то не скоро.
Говоря откровенно, я здорово расстроился.
Привык за последнее время, что любая медитация получается у меня чуть ли не с первого раза.
Брат Пон, судя по хитрому взгляду, понимал, что со мной творится, но ни упрекать, ни утешать меня не стал. Я собрал посуду, и мы отправились по тропке вверх, туда, где над откосом меж деревьев виднелась крыша храма.
Брат Пон позвал меня, когда я закончил таскать воду.
— Надо сходить в деревню, — сказал он. — Забрать кое-что у нашего друга-торговца. Прихвати сумку, вдруг кто из селян захочет сделать тебе подношение…
Я кивнул, стараясь не выдать недовольства, но морда у меня наверняка была кислая. Вышло так, что поднялся я сегодня до рассвета и ни разу не присел, хотя солнце уже вскарабкалось в зенит.
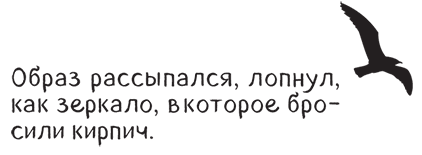
Палило немилосердно, в пустом животе недовольно екало.
Ну а помимо остального, в деревне меня ждали собаки.
Да, последняя встреча с ними закончилась мирно, но тогда рядом находился брат Пон.
— И не тяни, — добавил монах. — Не успеешь к обеду, останешься без него.
Вздохнув, я побрел к себе в хижину за сумкой.
Вскоре я уже шагал по знакомой тропке в сторону деревни, через мостик, который я некогда сломал, а затем сделал новый. Цель приближалась, я нервничал все сильнее и сильнее и никак не мог изгнать назойливые мысли о том, как именно встретит меня свора.
Поняв, что в таком состоянии я могу рассчитывать лишь на «ласковый» прием, я остановился и устроился в теньке под деревом. Лучше потратить немного времени и в конечном итоге остаться без обеда, чем вернуться в Тхам Пу с искусанными руками и ногами.
Начав считать вдохи, я перешел к «это не я, это не мое» и понемногу успокоился. Подавить нервозность до конца я не сумел, но хотя бы перестал трястись и смог думать о постороннем.
Я продолжил путь и вскоре выбрался на дорогу.
Рычание в кустах дало понять, что меня заметили и рады будут со мной поиграть.
— Тихо, — сказал я, в этот раз обращаясь уже не к собакам, а к себе, к собственному сознанию. — Неужели все это было зря? Или брат Пон потратил кучу времени впустую?
Из зарослей без спешки выбрался черный вожак, вроде бы еще выросший за эти месяцы. За ним показались другие собаки: сплошь оскаленные клыки, полные раздражения глаза.
Нужно было попытаться разложить их на элементы, представить каждую как набор частей, но в этот момент я забыл о той практике, что принесла мне успех в прошлый раз. Я застыл, точно парализованный.
Вожак зарычал, одна из псин раздраженно гавкнула, еще миг, и они вцепятся в меня…
И тут мир завращался.
Потек, распался на многие тысячи крохотных фрагментов обоняния, осязания, мысли, слуха, что вспыхивали на мгновение и тут же исчезали, уступая место другим. Цельная картина реальности, к которой я привык с детства, исчезла и в то же время осталась на месте.
Я очутился в центре исполинского колеса, что вращалось вокруг меня неспешно и бесшумно, а я двигался то ли внутри него, то ли вместе с ним, но в пространстве с куда большим количеством измерений, чем три.
Да, в нем имелись некие оснащенные зубами существа, находившиеся рядом, но они обладали не большей значимостью, чем все остальное — небо, деревья и трава, земля под ногами, размышления о том задании, что мне нужно выполнить в деревне, жужжащие в зарослях насекомые.
Состояние это во всей его полноте продлилось несколько мгновений, потом все опять стало как раньше.
За одним исключением — мохнатый вожак дружелюбно вилял хвостом и уже не скалился, а улыбался по-собачьи, прочие же барбосы поскуливали и бегали вокруг с игривым видом.
— Хорошие собачки, — сказал я, гладя черную густую шерсть.
И в этот момент я знал, что свора меня больше не тронет никогда, что я могу ходить мимо, даже забираться в кусты, где животные прятались от полуденного зноя, и ничего мне не будет…
Похлопав вожака по холке, я зашагал дальше.
Собаки еще некоторое время бежали следом, а потом отстали.
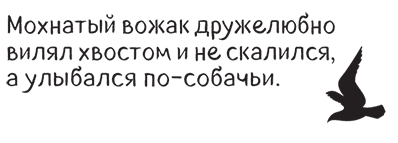
В деревне я не встретил никого, но сумка для подношений оказалась крайне необходимой в тот момент, когда хозяин магазинчика принялся выставлять на прилавок небольшие бутылки с яркими этикетками.
Внутри каждой плескалась черная густая жидкость, напоминавшая соевый соус. Этикетки украшали надписи на тайском, рисунков не имелось, так что это могло быть что угодно, от приправ к рису до средства от насекомых.
Но я не испытал даже тени любопытства.
Еще через полчаса я вернулся в Тхам Пу, избавился от груза и рассказал брату Пону, что со мной было.
— Ну вот теперь я точно могу сказать, что мы с тобой работали все это время не зря, — проговорил монах, с удовлетворенным видом покачав головой. — Обучение закончено. Нет, не целиком, но первый этап… Теперь ты можешь считать себя вступившим на путь. Осталось всего лишь пройти его до конца.
И он рассмеялся, хлопая себя по коленям.
Возможность задать вопросы представилась только в сумерках, после того как я закончил пропалывать наш крохотный огород. Вечер выдался просто жарким, а не изнурительно душным, и в ветерке, что дул со стороны Меконга, обнаружились необычные для этого времени года нотки свежести.
— Что значит «вступивший на путь»? — осведомился я, когда мы уселись под навесом.
— А то, что ты твердой стопой встал на дорогу, ведущую к освобождению.
— И я обязательно пройду ее до конца?
— Это очень вероятно, — сказал брат Пон. — Но ответить на этот вопрос невозможно.
— Но как так? — удивился я. — Ведь вы знаете методику, обучали по ней других… Результат должен быть гарантирован.
— Вовсе нет, — он покачал головой. — Смотри, однажды к Просветленному, когда тот уже возглавлял процветающую общину, явился некий брахман и начал задавать вопросы. Ведомы ли почтенному Готаме этапы пути, ведущего к нирване? «Да», — ответил Будда. Много ли учеников ныне упражняются в добродетели под руководством почтенного Готамы? «Много», — ответил Будда. А все ли они обретут полное освобождение? Догадайся, что ответил Просветленный.
Я почесал в затылке:
— Понятно, что «нет». Но почему?
— Точно такое же «почему» озвучил и брахман, хотя намного более велеречиво. Тогда Просветленный вопросил его в ответ — знает ли почтенный гость дорогу в Бенарес? «Да», — ответил брахман. И если сто человек спросят у почтенного гостя об этой дороге и каждому почтенный гость даст подробные и точные указания, все ли доберутся до цели? И что ответил брахман?
— Нет, — уже более уверенно ответил я. — Каждого ведь за руку не отведешь. Обязательно кто-то заблудится, другой услышит все неправильно, третий увлечется какими-то делами и свернет.
— Теми же словами, только более подробно, и воспользовался почтенный брахман, — сказал брат Пон. — И еще добавил, что он всего лишь указывает путь, и не более того. Сейчас же я лишь повторю то, что некогда озвучил Будда — и мы всего лишь указываем путь, а пройти его каждый должен сам, своими ногами.
Намек выглядел более чем понятным, но мне все равно хотелось более четкого ответа, хотелось знать, через сколько лет и каким именно образом я достигну цели, если достигну вообще.
Желание это я осознавал, как и порожденную им неудовлетворенность, но это пока не помогало.
— Пойдем, — сказал брат Пон, поднявшись. — Надо прогуляться.
Я двинулся следом за ним без единого возражения, хотя было уже темно и джунгли сливались в единую массу, из которой высовывались усаженные шипами ветки, а корни сами бросались под ноги.
Вскоре стало ясно, что мы идем к тому месту, где я медитировал и чертил колесо судьбы. К моему удивлению, там обнаружились двое молодых монахов, а между ними — ведро с водой.
Неужели они захотели снова показать мне смерть? Но зачем?
— Здесь ты некогда обнаружил в себе корни привязанностей, — сказал брат Пон, остановившись. — Тут же мы должны попробовать выкорчевать их из твоей души. Созерцанием жизни называют этот ритуал, и братья согласились помочь нам его провести. Садись, закрой глаза и спокойно дыши, стараясь ни о чем не думать.
Я выполнил его указания.
Я был совсем не тот, что несколько месяцев назад, и вскоре дыхание мое стало ровным, волнение улеглось, уступив место осознаванию звуков ночного леса, ощущений моего собственного тела и тех реплик на тайском, которыми обменивались брат Пон и его подручные.
А потом кто-то или что-то вцепилось мне в правую руку, чуть пониже локтя.
Я дернулся и открыл глаза, ожидая увидеть по меньшей мере бешеную собаку, но не обнаружил ничего!
— Глаза закрыть! — рявкнул брат Пон, и я повиновался.
За первым укусом последовал второй, в макушку, потом сразу несколько, и я ощутил, что меня рвут на части. Громадные челюсти сомкнулись на бедре, острые клыки вцепились в плечо, выдирая его из сустава, нечто вроде пилы начало елозить по левой лодыжке.
И это они называют «созерцанием жизни»?
Меня буквально рвали на куски, и хотя я понимал, что тело мое остается целым, легче от этого не было, скорее даже хуже, поскольку один и тот же участок тела мог пострадать неоднократно…
— Ты должен увидеть за этим свет, — прошептал брат Пон, склонившись к самому моему уху.
Свет? За болью и страданием?
— Можешь счесть это посвящением, — добавил монах. — Ну же, постарайся…
Очередной укус словно раздробил мне голову, другой пришелся на весьма деликатный орган. Все силы мои ушли на то, чтобы остаться бесстрастным, не закричать, не выдать того, как мне плохо, и не поддаться эмоциям, что вполне естественны для человека в такой ситуации.
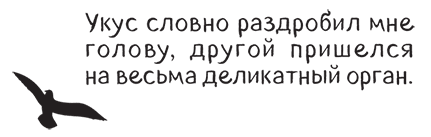
И в один момент под опущенными веками забрезжило призрачное сияние.
Облегчения оно не принесло, и наслаждался я его переливами всего лишь мгновение, а затем упал в бездну, наполненную стенаниями, тьмой и скрежетом зубовным…
Очнулся я у себя в хижине и обнаружил, что уже утро, а все тело болит так, словно меня на самом деле искусали.
Откровенно говоря, я ждал, что мне объяснят смысл произошедшего вечером. Но никто о «созерцании жизни» даже и не вспомнил, и после завтрака меня нагрузили обычными поручениями.
Я воспрянул духом, когда брат Пон через некоторое время позвал меня к себе.
— Ну что, узнаешь? — спросил он, и только тут я обратил внимание на вещи, лежавшие перед ним на циновке.
Рубаха с короткими рукавами, шорты цвета хаки… ха, это же моя одежда!
А рядом прочие вещи — рюкзак, сотовый телефон, зарядка к нему, все остальное…
— Узнаю! — отозвался я и нагнулся, чтобы подобрать мобильник.
В первые дни в Тхам Пу руки просто чесались от желания потыкать пальцем в его кнопки, но затем я как-то отвык и сейчас смотрел на аппарат точно так же, как в день покупки.
— А ну не трогай! — брат Пон шлепнул меня по ладони. — Разве это твое?
— Ну да… А чье же?
— Все эти вещи лишь даны тебе взаймы! — он сердито погрозил мне пальцем. — Забыл?
Я вздохнул с сожалением, но руку убрал.
— И пока ты будешь считать их своими, я их тебе не отдам, — продолжил монах. — Конечно, ты можешь отправиться в Паттайю в антаравасаке, без паспорта и денег, но я не думаю, что это будет разумно.
Предстать перед знакомыми и друзьями в виде буддийского послушника?
При мысли об этом я поежился.
— Поэтому держи для начала вот это… — брат Пон подобрал рубаху, светло-голубую, в оранжевых попугаях, и подал ее мне. — Сделай ее объектом своей медитации. Добейся того, чтобы она вызывала у тебя столько же эмоций, сколько грязные штаны камбоджийского работяги…
И я отправился в джунгли, на то место, где меня вчера подвергли «созерцанию жизни»; от воспоминаний о нем меня до сих пор корежило, я почти ощущал, как незримые, но вовсе не бесплотные челюсти терзают мускулы и крушат кости.
Уложив рубаху перед собой, я приступил к делу.
Поначалу разум мой успокаиваться не пожелал, ведь предмет, выданный мне братом Поном, рождал кучу ассоциаций — я купил эту вещь в «Майк Шоппинг Молле», когда мы ходили туда с друзьями из Казани… и она была на мне в тот вечер, когда я познакомился с Таней, и потом она говорила, что… и еще я как-то раз запачкал ее гранатовым соком так, что думал, придется выкидывать…
Бороться с этим потоком воспоминаний я не стал, просто дождался, пока он себя исчерпает.
И только затем приступил к созерцанию, разглядывая рубаху так, словно видел ее впервые в жизни, словно она не имела ко мне никакого отношения, повторяя время от времени про себя «это я одолжил, это я скоро верну».
В этот день особого эффекта я не добился.
Но на следующий все получилось как надо — я искренне удивился, какого лешего пялюсь на цветастую тряпку, и не сразу вспомнил, что когда-то носил ее, да с удовольствием, и казался себе в ней привлекательным мужчиной.
Брат Пон, услышав о моем достижении, кивнул, а затем одним движением оторвал от рубахи рукав.
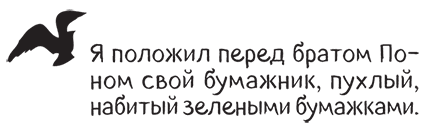
— Что ощущаешь? — поинтересовался он, требовательно заглядывая мне в глаза.
— Да ничего, — честно ответил я.
— Тогда берись за шорты, а я пока пришью рукав на место.
С шортами пришлось, с одной стороны, легче, поскольку они были вещью более обыденной, а с другой — тяжелее, поскольку я приобрел их в Европе много лет назад и таскал не один год.
Но и с ними я уложился в сутки, и настал черед рюкзака, затем сандалий, телефона…
Каждая такая вещь служила точно ключом к резервуару, где содержались мысли, ощущения и воспоминания, и резервуар этот висел на мне мертвым грузом до тех пор, пока я не опустошал его. Занимаясь этим, я почти физически ощущал, как мне становится легче, как рвутся веревки, привязывавшие меня к минувшему.
Склонившись, я положил на циновку перед братом Поном свой бумажник, пухлый, черной кожи, набитый не только батами, но и зелеными бумажками с портретами американских президентов.
— Неужели закончил? — недоверчиво поинтересовался монах.
Я кивнул.
— Сейчас проверим, — брат Пон открыл бумажник, порылся в нем и вытащил стодолларовую купюру.
Поглядев на меня, он разгладил ее, быстрым движением разорвал напополам, а затем, точно этого было недостаточно, запихнул оба куска в рот и принялся сосредоточенно жевать.
— Что чувствуешь? — поинтересовался он, с усилием сглотнув.
— Да ничего.
— И ведь правда ничего, — брат Пон покачал головой и вытащил купюру у себя изо рта, целую и невредимую. — И не смотри на меня так, одно время я подрабатывал бродячим факиром. Могу достать зайца не то что из шляпы, а даже из бейсболки.
— Всего лишь зайца? — поинтересовался я так, словно вынимал слона из еврейской кипы три раза в день.
— Ладно, шутки в сторону, — монах стал серьезным. — Забирай свои шмотки. Проверяй, все ли с ними в порядке…
Рубаху он вернул мне в целости и сохранности, и только внимательно осмотрев ее, я смог определить, какой рукав пострадал от вандализма брата Пона. В рюкзаке все оказалось на своих местах, но, разглядывая вещи, с которыми я три с лишним месяца назад приехал в Нонгкхай, я ощутил, что роюсь в багаже мало знакомого мне человека.
Да, я узнавал предметы, но они не имели для меня особого личностного значения, которое обязательно приобретают пожитки, если пользоваться ими на регулярной основе, каждый день.
Попытавшись включить сотовый, я без особого удивления обнаружил, что он разряжен в ноль.
Интересно, сколько людей за это время пытались дозвониться до меня?
При мысли об этом мне стало неуютно, возникло желание отшвырнуть мобильник, или нет, взять все эти шмотки и утопить в Меконге, а затем броситься к брату Пону и умолять его, чтобы он позволил мне остаться…
Нет, глупости все это.
Он не согласится, да и я, если не отмечусь в ближайшее время в иммиграционном офисе, превращусь для властей Таиланда в нелегала, а к нелегалам в королевстве относятся очень жестко.
Да и надо показаться друзьям, дать знать родственникам в России, что я жив…
Очень медленно я снял антаравасаку, к которой за время в Тхам Пу привык как ко второй коже. Натянул рубаху и шорты, и эта «униформа» фаранга показалась мне в первый момент адски неудобной, и не только потому, что я здорово похудел.
Увидев меня в таком наряде, брат Пон рассмеялся и сказал:
— А я уже и забыл, как ты выглядишь на самом деле.
— Не смешно, — мрачно буркнул я. — Я отвык от этой одежды, теперь привыкаю… Когда мне… ну, уезжать?
До последнего теплилась надежда, что он скажет «через неделю» или «оставайся».
Но монах спокойно заявил:
— Завтра. Я тебя провожу, чтобы убедиться, что ты сел в автобус.
— На первой же остановке я выпрыгну в окно и вернусь сюда, — мрачно пошутил я, но брат Пон воспринял мои слова серьезно.
— Боюсь, что ты не найдешь здесь того, что ожидаешь, — сказал он негромко, а после паузы добавил. — Когда-то давно я попытался вернуться в дом наставника после того, как он отправил меня в мир. Но обнаружил лишь древние развалины и запустение, гнездящуюся под камнями кобру и плющ, обвивший то, что осталось от стен и крыши. Понимаешь?
— Не до конца…
— Прошлое нельзя ухватить, оно лишь мираж, иллюзия, — тут брат Пон улыбнулся. — Цикл закончен, и вернуться в него не по силам даже существу, обладающему божественным могуществом. Единственное, что остается тебе, это существовать в другом цикле, в новом времени, использовать те возможности, что оно предоставляет тебе. Сожаления о былом лишь ослабляют, так что не позорь наставника, позволяя им одолеть тебя.
— Я постараюсь, — пообещал я, хотя вовсе не был уверен, что у меня получится.
— А теперь переоденься обратно и отправляйся подметать храм, — приказал монах. — До завтрашнего утра ты послушник нашего вата и не имеешь права вести себя как праздный гость-турист.
Я скривился и отправился выполнять распоряжение.
В этот последний день в Тхам Пу все валилось у меня из рук, я пару раз ронял метлу, а затем, полоща белье, едва не упустил одну из простыней. Сосредоточиться как следует я не мог, любые попытки заняться медитацией заканчивались тем, что я погружался в дремотное полусонное состояние, в котором едва осознавал поток собственных мрачных мыслей.
Что я буду делать в Паттайе, как смогу там жить? И когда вернусь сюда?
В то, что байка, рассказанная мне братом Поном, имеет отношение к реальности, я не верил — ясное дело, что это притча, озвученная с воспитательными целями, а не настоящее воспоминание.
За вечерней трапезой я задумался настолько, что застыл с чашкой риса в руках. Очнулся, только ощутив болезненный удар по плечу, от которого сустав мой онемел.
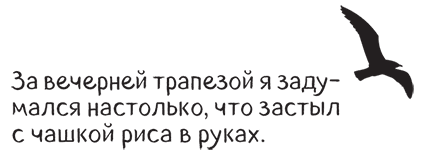
— Да, не ждал я такого, — сказал брат Пон, опуская свой бамбуковый посох. — Интересно, чему я учил тебя все это время?
Вид у него был сокрушенный, но глаза смеялись.
— Простите, — сказал я, потирая плечо. — Но я это, ну…
— Ты размышляешь о том, как будешь совмещать обычную жизнь и то, что постиг здесь?
В том, что касалось чтения чужих помыслов, брату Пону равных я не знал.
— Я не вижу твои мысли, — пояснил он. — Просто я был однажды на твоем месте. Думаешь, ты один такой уникальный со своими чувствами и переживаниями? Глупости. Люди на самом деле более-менее одинаковы, а уж в ситуациях обучения и подавно ведут себя сходным образом.
— Но как на самом деле я буду совмещать? — поинтересовался я.
— Не имею ни малейшего представления, — признался брат Пон с улыбкой. — Каждый ученик решает эту задачу сам. Могу лишь посоветовать тебе не напрягаться. Старание и упорство тут не помогут, а вот умение расслабиться и подстроиться под ситуацию может оказаться полезным… Но чего я говорю, ведь ты все-все знаешь, — погрозив мне бамбуковой палкой, он добавил: — Вот треснуть тебя надо, чтобы вспомнил!
— А когда я смогу вернуться?
— Никогда, — увидев ошеломление на моей физиономии, монах покачал головой. — Возвращение невозможно. У тебя наверняка будет возможность приехать заново.
— Но когда?
Брат Пон вздохнул:
— Не думай о будущем, забудь о нем, сосредоточься на том, что ты делаешь сейчас. Возможность для того, чтобы сделать очередной шаг на пути, лежит не в следующем месяце и не в новом году, а в этом моменте, и только в нем. Немедленно ешь свой рис. Пусть это дело станет для тебя последним в жизни, и тогда ты сможешь превратить его в ошеломляющую по силе медитацию, куда более эффективную, чем сотни часов созерцания лика Будды!
Я подумал мгновение и заработал ложкой.
— Каким окажется будущее, неведомо, поэтому нет смысла фиксироваться на нем, — продолжил монах, глядя, как я управляюсь с едой. — Сил человеку дано не так много. Расходуя ресурсы осознавания на эфемерные образы прошедшего или грядущего, ты не оставляешь ничего на то мгновение, в котором находишься сейчас, на ту единственную иллюзию, над которой мы имеем некоторую власть.
— Так настоящее — тоже иллюзия? — удивился я.
— А как же. Что такое настоящее — миг, зажатый между прошлым и будущим. Прошлое реально? Уже нет. Будущее реально? Еще нет! Как может быть реальной сущность, определяемая через две нереальные?
На это я не нашелся что сказать.
Но то ли благодаря словам брата Пона, то ли собственными усилиями, но я сумел отсечь беспокойство, забыть о тревогах, касающихся завтрашнего дня, и сосредоточиться на сегодняшнем.
Мы до самой темноты проговорили, сидя под навесом, и спать я отправился спокойным.
— Ну что, готов? — и брат Пон смерил меня тем взглядом, каким родители оценивают чадо, собранное на первое сентября в первом классе.
— Готов, — нервозно отозвался я.
Спал я как младенец, но стоило открыть глаза, как тревога вернулась.
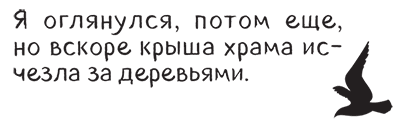
Я боролся с ней, собирая вещи и переодеваясь, но одолеть до конца так и не сумел. Как встретит меня обычный мир, из которого я так беспардонно сбежал, не поставив никого в известность?
— Тогда пошли, — сказал брат Пон.
Молодые монахи, чьих имен я так и не узнал, с кем не разговаривал ни разу, по очереди сделали ваи в мою сторону, и я ответил тем же, остро понимая, как нелепо выглядит это приветствие, если исполнять его, будучи облаченным в гавайскую рубаху и шорты.
— До встречи, — проговорил я, сглатывая упрямый комок в горле.
Они улыбнулись и замахали, а мы с братом Поном двинулись по тропке прочь от вата. Я оглянулся, потом еще раз, но вскоре остроконечная крыша храма исчезла за деревьями.
— Не оборачивайся, — посоветовал монах. — Вата более не существует. Он исчез.
— Провалился сквозь землю?
— Можешь и так считать. С практической точки зрения это не имеет значения.
— Погодите… — я встрепенулся. — Все хотел спросить… Что за «созерцание жизни»? Зачем оно было нужно?
— Чтобы ты мог ощутить истинное качество этого существования.
— И какое же?
— Свет в объятиях боли, — сказал брат Пон с улыбкой, и желание расспрашивать дальше у меня пропало.
Мы дошли до дороги, и почти тут же показался черный пикап, ехавший в сторону Нонгкхая. Водитель остановил машину и полез наружу, чтобы поприветствовать монаха должным образом.
Брат Пон благословил его, и мы втиснулись в кабину, вдвоем на одно место.
Владелец пикапа что-то рассказывал на тайском, поглядывая на меня с любопытством — еще бы, фаранг, путешествующий в компании служителя Будды, да еще такого служителя!
Брат Пон отвечал ему, не забывая улыбаться.
Нонгкхай, сонный и тихий по сравнению с какой-нибудь Паттайей, показался мне шумным и людным, но, очутившись в толпе, я не ощутил ни тошноты, ни головокружения. Вскинул рюкзак на плечи, и мы двинулись в сторону автостанции, той самой, где я некогда налетел на монаха с гривой волос, заплетенных в косички.
— Ну вот, дело почти сделано, — сказал брат Пон, когда я купил билет на автобус, отходивший через два часа.
— Рано утром буду в городе, там возьму такси до своего кондо, и все, приехал… — сообщил я, без особого успеха пытаясь отогнать чувство, что на этом моя жизнь и закончится.
Мы прошлись до рынка, я купил несколько завернутых в листья ногкхайских колбасок и бутылку воды. Прогулялись по набережной, а когда вернулись на автостанцию, то двухэтажный автобус с огромными цифрами 407 на лобовом стекле уже стоял у платформы, и водитель изучал билет одного из пассажиров.
— Мы обязательно увидимся, — уверенно сказал брат Пон, когда я остановился и повернулся к нему. — Не в этом воплощении, так в следующем, а может, и через десяток. Кто знает?
Я собрался уже сделать ваи, не думая, как это будет выглядеть, но он опередил меня, протянув руку.
— Давай, не посрами своего наставника, — проворчал монах шутливо и подтолкнул меня к автобусу.
Устроившись в кресле на втором этаже, я обнаружил, что брат Пон пропал. Видимо, он решил не ждать отправления, а пустился в обратный путь к сгинувшему вату… а может быть, и сам перестал существовать, растворился в начавших сгущаться сумерках.
Но когда мы поехали, мне показалось, что в толпе мелькнула знакомая фигура в бурой антаравасаке. Я прилип носом к стеклу, пытаясь сообразить, он это или нет, но группа туристов с огромными рюкзаками закрыла человека в монашеском одеянии, а когда они прошли, его на месте не оказалось.
Все одиннадцать часов пути я провел в оцепенении, то спал, то просыпался, пытаясь сообразить, где я нахожусь, куда и зачем еду…
А потом, спотыкаясь, выбрался из автобуса на остановке напротив мечети и вдохнул знакомый воздух Паттайи: да, я оказался там же, откуда уехал несколько месяцев назад, но вернулся я совсем другим, кое-что приобрел, но куда большего лишился, причем вещей не просто бесполезных, а вредных.
При осознании этого факта тревога, страх, прочая мишура вспыхнули упавшей в огонь соломой и исчезли.
Глядя на направляющегося ко мне таксиста-мотобайщика в желтой жилетке, я испытал прилив невероятной легкости и ясности — да, брата Пона больше нет рядом, но его учение, дух и плоть его со мной, и всегда будет со мной, и это утро ничуть не хуже другого годится, чтобы начать новую жизнь.
Так в чем же дело?
Вперед!
БУСИНЫ НА ЧЕТКАХ
Все в этом мире, начиная от вещей и заканчивая собственным телом, дано нам взаймы на сравнительно короткий промежуток времени — семь-восемь десятилетий, максимум век. И любая привязанность к тому, что столь недолговечно, становится источником разочарований и негативных эмоций.
Нужно быть готовым к тому, что все — благосостояние, здоровье, дружеские связи — может быть отобрано в любой момент, внезапно и безжалостно, без предупреждения. Всякое жилище, каждое пристанище является временным, ни одно не укроет нас навсегда.
Даже долговечные вещи вроде ювелирных украшений отберет безжалостная смерть.
И если настроить себя правильно, то никакая потеря, даже самая болезненная на первый взгляд, не вышибет нас из равновесия сверх меры, не оставит в душе незаживающих ран.
* * *
Все мы живем в окружении вещей и невольно к ним привязываемся, забываем о том, что материальные предметы не вечны и лишь даны нам во временное пользование. Пройдет несколько лет, и та одежда, что сейчас так радует, превратится в тряпку, смартфон устареет, машина утратит первоначальный лоск.
Для того чтобы избавиться от зацикленности на вещах, используется следующая медитация.
Предмет, вызывающий эмоции, берется в качестве объекта созерцания, и после того, как его образ намертво закрепится в сознании, к нему привязывают мысль-мантру «это я одолжил, это я скоро верну».
Ежедневной последовательной практикой нужно добиться того, чтобы объект стал восприниматься как чужой, перестал вызывать чувство привязанности. После этого берется другой, третий, четвертый, и так до тех пор, пока склонность воспринимать предметы как свои не лишится корней.

* * *
Возможности для развития, для того, чтобы сделать еще один шаг к свободе, содержатся исключительно в настоящем моменте, поэтому его нужно использовать по максимуму.
Не тратить время на сожаления о прошлом, что уже прошло и не вернется ни при каких условиях.
Не расходовать его на опасения и надежды, связанные с будущим, которое может вообще не наступить или оказаться совершенно не таким, каким мы его себе представляем.
Ресурсы человека ограничены, и если тратить их на то, что было или будет, то на настоящее их просто не останется.
Назад: Глава 8. Скелеты в гостях
Дальше: Пара слов от автора в завершение

