Восьмая
I
В отличие от распрямившейся пружины пространства, время вело свою собственную независимую политику. Не успел он глаза закрыть, и вот уже наступило новое утро – каждой минутой торопко стучащих колес приближавшее его к их опозоренной Москве.
На выход он приготовился заблаговременно, не дожидаясь, пока за окном поплывут унылые новостройки. Волоча за собой багаж (ладно бы чемодан, так еще и сетка, норовящая зацепиться за все, что торчит, выдается или выступает), проследовал в самый конец вагона, где за стеклянной дверью уже стояли два мужика. Холеные чиновные лица несли следы ночного угара, а проще говоря, попойки. Женщина интеллигентного вида, вышедшая за ним следом, поморщилась и уткнула нос в обмотанный вокруг шеи платок.
– Разумеется, приветствую. Притом безоговорочно.
– Вы, Карлуша Генрихович, неисправимый оптимист. Поглядим, что вы запоете месяца через два, когда сов-русские танки прорвутся-таки к Москве. Лично меня эта перспектива напрягает.
Судя по всему, эти двое продолжали ночной разговор. В замкнутом пространстве тамбура он невольно прислушивался.
– Бросьте вы каркать! Фюрер не допустит.
– Ваши слова, да сов-русским в уши.
– А вы – неверующий Фома. Идея Четвертого Рейха, как ее понимает фюрер, не война. А мистическая связь людей, в чьих жилах течет, или некогда текла, советская кровь. Возьмите нашу военную доктрину. На территории России военные действия исключаются. Мы, – говорящий гаденько усмехнулся. – Мирная страна. А если што, виноваты будут сов-русские. Они и прошлую войну развязали.
– Да ладно вам! Признайтесь, батенька! Желаете обратно в совок? А? В глубине-то души.
– Отнюдь, отнюдь. А вот привить к советскому дичку бесспорные завоевания России, ее, я дико извиняюсь, свободы… Вот вы, к примеру. Бывали в совке? Это не жизнь. Ад. О правах человека я и не заикаюсь. Речь о самом элементарном – шмотки, жратва. В магазинах хыть шаром покати. А очереди! Великий Дант отдыхает.
– Сов-русские не ропщут. Очереди – их духовная традиция.
– Да слушайте их больше! У меня родичи в совке. Чего ни привезешь, всему рады. Любому, прости ос-споди, говну.
– Дак они што, желтые? Не ожидал от вас. Фюрер свидетель, не ожидал!
– А вы, Пал Иваныч, кажись, недолюбливаете желтых?
– Да я им – отец родной. Подарки к кажному празднику. И кухарке, и водителю. И этому, как его, садовнику. Накормлены, одеты. Супружница лично на распродажи ездит, штобы им, сукам таким, потрафить… – чиновник вдруг смешался.
Что не укрылось от наметанного взгляда его собеседника.
– Ну вот. Сами ездите, а на меня наезжаете.
– Вы, Карлуша Генрихович, не так меня поняли. Если што и ляпнул, исключительно про ихних. Которые там, в совке. Дескать, смирились и не ропщут. А нашим-то – чево роптать! Живут, как у фюрера за пазухой.
Тот, кого звали Карлушей Генриховичем, тонко усмехнулся:
– А вот тут, дорогуша мой, вы правы. Нам, государевым людям, следует держать нос по ветру, – обвел указательным пальцем свой ноздреватый нос. – Нынче не давеча. Про желтых как про покойников: либо хорошо, либо ничево…
– Извиняюсь, пардон, прощения просим, – проводник вышел в тамбур и протиснулся к самой двери.
– Ублюдки. Твари фашистские. Он вздрогнул: женщина, уткнувшаяся носом в платок, высказала его заветную мысль. Лишь бы не встретиться взглядом с проводником: «Донесет, как пить дать донесет, – он вжался в стену. – И дверь не откроет. Дождется, когда полиция явится…»
Сохраняя на лице вежливо-бесстрастное выражение, проводник нажал на зеленую кнопку:
– Всего доброго, данке, типа ждем вас снова.
– Пшел на хер, урод тряпошный! Понаставили вас тут – болванов! – Женщина, чье грубое заявление, во всяком случае в его глазах, несколько обесценило ее предыдущее политическое высказывание, первой вышла на платформу. И исчезла, смешавшись с толпой.
«Ладно проводник. Он при исполнении. Но эти…» Чиновники, которым она, если называть вещи своими именами, плюнула в рожи, утерлись, будто так и надо.
Напротив вагонной двери стояли двое, по виду тоже чиновники, но по осанке – не слишком высокого ранга. Видимо, кого-то встречали. Он остановился, решив переждать основной поток. Чиновники обсуждали переименование одной из канцелярий гестапо в Отдельный жандармский корпус, однако с сохранением прежних полномочий. Так, во всяком случае, утверждал один из них – с высокомерной не по чину верхней губой. Его внимание отвлек гундосый окрик.
– Па-аберегись! Па-аберегись! – Носильщик распугивал медлительных пассажиров, заполонивших платформу. Тележка, нагруженная чемоданами, перла прямо на этих двоих. Чиновники порскнули по сторонам, точно зазевавшиеся клопы.
Неся на себе выражение угрюмого достоинства, носильщик двинулся в сторону вокзала. За ним следовал какой-то невзрачный юркий мужичок, надо думать, хозяин чемоданов.
Он попытался пристроиться в фарватере, но его оттеснили ярко-желтые куртки. «Откуда их столько?.. Ах да, у них же слет». От яростной желтизны, стоявшей в воздухе, посверкивало в глазах.
Делегаты сбивались в колонну, которую возглавлял его несостоявшийся сосед по купе. Под левым глазом любителя баночного пива расползался здоровенный синяк.
«Пусть пройдут, мне торопиться некуда», – он пережидал густой желтый поток, который должен вот-вот схлынуть и, если ночью не примерещилось, выбросить на пустой берег Ганса – не то рыбину, не то отшлифованный волнами камушек с дырочкой. Даже название вспомнил: куриный бог.
Поток наконец схлынул. По пустой платформе гулял мусор: клочки бумаги, обрывки газет, фантики, окурки, куски шпагата, тряпичные лоскутки, от которых пассажиры поезда поспешили избавиться, словно от улик канувшей в прошлое ночи. Он разглядел даже куриную кость – кто-то швырнул мимо урны. Нет бы обглодать и аккуратненько завернуть.
Он двинулся к зданию вокзала, лелея в себе обиду. «Да кто он вообще такой, чтобы о нем думать! Ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса, ни богу свечка ни черту кочерга…» – родные фразеологизмы, к которым догадался прибегнуть, чтобы раз и навсегда разделаться с Гансом, лопались на языке ментоловыми шариками, придавая резвости ногам.
Но бодрое настроение сбилось. Как ни пытался продолжить в том же духе: «Ни пава ни ворона, ни в городе Богдан ни в селе Селифан, ни вреда от него ни пользы…» – вместо бодрящих шариков во рту хрустела сухая галька. И выпил-то всего ничего, подумаешь, полбутылки, тем более не водка, а шнапс, но все равно пересохло во рту.
– Да стой ты, ирод совейский! Кому грят! Даже вздрогнул и обернулся. Но оказалось, он ни при чем. Тетка орала на своего сына. Хотя мальчишка, которому досталась такая сумасшедшая мамаша, и так стоял смирно. Он кивнул ободряюще, дескать, терпи, мать есть мать, – однако наглый малец окинул его презрительным взглядом.
«Номер восемь, левая сторона… – Презрительный взгляд мальца не давал сосредоточиться. Ему потребовалось несколько минут, чтобы понять: серебристый „Беркут“ не здесь, а в тупике. – Глаза не хотят мозолить. Этим, кому закрыт выезд из России».
Он перехватил сетку с зимним пальто в другую руку. Но не успел сделать ни шагу.
– Ну чо, двинули? – Там, где только что торчал противный мальчишка, стоял Ганс. Лучился радостью встречи.
Его ответная улыбка сложилась криво, будто с привкусом презрения, разлитого в воздухе.
– Куда? – он искал следы ночного грима. Но их не было. Ни на лице, ни на шее – похоже, тщательно смыл.
– Дак на восьмую, – Ганс ткнул пальцем в электронное табло.
– А ты?.. – он растерялся. – Разве тоже на «Беркут»?
– Ага. Прикинь. Эбнер все устроил. Перетер с кем надо, – Ганс не скрывал распиравшей его гордости. – Нехрен, грит, светиться. Россия типа большая. Найдешь, где пересидеть.
– С пустыми руками? – он усмехнулся, обнаружив наконец то, что искал: белое пятнышко под ухом. Как мазок кистью.
– А чо мне? Документы, бабок малёха, – Ганс помахал тощим портфелем. – Брательник што смог вынес. Хотел, грит, свитер ищо. Дак папаша, цербер хренов. У шифоньера засел. Бдит.
– Пятно. На шее у тебя.
– Можа, паста зубная… – Ганс послюнявил палец и торопливо стер.
– А я, между прочим, не сказал, что оно белое.
– Дак умывался, чо ищо-то? – Своим смущением Ганс окончательно выдал себя.
«Так ему и надо, впредь не будет держать меня за дурака».
С этой духоподъемной мыслью предъявил паспорт и проездные документы. Ганс маячил у соседнего вагона, что-то втолковывал проводнику. «Видали. Путешественник», – кислая обида перетекала в острое раздражение. Расползаясь все шире – как тягостный неверный рассвет, за которым придет такое же сумеречное утро, какое теперь стояло за окном. – «Нельзя ему деньги доверять. Возьмет и прикарманит. А потом – какие, скажет, деньги?»
Он и не заметил, как поезд тронулся, пускаясь в обратный путь.
Долго ли, коротко, но когда открыл глаза, не было ни новостроек, ни суетливых московских предместий. Под мягкий шелест колес расстилались пустые бесхозные поля. Исконно советская земля, истомившаяся в фашистской неволе, еще дремала, исподволь наливаясь весенними соками. Но словно в насмешку над правильно и рационально организованным севооборотом, ее, как свежие кривые царапины, перечеркивали густые жирные колеи.
Его взгляд (будто влажная тряпка, которой вытирают со стола) шарил вокруг, стирая следы чужого разнузданного пиршества, растянувшегося на долгие десятилетия, в своем хозяйственном рвении устремляясь все дальше, к горизонту, откуда вставала крепкая рука настоящего хозяина – растопыривала пальцы-лучи. Замирая сердцем, он ждал, что они захватят и сомнут испоганенную оккупантами скатерть, бросят ее комком в корзину истории, освобождая из плена озимые всходы. Но пальцы-лучи вдруг опали, точно сжались в кулак. Солнце – наш естественный природный союзник, которому вроде бы можно довериться (недаром оно всходит не на Западе, а на Востоке), – скрылось за облаками.
«Значит, еще не время…» Но когда-нибудь весна все равно наступит – так же ясно и непреложно, как этот поезд, размотав положенные тысячи километров, рано или поздно окажется в его родной столице. Нашей дорогой и любимой Москве.
Если не считать его самого и какой-то женщины (ее коротко стриженный затылок мелькал в просвете между дальних кресел), вагон был пустым. Ни тебе стариков с чемоданами, ни родителей с детьми. Видно, последние события, о которых вещал телевизор, все-таки напугали захребетников. «Вот и подавитесь своими подачками! – он вспомнил разговорчивого чиновника, который возит подарки своим советским родственникам: – Не очень-то и хотелось. Обходились. И впредь обойдемся…»
Словно давая пищу его патриотической уверенности, стеклянные двери тамбура разъехались, впустив двоих мужиков. Судя по уныло-озабоченным физиономиям, явно из наших. Но они разговаривали на чужом языке.
– Чо ссышь-то! Подумашь, мля, таможня.
– А эта, отымут?
– У нас в Ханты-Мансийске прикормлены. А чо? Тоже небось люди. Хавать всем охота…
«Хавать, прикормлены…» – этой связи между едой и советской таможней он не мог уловить.
Взгляд, провожающий мужиков, наткнулся на женский затылок, маячивший между кресел. «Скорей всего, тоже наша. Может, подойти, спросить?» – но понял, что никого ни о чем не спросит. Потому что устал. Руки-ноги наливались каменной тяжестью. Его хватало лишь на то, чтобы, продолжая наружное наблюдение, отчетливо и точно фиксировать происходящее.
Вот двое мужиков, любителей разговорного нем-русского, идут обратно, тащат огромные сумки, надо полагать, с едой – кормить советских таможенников. Вот проводницы, тоже блондинка и брюнетка, только на этот раз нем-русские, катят тележку с захребетной снедью:
– Чай, кофе, орешки? Почуяв запах свежего кофе, он едва не допустил ошибку. По счастью, его внутренний вмешался.
Правило наружного наблюдения: оперативник обязан стать невидимкой; ни при каких обстоятельствах он не имеет права реагировать на внешние раздражители.
Не дождавшись ответа, проводницы покатили дальше.
Вот в дверях показался проводник. Направляется к женщине. Что-то ей говорит. Протягивает какой-то листок.
Самое упоительное заключается в том, что, строго говоря, он не видит ни женщины, ни проводника. Его шея, взяв пример с других окаменелых членов, не поворачивается. Не видит, но все равно примечает, что делается у него за спиной. Значит, тело разведчика – в те важные моменты, когда он находится при исполнении, – каменеет не случайно. Должно быть, это новая секретная технология, разработанная в недрах его родного ведомства: эдакая спецокаменелость, значительно увеличивающая обзор. В пределе, когда ученые доберутся до скрытых резервов человеческого организма, поле оперативного зрения имеет шанс расшириться до 360 градусов. «Как у насекомого. Не помню, кажется, у мухи…»
Его внутренний, нет чтобы подсказать, молчал. Видно, тоже запамятовал.
«Ладно. Технологам виднее. Это их зона ответственности». А у него – своя: разговор с Гансом. Который он, воспользовавшись профессиональными навыками, сумеет перевести в выгодную для себя плоскость. Точнее, колею. В том, что он справится, сомнений не было. Надо только собраться.
Однако остатков собранности и силы воли хватало лишь на то, чтобы держать все под наблюдением. Что он и делал, осторожно поводя глазами, скользя взглядом по багажной полке, на которой лежал его сверток. Если российские пограничники спросят: что у вас там, в сетке? – он ответит: старое зимнее пальто.
Тяжелый каменный сон, куда он мало-помалу погружался, отпустил его только к вечеру, когда все, что бежало за окном, подернулось сероватой мглой. Но сонное время даром не прошло. Он чувствовал себя отдохнувшим и бодрым, готовым к разговору. При этой мысли его обуяло беспричинное веселье: даже захотелось позвать Ганса, поторопить.
Впрочем, тот и сам не заставил себя ждать.
В первый миг, когда долговязый силуэт материализовался за стеклянной дверью, ему показалось: Ганс снова надел маску – таким он был бледным. Даже прыщи исчезли.
– Слышь, а гренца когда? – О том, что Ганс, в отличие от него, не в лучшей форме, свидетельствовали и глаза: красноватые, пронизанные воспаленными жилками.
– Граница? Утром, – не только голова, но и все остальные части тела ему опять послушны. Он закинул ногу на ногу. Специально. Если в вагоне присутствуют наблюдатели-невидимки, страхующие его эвакуацию из фашистского логова, дал им знать: свой пост он сдал, во всяком случае, на время разговора.
Ганс сел напротив, пристроив сбоку-припеку свой тощий портфель.
– Слышь, а на гренце шмонают?
– Тебе-то не все равно? Ты же сойдешь. Готовясь к поездке, он, конечно, изучал схему, впрочем, не слишком внимательно. Запомнилось главное: на сверхскоростном маршруте остановки исключительно редки. С российской стороны их, кажется, всего три. Он навел внутреннее зрение, словно разложил перед собой воображаемую карту: «Нижний Новгород, Йошкар-Ола… Или Ижевск? Черт их разберет! То ли дело у нас. Никакой путаницы», – уж тут-то он был уверен: с советской стороны никаких остановок. «Беркут» летит как птица-тройка. Только успевай уворачиваться.
Кому там, блин, уворачиваться? В тайге. Медведям, што ли?
Между тем погасили верхний свет. Стало холодновато – как прошлой ночью в поезде Петербург– Москва. Хотя там нещадно дуло и сквозило. А здесь все заделано герметично. Он приложил руку к оконной раме, лишний раз убеждаясь в собственной правоте.
– Прав ты был, – казалось, Ганс ничего не замечает: ни холода, ни тьмы. – Веньямин… да, еврей. И надо с этим смириться. Но, понимашь, трудно. И баушка. И потом, в шуле. Все в одно слово: жиды, жиды. И революцию они затеяли. И войну развязали. И репрессии – ихних рук дело. Слушаешь и думаешь: может, и так… Не, я не говорю, што у вас рай. Тоже думать приходится, а как же?.. – Ганс бормотал и бормотал. В сущности, сплошные глупости. Радовало лишь то, что с его помощью Ганс осознал самое важное: понял наконец, что такое фашизм.
– Ну ладно, кто старое помянет, тому глаз вон, – держа в голове свои собственные задачи, он старался говорить искренне. Насколько позволяло служебное положение.
– Я… последние дни. По городу пока мотался, всё думал. Евреи – да. На определенном этапе они, конечно, критерий. Но теперь-то евреев нету. А фашизм остался. Значит, можа, дело не в них…
– А в ком? – Он знал, что обязан возразить достойно и по существу, но снова наваливался сон, только не тот, что прежде. Когда отказывают руки и ноги. Руки-ноги оставались мягкими (нарочно пошевелил пальцами), не слушалась только голова. Видимо, какой-то сбой. «Технология оперативного окаменения не отработана. Нужны дальнейшие испытания… Если Родина прикажет, я готов, – он примерил на себя профессию естествоиспытателя: – Изучать предельные возможности организма. Возможно, в этом мое настоящее призвание… Трудное, но почет… почетное…» – под лобной костью проворачивалась мысль – тяжелая, точно каменный жернов, – в средневековых мельницах так размалывали зерна в муку.
– Я, прикинь, над лозунгом ихним смеялся. Фольк и партай едины. А можа, и вправду. Как думашь, а?
– У нас в СССР народ и партия тоже едины.
– Да ты чо! Разе можно сравнивать! – Ганс замахал руками. – В СССР ни желтых, ни черных. Сам же говорил.
Не выводы – выводы Ганс делал правильные. Раздражала сама манера.
«Сравнивает, сравнивает… Нет бы просто признать, что российская жизнь – фарс».
– Эх! Скока ж я всего передумал. И про вас, и про нас. Три дня, а будто цельная жизнь. Башка пухнет.
Прикинь, с детства наросло, – Ганс постучал костяшкой пальца по лбу. – Тайга прям какая-то. Корчевать и корчевать.
– Тайгу не корчуют, а вырубают.
– А разница? – Ганс насторожился.
– Когда вырубают, остаются пни. Корчевать – значит вытаскивать с корнями.
– Ну дак и я про то. Взять, к примеру, войну…
– Войну? – он оживился. – Давай! Я не против. Даже интересно, до чего ты там докорчуешься. Была ваша победа, станет наша, так?
– Победа! – Ганс сморщился. – Гордятся. Дошли, мол, до Урала. Жирный кусище отхватили. Половину, считай, земли. И чо? Ваш советский народ как был благороднейший в мире, такой и остался… А мы? Полнейшая деградация. Не люди. Болванки. Как хошь обтесывай. Да чо далеко ходить? Вон, мои. И в голову не приходит, што я, их сын, которого они знают с детства, никакой не додик. Сказали им до-дик – значит додик! Ты, верно, думаешь, – Ганс все не мог остановиться, будто решил выговориться раз и навсегда, – болваны есть везде. Но у вас их учат, перевоспитывают. На концерты водют. Я в кино видел. После работы собирают. Построят и ведут.
Он опешил:
– Куда?
– Как – куда? В филармонию. Скажешь – нет? Совершенно неожиданно для себя он кивнул.
– Не, черные не дураки. Всё понимают. Рано ли поздно правда-то откроется. Вот и клевещут. Делают вид, будто разница невелика. В СССР, мол, тоже фашизм, тока другой, хитрожопый. Усёк, куда клонят? Вот я и подумал. Уж раз я историк, обязан перелопатить. А потом, с фактами в руках…
– В смысле, переписать историю?
– Во-во! Именно, именно. Он вспомнил рассказ про «настоящий Ленинград».
– Ну, дерзай! Фюрер, как говорится, в помощь. – А про себя подумал:
«Фальсификатор. Вот он кто».
– Вопщем, ты меня понял. – Ганс ни с того ни с сего обрадовался. – Потому што мы, эта… с тобой. Как братья.
«Какой я ему брат!» – он не ожидал от себя такой вспышки ярости. Казалось, оставившей пенный след на губах.
– Вот бы мне у вас поработать, – Ганс положил руки на подлокотники. – В ваших-то архивах…
Он хотел спросить: интересно – как? У тебя же пасс синий.
– Вашим-то нечево скрывать. Чо скрывать-то, все и так знают. Ну, перегибы на местах… Дак время такое было. Наши угрожали. Вынуждали готовиться к войне. И Сталин. Заладили: тиран, тиран! Гитлер, што ли, демократ… Ну пусть даже и тиран. Но ить заложил прочные основы. Берия в сравнении с ним слабак. На готовенькое пришел. А все одно просрал, не справился. Если бы не Сталин… С ним хыть половина эсэсэра осталась, а без него – ваще бы хана. В границах Жидовской автономной области. Со столицей в Биробиджане…
Он смотрел в окно. По обеим сторонам полотна расстилалась степь, но не голая. А утыканная косыми колышками.
«Сад, что ли, тут разбили? – Плотный воздух, взрезанный ножом сверхскоростного поезда, дрожал как студенистое желе: сколько ни вглядывался, так и не разглядел саженцев. Когда разбивают сад, их должны привязывать. Для этого и колышки. Он усмехнулся. – Значит, райский. Типа наш коммунизм. Ткни в землю палку – зацветет… Ну, ждите, ждите, когда рак на горе свистнет».
Все-таки поинтересовался:
– А это что? Ганс вдруг осекся, будто внутри него что-то схлопнулось.
– Лагеря. Для перемещенных лиц. Могилы ихние.
От насыпи до горизонта, сколько хватало глаз, торчали пустые колышки – саженцы райского сада.
– Так много? – он переспросил недоверчиво.
– Ну да. У вас вроде бы тоже? – но как-то неуверенно. – По телику говорили.
Он вспомнил серые лица тех, кого каждый божий день выводят из леса – в колоннах, по пятеро, в затылок, под яростный собачий лай, – расставляют вдоль полотна железной дороги: провожать тоскливыми голодными глазами уносящиеся на Запад сверхскоростные поезда. «Тоскливые, но ведь не мертвые. У нас они все-таки живые». Три недели назад, когда ехал в Россию, думал: привиделось. Но теперь ответил уверенно, нисколько не греша против правды, до которой Ганс рассчитывает докопаться:
– У нас могил нет.
– Вот и я грю. Врут. Каки-таки могилы! Нету у вас могил. – Ганс радовался. – Тут могилы, у нас. Не! На северах, куда евреев свозили, там, конешно, покруче. Но и тут – не дай бог. А хошь, я тебе про них расскажу.
– Это еще зачем? – он встрепенулся, почуяв подвох.
– А потом ты мне. Про ваших. Как все было.
К нему пришло воодушевление. Захотелось рассказать о Великих стройках, когда не в переносном смысле, а на самом деле, по-настоящему: сперва вырубали, а потом раскорчевывали – километры и километры когда-то непроходимой тайги.
Но Ганс – «Вечно лезет поперек батьки в петлю. Тьфу ты! В пекло, конечно, в пекло», – уже начал свой рассказ.
– Прикинь. Эшелонами их свозили. Евреев, туда, на север. А сюда интелихенцию. В пути большинство мерли. Особенно дети. Но взрослые тоже. Трупы на ходу выбрасывали. Возьмут за руки, за ноги, раскачают… Пока зима – ништяк. А весной, када стаяло, короче, гнить стали. Веньямин грил – на сто километров вонища. Власти бригады слали. А чо там хоронить?..
Он тихо злился. «Мало мне было старика. Хлебом их не корми, дай поговорить про покойников…»
– Мне парень один рассказывал. Папаша ево похоронником арбайтал. Возьмешь, грил, жмурика за ногу, а нога – хрясь! – и отвалилась. Кого смогли, земелькой присыпали. А все одно. Лет пять ищо воняло. Поезда пассажирские пошли, дак запрещали открывать окна. А кто спрашивал – туфту гнали.
– Кто гнал?
– Знамо кто. Проводники. Мол, газ болотный, метан. Болота вокруг – вот типа и подымается.
– Откуда болота? Тут же степь.
– Это ты знашь. В нормальной школе учился. А наши… Многие верили. Эх! Да чо многие – все… Потом, лет через пять, копатели понаехали. Чо тока не находили! Сережки, колечки всякие. Короче, бизнес. Многие на этом поднялись…
Он думал: ну все, хватит. Надоело. Теперь моя очередь рассказывать. Но Ганс все не мог остановиться.
– Знашь, как их узнавали? Ну, этих, копателей. По запаху. Мойся не мойся – все равно.
– А чем от них… пахло? – он принюхался осторожно.
– Гнильем. Я ить застал ищо. Идем, бывало, с баушкой. А мимо – мужик. Вроде приличный. Пальто, шапка-пирожок… Баушка на меня серчала. Не смей, грит, нюхать! А я ее не слушался… Вопщем, эти, кто выжил, сами землянки рыли. Это потом бараки им построили…
– Я, если хочешь знать, – он вставил наконец свое слово, – тоже в бараке вырос. И ничего. Все от людей зависит. Вот мы, например, дружно жили. Помогали друг другу. Последней коркой делились.
– Ты? В бараке?! – Ганс растерялся. – Но там жа грязь. Вши.
– Это у вас вши. А наши их вымораживали. – «Вот и пригодилось, спасибо старику, который приходил к матери». – Берешь рубаху, закапываешь в мерзлый грунт. Не всю. Рукав, к примеру, торчит.
К утру все вши повылазят, обсыпят, как белым инеем. Ногами раздавить их – и всё.
– Здорово! А главно, просто. Жаль, наши не додумались. Ослабли, видать, с голодухи. Прикинь, даже не маргарин. А этот, ком-би-жир. Небось, и слова такого-то не знаешь. Или кубики. Думашь – детские, которые с буквами? Не. Нормы выработки. Там ваще мрак. Я пытался разобраться. Куды там! Сильней тока запутался… – Ганс хлопнул себя по лбу. – Болтаю, болтаю. Главное чуть не забыл…
Он-то думал: вспомнил наконец про деньги, которые должен забрать и передать Эбнеру. Но Ганс порылся в портфеле:
– Вот. Гляди. На него смотрели новобранцы из рамки. Двое, те самые, пропавшие со стены старика.
– Короче. Я научнику принес. А он: фотка как фотка, в архивах таких немерено. А на другой день бежит. Геннадий Лукич велел прислать. Типа, для диссертации. Тоже Republik Lokot копает. А в архивах с гулькин нос. Ну, в смысле, в ваших. А я: сфоткать, што ли? А научник: не, он подлинник просит. На конференцию приедут, вернут. Ладно, грю, тада по почте. А научник: по почте долго. Геннадий Лукич просил через тебя. Все равно, мол, едешь…
– А сразу чего же не отдал? – он напустил строгости. Так, для порядка.
– Отчислили ж меня. Вот я их и послал. А потом… Дело-то, думаю, опщее. Даже хорошо, если с двух сторон рыть. Типа тоннель. Под Хребтом.
«Где Геннадий Лукич, а где Локотьская республика?» Смешно, что наивный Ганс принял за чистую монету. Сам-то он сразу понял: «Этот, второй, приятель старика, – у нас в разработке. Вот шефу и понадобился подлинник…»
– Молодые, как мы с тобой. А узнать можно. Я ить как глянул – сразу: этот, слева, Матвей Федрыч. Черты, конешно, расплылись. Но костяк-то остался. Лоб. Линия ушей. Зазор. Глянь, от носа до верхней губы…
– Ну ты даешь! Прямо академик Гюнтер!
– Дак музей его. В универе. Материалов – выше крыши. Сидит какой-нибудь поц. А другой циркулем его мерит. Или черепушку щупает.
– Подозреваешь, что они евреи? – он кивнул на фотографию, чувствуя смертельную скуку: неужели Ганс поддерживает эту псевдоантропологию, разработанную идеологами нацизма? Просто стыдно за него.
– Не, Гюнтер многих изучал. Сперва евреев и большевиков. Потом психов разных. И ваще, преступников.
– И какие выводы? – он едва сдержался, чтобы не зевнуть.
– Те чо, правда интересно? Айнс: преступниками рождаются. Цвай: у них дегеранетивные признаки…
– Какие-какие? – он переспросил насмешливо.
– Извращенцы они, короче. Не рюхают, где добро, где зло.
– Ну да, – он кивнул. – А Гюнтер, значит, рюхает. Гюнтер не извращенец? И в башке у него все нормально?
– Ты спросил – я ответил. Могу ваще не рассказывать. – Ганс уставился в окно. Хотел выдержать характер. Но его хватило ненадолго. – Этот, – ткнул пальцем в парня, стоявшего рядом со стариком. – Убийца. Главный ихний признак – каинова печать.
– Это… который брата своего?.. – на лбу того, на кого Ганс указывал пальцем, и вправду лежала тень.
– Ваще-то не Гюнтер это открыл. До него ищо. Инквизиторы.
– Да… – он протянул насмешливо. – Воистину уважаемый и солидный источник знаний о современном человеке. Алхимию еще приплети.
Тот очевидный факт, что парень, стоящий справа от старика, военный преступник, не требовал доказательств. Кому нужны мракобесные теории Гюнтера и его средневековых предшественников, если этот тип и так одет в фашистскую полевую форму?..
– Зря смеешься. Морда узкая. Взгляд холодный. Губы тонкие, мочки ушей маленькие…
Он смотрел против воли. Под его внимательным взглядом черты лица расплывались, словно неизвестный фашистский прихвостень, приспешник, которого советское правосудие вот-вот выведет на чистую воду, решил состариться, точнее прикинуться глубоким старцем, надеясь избежать сурового, но справедливого наказания. Поперек лба прорезывались глубокие морщины; такие же, только косые, тянулись от крыльев носа к углам крепко сомкнутого рта.
«Но это же… Нет! Не может быть…» – он, машинист сверхскоростного времени, рвал на себя рукоять тормоза. Но проклятое время, которому он от всего сердца доверился, не слушалось тормозов. Под днищем заскрежетало. Он зажмурился, предчувствуя неизбежность крушения: всего, на что полагался в жизни.
Но ничего страшного не случилось. Внезапно возникнув, скрежет так же внезапно смолк. Серебристое тело поезда как ни в чем не бывало летело вперед, будто пружина времени, распрямившись на одно короткое мгновение, снова сжалась до отказа, вернувшись обратно, в год 1941-й, самый канун войны, где не было никаких морщинистых старцев. Только молодые парни: один – отец его сестер, бывший муж матери. А другой…
– Дак ты знаешь его, што ли? – Ганс смотрел внимательно.
– Я? Понятия не имею, – он ответил, не сморгнув.
– Устал, посплю малёха, – Ганс направился было к выходу. Но он окликнул.
– Погоди. Говоришь, Геннадий Лукич… А сам-то ты его видел?
– Не-а, – Ганс мотнул подбородком. – Грю же, научник с им контачит. А чо?
– Да так, – он улыбнулся. – Спросить, что ли, нельзя?
Но стоило Гансу скрыться – улыбка съежилась и сползла. Его кинуло в жар. Слава богу, теперь, а не во время разговора. «Наблюдательный, гад. Мог заподозрить…»
Молодец. Пресек ихнюю провокацию. Своих не сдаем, а?
В том, что это вражеская провокация, сомневаться не приходилось. Злосчастная фотография, которую Ганс предъявил ему для опознания, – звено все той же цепи. «Грёбаной!» – на губах, точно клок пены, вспухло нем-русское словцо.
Если что и вызывало сомнение – роль старика. Положим, Ганс и старик работают в связке. На данном этапе спецоперации важно не это, а то, другое, от чего до сих пор сводило пальцы. Он глубоко задумался, сопоставляя детали. С трудом, но вспомнил имя, которое назвал старик: Гешка. И ранило его не куда-нибудь, к примеру, в живот. А в ногу… Геннадий Лукич хромает. «Ну мало ли бывших фронтовиков, кого ранило в ногу, кто тоже хромает!»
И тут, будто сошлись концы разорванного провода (не сошлись, это он, советский связист, закусил, зажал их передними зубами), ему открылся замысел врага. В сердцевине лежала клевета. Огульно обвинив шефа в пособничестве, враги надеялись сбить его с толку. Подвести к мысли, будто он откомандирован в Россию с одной-единственной целью: добыть фотографию, компрометирующую его шефа.
Вот теперь он наконец осознал. Всю степень их подлого коварства. Враги тщились доказать, будто его ум и талант ни при чем. Если следовать их извращенной логике, выходит, Геннадий Лукич его вел. Давно, с самого детства. Потому что знал их семейную историю, вычислил по своим каналам. И комнаты на улице Братьев Васильевых им вернули не потому, что у матери сохранились жировки. А по прямому распоряжению шефа. Значит, и китайский интернат – не случайно? Не потому, что он жил неподалеку. И университет… «Выходит, не будь этой фотографии, которую шеф якобы надеется заполучить, чтобы уничтожить свое преступное прошлое, службу в фашистской армии, – никуда бы меня не приняли? – он едва не рассмеялся. Ладно диссертация. Тут Геннадий Лукич и вправду оказал ему помощь. – Но всего остального я достиг сам. Собственным усердием и талантом». Все остальное – пустые наговоры…
Блеф! Чистый блеф! – внутренняя наружка, и та фыркнула.
«Слава богу, у меня хватило ума разобраться».
Ну разобрался. А делать-то чо? С фоткой. Может, в помойку ее? И концы в воду.
Явись такая простая мысль ему самому, так бы и сделал. Но не идти же у этого на поводу. «Успеется. Пусть пока полежит. Каши, небось, не просит… – он вернулся мыслью к захребетникам. – На козе меня думали объехать, спецоперацию разработали. Все учли. Спланировали. А все равно прокололись. Потому что сами – предатели. И судят всех по себе».
Он сладко потянулся, предвкушая счастливый миг. Когда выложит на стол злосчастную фотографию (которую надо забрать у Ганса). В качестве иллюстрации к своему рапорту по командировке. Вот Геннадий Лукич посмеется. И он вместе с ним.
За победу (один против разветвленной вражеской агентуры – это вам не фунт изюму) полагается выпить. Тем более осталась початая бутылка, таможня все равно не пропустит.
Он оглянулся на женщину, работавшую с бумагами: «Может, пригласить… – Но не решился: во-первых, наверняка откажется. А не дай бог – захребетница, еще и обхамит. – Или его, дурака этого… – вдруг представил, как Ганс, который ни о чем не догадывается, поднимает тост за дружбу, а он, как ни в чем не бывало, поддерживает. – Рюмок-то нет. Придется из бутылки. Сперва Ганс. А после него – я…» – у него зашлось сердце – в предвкушении, но не горечи шнапса, а той, сонной сладости…
«Тетка скоро уснет. Погасит свет…»
С ума, что ли, сошел?
Он зажал уши, но нахальный голосок не унимался.
Думаешь, шеф не узнает? Не надейся. Донесут. Еще и отфоткают.
«И пусть, – он думал отчаянно, как в ту ночь, когда било под ребрами: бух! – а следом: блям, блям, блям, – когда он мечтал стать свободным человеком. – Задание выполнено. Теперь я свободен. Хотят – пусть фотографируют. У меня найдется, чем ответить», – бросил взгляд на чемодан (будто в нем, как в мобильном сейфе, уже лежала фотография в рамке, которую Ганс пока что не отдал, но никуда не денется, отдаст) – взгляд короткий, но твердый. Не сулящий ничего хорошего. Любому, кто решится встать у него на пути.
Что значит – любому?
Сообразив, что и сам едва не прокололся, он прикусил нижнюю губу. «Вот оно, ложное чувство безопасности». На курсах предупреждали: пока задание не выполнено, разведчик держит все под контролем, включая собственные мысли. А потом расслабляется, отпускает вожжи. Пусть на мгновение. Но оно-то и может стать роковым.
К счастью, внутренняя наружка замолкла. Ушла в себя.
Ошибка, которой он решил воспользоваться. «Если что: иду за фотографией», – встал и направился в соседний вагон.
Но Ганса там не оказалось. Он двинулся дальше – вдруг пристроился где-нибудь и спит.
Некоторые пассажиры раскладывали полки. Другие опустошали свои коробочки, запивая кто шнапсом, кто пивом. А кто и просто чаем.
В вагоне-ресторане ужинала парочка. Официант, томившийся в углу, двинулся ему навстречу, наскоро напяливая гостеприимную улыбку.
– Мне – туда, – он указал на противоположный тамбур.
Улыбка лживого гостеприимства сменилась разочарованием. Официант встал в проходе, преграждая ему дорогу.
Он сделал попытку обойти:
– Там, – снова показал. – У меня друг. Фройнд.
– Сожалею, – официант нехорошо усмехнулся. – Кухня. Штренг ферботен. Ни-ни.
Он был вынужден подчиниться. Шел обратно, не глядя по сторонам: «Может, и к лучшему, – слабое утешение не спасало, наоборот – разжигало злость. – Я. Ради него. Пренебрег. Всем. А он. Трус! – бросал короткие яростные слова, точно щепки в костер. – Да гори оно синим огнем!» – будто отдал приказ. Как оказалось, запоздалый: всё грело и так – и в душе, и в теле – этих тайных складах горюче-смазочных материалов. Обнаруженных и подбитых с воздуха фашистскими штурмовиками. Уже не тлело, а именно заходилось в огненном дыму, готовясь вырваться наружу, хлестнуть красной тряпкой наотмашь – по всем этим креслам, лампам, ночным полкам и металлическим столикам: дикарская огненная пляска, способная не только пожрать беззащитно-мягкую обивку, но расплавить металл. Красные отблески жадно шарили по стеклам. Окна оплывали – тягуче и вязко, поддаваясь призыву преступной страсти…
Еще мгновение, и будет поздно.
Он свернул в туалет на всем ходу. Отчаянным усилием раздернул неподатливую молнию и, выпростав наружу рукав пожарного шланга, пустил струю, гасящую жар.
Прежде, чем выйти в тамбур, убедился, что снова держит себя в руках.
«Итак. – Решительное слово, точно пожарный кран, регулирующий напор воды, вернуло мысли в сухое рабочее русло: – Одно из двух: либо уже сошел, либо прячется в кухне. Одному ферботен, а другому – всегда пожалуйста. Эбнер договорился. Ради начальника не то что спрячут – мать родную продадут».
С той стороны, где сидела женщина, его неизвестная попутчица, слышалось тихое шуршание. Однако звуки, долетающие до его оперативно-чутких ушей, не походили на хруст фольги.
Надеясь удовлетворить любопытство, он выглянул в проход.
Женщина сидела у окна. Судя по темному рукаву на крайнем левом подлокотнике, уже не одна. «Времени зря не теряет. Ни стыда ни совести. Полку разложат, и давай…»
Но, вопреки его нехорошим подозрениям, мужчина встал. Пока ее незадачливый кавалер шел мимо, он успел подумать: «Где-то я его видел…»
Эта мысль не давала покоя: в работе разведчика не бывает мелочей.
Лишь разорвав прозрачный целлофановый пакет с постельным бельем (проводник предложил помощь, но он, бывалый вояжер, отказался), вспомнил: тот самый, юркий, хозяин огромных чемоданов, которые вез по платформе угрюмый желтый носильщик, распугавший черных пассажиров. И довольный своей цепкой безотказной памятью, лег.
Струя сбила большой огонь, но где-то в перекрытиях или под крышей, между высохшими до звона в ушах стропилами, оставался очаг тления: фотография, на которой они с Гансом – плечом к плечу. Да, в фашистской полевой форме. Но какая разница, что на них надето. Главное: наконец вдвоем.
Он вспомнил прежний приказ – замереть и не шевелиться, спасая хрупкий предвоенный мир. И усмехнулся. Теперь, когда они остались одни, некому отдавать безумные приказы, мешающие их долгожданному единению. Он повернул голову, намереваясь это сказать. Но оказалось, Ганс понимает его без слов. Пальцы Ганса подбирались к уху – по телу бежала мелкая дрожь: то, что сейчас должно случиться, сделает их властителями вселенной, свободными в своих желаниях и поступках, никому, даже самим себе, не отдающими в них отчета.
Ганс гладил, перебирал, разминал хлопчатую ткань воротника, видимо, искал в ее складках вшей, которых тоже не стоит бояться, – утром, когда поезд пересечет границу, он зароет гимнастерку в мерзлую советскую землю. А ближе к вечеру…
«Я растопчу… их всех… растопчу… – застонал, чувствуя, как пальцы Ганса, спускаясь все ниже, перебирают мелкие, неподатливые, еще не оплывшие в фронтовых вошебойках пуговицы. – Не бойся… Они не узнают…» – Ганс, ведущий военные действия на территории его тела, наступал все настойчивей. Раньше он и понятия не имел, до чего же сладостной бывает война.
Когда пришел черед ременной пряжки, последней линии обороны, он выгнул спину. Ганс дернул и, вытянув ремень, отбросил подальше – в траву. Точно ватным стеганым одеялом их накрыл жаркий одуряющий полог – шевеля чуткими ноздрями, он впитывал медвяный дух разнотравья. Вывернувшись юркой степной ящеркой, распластался животом. Ганс – как и подобает победителю в этой войне, где не бывает побежденных, – сверху. Он ощутил распухшую, напряженную сладость – тяжелый плод налитой соками земли. «Давай, давай…» Низ живота тянуло, свиваясь пронзительно.
Но Ганс отчего-то медлил. Он догадался: мучает меня, мучает.
Раздвинулся, открывая передовому отряду противника свою самую тайную прореху, ожидая, что плод, набухший на конце плодоножки, наконец ворвется в расположение его части, пронзит жестким танковым клином, – но пособничество, до которого он, поддавшись безудержной страсти, докатился, ни к чему не привело. К его жестокому разочарованию, яростный напор противника ни с того ни с сего опал. Ноздри поймали тонкий гнилостный запах падалицы. Он понял, что напугало Ганса: вонь.
«Это снаружи. Из окон. Проводники забыли закрыть. Когда едешь по России, всегда несет трупами… Ты сам говорил, интеллигенция… там, гниет…»
Танковая бригада противника остановилась.
«Опасается. Ждет провокации с моей стороны», – он выпростал правую руку и, заведя за спину, поймал опавший складчатый плод.
– Нет-нет, не надо бояться, – гладил нежно и осторожно. – Все будет хорошо, ты напишешь новую историю, твой учитель-еврей будет тобой гордиться. Но одному тебе не справиться. Без меня и моего пестуна. Тебя не пустят в архивы. А я его попрошу. Шефу ничего не стоит, уж я-то знаю, поверь, – тут ему почудилось, будто сморщенный плод начал оживать. – Это я ему вру, этому, который внутри. А тебе все расскажу, открою правду. Там, в наших бараках… тоже комбижир… – Под его рукой медленно, но неотступно наливались соком Гансовы узелки и жилки, набухая под складками кожи. – На фотографии – это он, Геннадий Лукич. Мы ему предъявим. Сперва начнет отрицать, дескать, это не они. Это – мы. Ты и я. Но мы на это ответим: может, и так, но первыми начали вы. Оделись в фашистскую форму. Он умный, сразу поймет. Деваться ему некуда. Придется с нами считаться. Тем более у него останется копия. Подлинник-то мы спрячем, зароем в землю. А ему дадим гарантию: пока будет работать на нас, никто не узнает… Ни одна живая душа… Вместе мы сила, мы всегда будем вместе… Сперва я тебе помогу, – он поелозил, направляя передовую часть Ганса в нужное русло, веря, что Ганс все поймет и откликнется, – а потом… ты сам… сам…
От тела, давящего на него сверху, исходил холод. Хуже того, жаркий южный плод, прозябавший в его руке, в который он желал и надеялся впиться, обратился в колючую мерзлую шишку – вопьешься, зубы обломаешь. К тому же пустую. Если и были семена, их выклевали таежные птицы. Жадные твари. Клесты. Он разжал пальцы и обернулся – сколько позволили хрустнувшие позвонки. «А вдруг умер? Да жив он, жив…»
Значит, не о чем раздумывать: со сне, наяву – какая, к черту, разница. Если с самого детства ему известна первая обязанность советского солдата: взвалить на себя и вынести из окружения. Но Ганс, будто отроду не читал книг о раненых в боях товарищах, смотрел в другую сторону. Он понял: «Просит пристрелить».
– Я сильный. Не сомневайся, я тебя вынесу. Взгляд Ганса терялся в густой траве. В травяных зарослях что-то извивалось – длинное и ужасно верткое. «Это же мой ремень». Который Ганс, допуская очередную тактическую ошибку, принял за змею. Он хотел объяснить, исправить – однако темная полоска ожившей кожи вдруг поднялась на хвост и, покачавшись из стороны в сторону, словно выбирая постоянное надежное место, замерла косым деревянным колышком…
– Ауфштейн! Подъем, подъем! – голос, раздавшийся над ухом, казалось, шел из-под земли.
И в то же мгновение могильный колышек исчез – не то сгнил, не то канул в жухлой траве. Не осталось даже холмика. Одна голая проплешина.
Над его одинокой ночной полкой, точно лунный диск, уходящий за горизонт, склонялось лицо проводника.
– Госграница. Штатсгренце. Через час, – диск объявил строгим официальным тоном.
Он чувствовал себя раздавленным. Но не как передовое соединение, павшее под вражеским ударом. А как какое-нибудь штатское тело, по которому, не заметив в предрассветной тьме, проехалось колесо военного грузовика.
Ощущая боль во всех поверженных членах, через силу, но все-таки поднялся. Действуя автоматически, оделся, сунул в ящик постельное белье, сложил разложенную на ночь полку и, нашарив умывальные принадлежности, направился в туалет.
Там стоял холод. Такой же мертвенно ледяной лилась вода. Будто ее подают не из специального резервуара, скрытого во внутренних полостях вагона, а непосредственно из скважины, которую пробурили в вечной сибирской мерзлоте. Стуча зубами, завершил туалет и двинулся обратно на свое законное место.
Но ему преградили дорогу.
– Эй! Ты чо, едрен батон! Не узнаешь? Даже простое движение глазными яблоками казалось непосильным.
– Ева… ты… – вчера он бы изумился. Но теперь только зябко повел плечами.
– Вечером-то. Жду. Думаю, сам признается.
– Так это ты… там, с бумагами?
– Не там, а тут, – Ева раскрыла кожаную папку, в каких захребетники носят важные документы, и выложила бумаги на стол. – Кроче, давай. Подписывай.
– Я? – он смотрел слепыми, ничего не различающими глазами, понимая: вот оно. Началось.
Не бумаги. Договор о сотрудничестве с российскими спецслужбами.
На этот раз, надо отдать им должное, враги застали его врасплох.
Подписывать, понятно, нельзя. Даже с Эбнером не подписывал: обсудили – и точка. «А если в туалет… В поездах двери прочные. Ей не выломать. – Но, глянув по сторонам, понял: – Поздно».
В правом тамбуре маячил проводник. В левом – тот самый юркий мужичок, владелец чемоданов, с которым она сговаривалась прошлым вечером.
На ходу выкинут. Это уж как пить дать, – его внутренний продрал наконец глаза и теперь ежился, косясь на табло: 180 км/час – бегущая строка, в меру своих возможностей пособничала оккупантам.
Чтобы выиграть время – а вдруг уже скоро станция? – он глянул в окно.
Там, скатываясь по шершавой, как крупная терка, железнодорожной насыпи, расшибалось в кровь его тело. Пока еще живое, беззащитное. Он вспомнил о мерзлых трупах, о которых рассказывал Ганс. Теперь он понял, к чему были эти пустые россказни: Ганс предупредил, что из этой переделки ему не выйти живым.
«А вдруг я все-таки выживу… И дальше – что?» Километры и километры подконтрольной врагам территории. Даже если удастся выйти на дорогу, все нем-русские дороги перерезаны фашистской полицией – как вены, по которым полоснули бритвой. Он представил, как идет по бездорожью, месяц за месяцем, стиснув выбитые об землю зубы, – лишь бы дойти к своим.
«Дойду. Я обязан дойти». Тут сомнений не возникало. Хотя бы для того, чтобы все разъяснить, раскрыть вражеские козни. Чтобы никто из наших не подумал, будто он остался, перебежал на российскую сторону. В свете этих соображений категорический отказ от сотрудничества – неоправданный риск. Эту дорогу в тысячу ли, которая ему выпала, следует начать прямо сейчас.
Как и всякая другая, она начинается с первого шага. Впрочем, переводы всегда приблизительны. Цепкой, напряженной памятью он вернулся к языку оригинала: 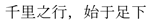 – и, подтянув поближе бумагу, поставил свою подпись, предпослав этому действию глубокий мысленный поклон великому Мо-Цзы.
– и, подтянув поближе бумагу, поставил свою подпись, предпослав этому действию глубокий мысленный поклон великому Мо-Цзы.
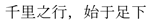 – и, подтянув поближе бумагу, поставил свою подпись, предпослав этому действию глубокий мысленный поклон великому Мо-Цзы.
– и, подтянув поближе бумагу, поставил свою подпись, предпослав этому действию глубокий мысленный поклон великому Мо-Цзы.Самое удивительное, китайский философ ему ответил: брызнул из-за туч ярким рассветным лучом. Будто отправил короткую шифровку. В отсутствие одноразового блокнота он прочел ее так: «На всякую изощренную провокацию врага великий человек отвечает еще более изощренной провокацией», – и в очередной раз восхитился велеречивой тонкостью своего любимого китайского языка, который трудно, почти невозможно перевести на русский без ущерба для подлинного смысла.
Да чо невозможно-то! На нашем все возможно, – где-то в мозжечке раздался довольный голос. – На хитрую жопу и хер с винтом.
Он отмахнулся, не желая вступать в полемику с необразованным вульгарным толкователем, какую бы роль в текущей спецоперации тот ни исполнял.
– Чо, не проснулся ищо? В трех экземплярах. Кроче, тут и тут, – Ева тыкала пальцем в пустые графы.
«Неужели Ганс тоже три раза подписывал?.. Бюрократы, фашистская канцелярия. Нашим и одной подписи хватает», – он взял шариковую ручку. Холодную и скользкую будто ледышка – того и гляди растает. Но растаяла не ручка, а глаза. Ожили, заскользив по строкам: не обязательство сотрудничать с их спецслужбами, а какой-то список.
– Проверять бушь? Ну хошь – проверяй. – Ева поджала губы. – Зибен позиций. Натуральные. По цене малёха приврали. Для ваших. Госпошлина и всякое такое.
– Что значит – натуральные? – он глянул на сверток с Любиной искусственной шубой.
– Чо, не предупредили? Не, ну козлы ваще! Как рус-марки получать – тут они первые, а как дело делать… Кроче, ввозишь в СССР. Типа под своим именем. Дальше я не в курсе. Приедешь, звони Лукичу.
– Ка…како…му, – он выдохнул, одолев препятствие в три приема: как учили на уроках начальной военной подготовки, – Лукичу?
– Не, ну точно с катушек съехал. У тя чо, Лукичей – как грязи? Геннадию. Евонное поручение. Купить и погрузить.
От бляди, а! Мало им твоей подписи. Ищо и впаривают. Типа ты ваще не агент. И проку с тебя никакого. Кроме как шубы на тя оформить. А главно, и купить не доверили.
Его растерянность Ева расшифровала по-своему:
– Не боись. Не впервой. У Лукича таможня ваша схвачена. Кроче, три чумадана. В багажном отделении, – она вынула маленькие карточки с номерами. – Бирки. Подписывай и получай.
Подписав, он решил: «Теперь моя очередь. Делать следующий ход».
– А ты – до Ленинграда? – поинтересовался небрежно.
– Не, – она тряхнула крашеной челкой. – Урал тока перееду. В гастхаусе вашем перекантуюсь. Тараканов покормлю – и назад.
– А Ганс? – Раз эта банда заодно, должна знать.
– Ганс? Он же синий… – она вдруг осеклась.
– Ну синий. А какая разница? – он спросил строго, глаза в глаза.
– Да не, – она дернула плечиком. – Чо ему у вас? Ни жратвы, ни шмоток. И ваще. Это ваши перебегают.
– А ваши, – он обиделся, – нет?
– Ну… тоже случается.
– Желтые?
– Им-то с какого перепугу? Синие. Книжек ваших начитаются. Дескать, великая культура. Ну великая – и чо?
– И… получается? – он спросил осторожно.
– Первое время получалось. Теперь – не. Обратно выдают. Ну, в смысле, живых. А уж если… – Ева развела руками. – Сам понимашь.
В том-то и дело, что он ни черта не понимал.
– Ты хочешь сказать… могут пристрелить? – даже попривыкнув к местным нравам и обычаям, в это верилось с трудом.
– Зачем? – Ева удивилась. – Кнопка. Эти, которые бегут… Кроче, в вагон-ресторан. Там под днищем две емкости. Одна для воды. Другая пустая. В нее и залазят.
– Но их же вытащить можно.
– Можно, – Ева пожала плечами. – А потом чо? Головняк. А так – нажал. Днище раскрывается… – она сделала страшные глаза, будто рассказывала сказку. – Этот, который залег, – хлоп! Был и нету.
– Прости, но это бред! Сама посуди: если ты знаешь, другие-то тоже знают.
– Мало ли, чо я знаю… Я – не другие. Дак ты же… – она наморщила лоб. – Когда в Россию ехали. Пристал ищо. Гляди, мол, мешок! А чо на него глядеть! Гляди не гляди, он уж там, – указала пальцем в небо.
У него перехватило дыхание, будто он снова видел останки человека, который катится по насыпи вниз, по белому склону.
– Да ладно! Брось! – мотнул головой, отгоняя неприятное видение. – Сама же сказала: мусор. Обрезки.
– Я? – она вскинула брови. – Не помню. «Но я-то отлично помню». То, что он – по дороге в Россию – принял за свежие человеческие останки, выпало не здесь, где орудуют фашисты, от которых всего можно ожидать, – а там, за Хребтом, на нашей советской стороне.
«Вот сволочи! Нем-русская пропаганда. Это ж надо, какие слухи про нас распускают!»
Клевещут. – Внутренняя наружка взяла строгий солидный тон.
«Ну что ж, – он усмехнулся тонко. – Пусть думают, что я им, тварям, поверил».
Мандариновая тонкость обращения предназначалась не этому, внутреннему – свой, что с ним церемониться! – а новому великому собеседнику: даже в отсутствие одноразового блокнота между ними установилась прямая связь. Выражая свое полное одобрение, великий Мо-Цзы, небесное воплощение Моисея Цзиновича (от которого он отказался, но не предал), кивал, прикрывая ладошками сморщенный рот. Однако для него смысл шифровки был очевиден: всякой неправде великий человек противопоставляет достойное молчание. В переводе с древнекитайского: хрен с ними, пускай клевещут, на чужой роток не накинешь платок.
– Я, эта, в обменник почапала, – Ева встала, по-кошачьи выгнув спину, будто собралась потянуться. – У тя-то остались?
– Какие утята? – он переспросил, не разобрав на слух.
– Рус-марки, грю. Остались – не остались. Ей знать незачем. Не ее это дело.
Тем более явился Ганс.
Он ждал, что Ева проявит элементарную вежливость. Уйдет. Оставит их с Гансом наедине. При ней прощаться не хотелось. А тем более передавать деньги.
Даже поторопил:
– Граница вот-вот. Обменник закроют.
– На обратном поменяю, – Ева протянула руку. Он понял так: просит вернуть документы. Видно, одумались. Сообразили, с кем имеют дело.
– Деньги, грю, давай. Эбнер приказал. «И это знает», – он немного расстроился, но разведчик на то и разведчик, чтобы сохранять лицо.
– Не приказал, а попросил. Передать через Ганса.
– Да-а? – она протянула удивленно. – Ну как знашь. Хотя я на твоем бы месте…
Ганс, до этого момента хранивший молчание, открыл наконец рот.
– Ты эта… Вопщем… Лучше через нее.
– Ладно, – он достал конверт. – Мне-то какая разница.
Взяла и ушла. И расписки не оставила. «Надо было сказать, потребовать…» – он смотрел на фотографию в рамке, которую протягивал ему Ганс.
– Вопщем, на. Передай. А то мало ли што… – Ганс глотал торопливые слова. – И еще… Так, на всякий случай. Штоб знал. Не братья. Братьев не выбирают. А мы с тобой… Сами. Я тебя, а ты – меня. Это ить глубже, правда?
«Да-да, я согласен, я с тобой согласен», – если бы не внутренняя наружка, навострившая глаза и уши, он бы кивнул.
– Только бы получилось… Тьфу-тьфу-тьфу! – Ганс постучал костяшками по серебристому пластику и, втянув голову в плечи, двинулся в сторону вагона-ресторана.
«Ну и пусть идет. Куда хочет, – он думал обиженно. – Сам сказал: я ему не брат».
Но язык его большого любящего сердца раскачивался в пустой емкости грудного колокола: бух! – пока ни садануло под ребра, и опять, и еще, и снова, гулко и страшно: бух! – разбухая под грудной клеткой, на которую всей своей бессмысленной и беспощадной тяжестью наезжал, навалился поезд, наматывая на воняющие тавотом шпалы кишки перебежчика, и сейчас же, ему в ответ, завизжали рельсы: блядь! блядь! блядь! – зашлись на самой высокой ноте отчаянным зазвонным подголоском.
– Стой! Да стой же ты! Куда! – он выкрикнул в Гансову спину, будто рванул стоп-кран на себя.
Ганс обернулся.
Из стены, где только что был стоп-кран, торчала красная кнопка.
Он хотел сказать: не надо, не делай этого, а вдруг она, Ева, сказала правду, – но снова наваливалось это каменное, похожее на сон. Не тот, в котором они с Гансом ближе и глубже. А другой, одинокий. В котором он, разведчик, несущий госслужбу, не имеет права вмешиваться в течение событий.
Особенно теперь, когда его внутренний бдит.
«Плевать я на него хотел. Я – свободный человек…»
– Скажи. Только честно… Признайся. Ты – до-дик?
– Да ты чо? – Ганс покрутил пальцем у виска. – Крыша, што ли, поехала?!
Стало больно: «Зачем он со мной – так? Я же всё ему простил. И клевету на Ленинград, и то, что он двойной агент, завербованный фашистскими спецслужбами».
– А бабушка твоя. Как тебя называла?
– Ганя, – Ганс моргнул. Он смотрел вперед, в лживую пустоту, в которой нет ни друзей, ни братьев, чувствуя, как глаза подергиваются стальной поволокой. Хотел сказать: «Я буду называть тебя Иоганн», – но стеклянные створки уже сомкнулись, сглотнув высокую тощую фигуру, и превратились в зеркало. В котором он видел себя, свободного человека, оскорбленного беззастенчивым враньем. «Говоришь, внутри меня охранник? – он усмехнулся вслед ушедшему Иоганну. – Выходит, это я сбежал. А ты не-ет…»
Убогая реальность распадалась на отдельные части. И каждая не несла в себе свойств единого целого.
Вот поезд, заблаговременно сбросив безумную скорость, поравнялся с платформой; вот, безо всякой связи с происходящим, поплыли черные овчинные тулупы со шмайсерами, – но не было никаких солдат; вот распахнулась дверь серого приземистого здания; вот пустые долгополые шинели, запахивая сами себя, направились к составу.
На мгновение, будто коротким промельком, проступили их лица – заколыхались над воротниками в плотном, точно говяжий студень, приграничном воздухе: эту последнюю провокацию поверженной и посрамленной реальности он преодолел с легкостью, окончательно переместившись в разряд сторонних наблюдателей, которые, ни в чем не принимая участия, внимательно и без устали следят.
Так и он. Выполняя долг перед своим народом, запоминал все без исключения детали: сдвоенные серебристые молнии на уголках, металлическая тесьма – каймой по воротнику. Черный кожаный рукав подносит электрическую тяпку к его раскрытому на лицевой странице паспорту, откладывает в сторону, равнодушно шелестит документами, которые кто-то оставил на столе.
Загодя запасшись терпением, он ждал, что рука пограничника предастся ловле мух, но ничуть не бывало. Видно, оценив, с кем имеет дело (его солнцеликий вожатый оказал в этом посильное содействие, коротко блеснув из-за туч) – кожаный рукав взмыл, распрямляясь в торжественном фашистском приветствии.
Исключительно из вежливости он вяло махнул в ответ.
Долгополые шинели скрылись в соседнем вагоне.
От непрестанного наблюдения его тело затекло. Но служба есть служба. Он смотрел в окно. Зная, что мимо его окна, теперь уже вскорости, должны проследовать безголовые пограничники – обратно в серое помещение. Но они отчего-то задерживались. Чтобы как-нибудь скоротать неподконтрольное ему нем-русское время, он перевел взгляд, пытаясь дотянуться до гигантской фигуры фашистского солдата, – по пути в Россию так и не удалось рассмотреть.
Как назло, слепило солнце. Он догадался: Мо-Цзы, его великий собеседник, настоятельно не советует ему возвращаться в неверную, иллюзорную маяту жизни, состоящую из фактов, в высшей степени сомнительных: сегодня торчат, точно кнопка из стены (или тот же Иоганн – меж двумя стеклянными створками), а завтра – стоит нашей советской армии перейти в наступление – развалятся на отдельные части, чтобы, раскинувшись поперек Хребта поверженными сапогами, тыкать в небо кусками лживой, насквозь прогнившей арматуры: вот тебе и каменный идол! Колосс на глиняных ногах.
Все-таки он дождался: шинели шли. В прошлый раз, когда таможенный конвой вел перебежчика, тот парень терялся между их высоких фигур. И углядел-то в последний миг, когда крайние офицеры расступились. Нынче все было по-иному. Безголовые шинели, подметая длинными полами платформу (ни дать ни взять ожившие манекены с витрины мола), шагали группой, спаянной единым приказом. Среди них, точнее не среди, а выше – уж своим-то глазам он верил, – торчала живая голова.
«Значит, передумал». Не полез под днище вагона. Отказался от своего намерения. Оценив неоправданные бессмысленные риски, сдался местным властям. Теперь Иоганну грозило разве что «намерение» – по советским законам максимум лет пять, а сколько по нем-русским? В любом случае меньше, чем за настоящее «незаконное пересечение границы».
Теперь он снова ждал: зная номер его вагона, Иоганн должен оглянуться, поблагодарить его взглядом: «Как – за что? Он же мне соврал. Но я не держу на него зла».
Высоко неся буйную голову, Иоганн скрылся в серых дверях.
«Да что с них взять! – мельком, словно подавая милостыню убогой реальности, он вспомнил здешнюю сестру: вернула отощавший конверт с рус-марками – нет чтобы отблагодарить по-настоящему. Поделиться стариковским наследством. – Тогда бы не двадцать. А все шестьдесят… Эбнер твердо обещал».
Ишь, губу раскатал. Хитер, брат!
Замечание неприятно покоробило: этот, сидящий в мозжечке, посмел назвать его братом.
Т о – вранье, фашистская провокация! А как до денежек: чистая правда. Ты уж, эта. Определись.
Китайская мудрость гласит: даже самый ограниченный чиновник, ляпнув несусветную глупость, может дать верную подсказку умному властителю. В переводе на русский: дурак врет-врет, да и правду соврет.
«Да, – он признал милостиво. – Пора определяться».
Это в каких же, интересно, масштабах? – сидящий в мозжечке переспросил неожиданно пытливо.
Топтун, рассуждающий о высоких материях – оксюморон.
«Ты бы уж, – снисходя к природной убогости вопрошающего, он заговорил ворчливо, – ну, право слово! Молчи – за умного сойдешь. Твое дело маленькое, топчись себе помаленьку. Может, и выслужишься. Переведут, поставят на внешнюю наружку. Какая-никакая, а карьера».
Ах, вон оно как! Меня, значит, во внешнюю. А тебя – кем? Великим мандарином? Типа царь, бог и воинский начальник. Ха!
Вот и мечи после этого интеллектуальный бисер!
«Да что с ним вообще разговаривать. Я – интеллигентный человек, а этот кто? Фельдфебель».
Осознавая непреходящую важность текущего момента, он смотрел в небо, где пребывал единственный достойный собеседник, кто в состоянии разделить с ним ответственность за судьбы прогрессивного человечества – в преддверии последней и решительной схватки с оголтелым фашизмом: не на жизнь, а на смерть.
Туда, в эти трудные, но одновременно прекрасные времена, и трогался сверхскоростной поезд – главное техническое достижение современности. Эйнштейн, в каком-то смысле его предшественник, сказал бы: сверхзвуковой.
Но на этом, начальном, этапе движения скорость казалась обыкновенной.
Сидя в эргономичном кресле, сконструированном нем-русскими инженерами, он провожал отсутствующим взглядом невзрачную серую постройку, черные тулупы оцепления, жилой дом с башенкой, напоминающей сторожевую вышку, а может статься, и средневековую мельницу; заполошную немецкую овчарку с надорванным ухом (чьи предки следили за стадами, чтобы ни одна овца не отбилась: шаг вправо, шаг влево – песья охрана впивается без предупреждения). Ишь, кинулась вдогонку за набирающим ход составом. Боится опоздать.
Легко и бесшумно преодолевая силу трения сопротивляющегося пока еще времени, колеса отрезали последний ломоть степи, коричневый, точно сухая корка. Раньше степь виделась ему бескрайней. Но на поверку, как говорится, въяве и вживе, оказалась маленькой. Точно хлебный паек. Вот-вот скукожится, уткнется в предгорья Урала, чтобы рассыпаться мелким крошевом, расшибаясь со всего маху о подножье Хребта.
Но пока еще длилась степь.
Сохраняя величавое спокойствие духа, он старался не отвлекаться на частности, передоверив их своей внутренней наружке, чье дело – не думать, а фиксировать: вот заскрежетало под днищем, будто что-то раздалось во всю ширь… Или ниже, в глубинах Вселенной? Но не успел подумать, как все уже смолкло, опало хожалым тестом, так и не ставши хлебом.
Из этих хлебных пайковых мыслей проклюнулось чувство голода. Даже желудок подвело – так хотелось чего-нибудь сжевать, размять на зубах: хотя бы пустую корку, не говоря о вкусной мясной похлебке. Но разве догадаются, принесут?
«Мяса очень хочется», – пожаловался, рассчитывая на внутреннее сочувствие.
Мало ли чо тебе хочется! Терпи. Ты ж советский человек. Видали мы и не такие трудности! Временные.
«Пусть не куском». В отличие от захребетников, он не избалован – ему хватит и обрезков.
Не ты один. Все не избалованы. Всем хватит и обрезков, – внутренняя наружка заворчала, обидевшись за всех советских людей. – Хрен мы от них дождемся! Завернут и выбросят. Типа, мусорный мешок.
Он хотел сказать: не дождемся и не надо. Скоро граница, там и поедим. Но невольно отвлекся. По вагону, торопясь и прихрамывая на левую ногу, бежал нем-русский проводник.
Он вспомнил другого проводника: тогда, по дороге в Россию, когда на рельсы упал мешок с красными прорехами, который он принял за останки человека. Тот проводник не хромал, но тоже торопился. Ева сказала: бежит к машинисту.
«А этот-то что? Вот дурак старый». Ни с того ни с сего рванул докладываться. По инструкции машинист обязан вызвать дрезину – но ведь не абы зачем. А в особых, экстренных случаях. Если кто-то упал на рельсы. Кому там падать, если Иоганна сняли с поезда?
Провожая глазами синюю форму колченогого, он думал: как же хорошо возвращаться назад. Домой. В СССР. «Не потому, что наедимся вволю. – В отличие от своего внутреннего спарринг-партнера, он – не какой-нибудь циник, не голый материалист. – А под защиту той самой силы, которая – как там говорил Вернер? – вечно хочет добра…» – конец цитаты размылся, как фигура на старой еврейской фотографии.
А впрочем, он думал, какая разница, чего эта сила хочет. «Главное, она есть. И я – ее неотъемлемая часть…»
Из России – как со дна обезумевшей жизни, изо всех сил оттолкнувшись обеими ногами: когда водолаз всплывает из глубоководной впадины (над скафандром – тысячетонная колонна воды, массивная, куда там ангельскому столпу), он испытывает перегрузки, сопоставимые с космическими. Шеф предупреждал: может поехать крыша. Но его-то крыша на месте. Если что ему и грозит – кессонная болезнь. Симптомы могут проявиться немедленно: недомогание, усталость, головная боль. Или боль в суставах, спине, мышцах. Или пятнистость кожного покрова. Зуд. Сыпь. Самый тяжкий симптом – удушье, которое служит редким, но грозным предупреждением: все может закончиться развитием сосудистого коллапса. Или даже…
Внимательно прислушавшись к своему организму, он не нашел ничего похожего на смерть. Разве что шум в ушах – но, скорей всего, так постукивают колеса, легко, едва уловимо…
На этот раз его отвлекла муха. Жужжала, перелетая со стены на спинку кресла, с кресла на багажную полку, с полки на потолок. «Ишь, не сидится ей!» Он свернул шубные документы в трубочку и, дождавшись, пока мохнатое тельце опустится на стол (сложив переливчатые синие крылышки, навозная муха сучила задними лапками, перетирала плотный воздух в порошок) – примерился и уже было прихлопнул ее одним метким ударом. Но отчего-то сжалился: «Черт с тобой! Летай».
Неожиданное великодушие, которое он проявил, пощадив беспечное, а в сущности, попросту глупое насекомое, будто примирило его с действительностью. Даже заметил, что за окном опять темно.
Только что, буквально минуту назад, там тянулись, выбиваясь из последних сил, предгорья. И вот уже сплошные стены туннеля. Точно замысловатая разноцветная паутина, их облепляли силовые кабели и провода. Гудели на разные голоса.
Нервно потирая задние лапки, муха прислушивалась к напряженному гуду. Таращила сетчатые глаза.
Но ему было не до мухи. Словно во всю ширину экрана перед ним явилось гранитное лицо. Нечеловечески пустые глаза, лишенные зрачка и радужной оболочки: мертвенный взгляд снайпера, наведенный на живую мишень. Серые, широко поставленные ноздри раскрошились по контурам – точно жерла каменных пещер. Ему даже помстилось, будто внутри копошатся люди. Суетятся, пытаясь высечь огонь. Казалось, еще мгновение, и захребетный Солдат шарахнет из обеих ноздрей.
Он задрожал противной мелкой дрожью – неужели эти слабые искры, порожденные первобытно-каменными кресалами, способны запалить бикфордов шнур грядущей войны.
Но огромное лицо начало уменьшаться, отъезжая назад. Каменные черты микшировались, становясь едва различимыми. Только теперь, когда на фоне Уральских гор вырос обоюдоострый меч, вознесся до небес неодолимо-властной вертикалью, он осознал свою ошибку: не фашистский идол грядущей войны, цинично обращенный к Востоку.
«Это же наш Солдат».
Точно серое солнце, встающее из-за отрогов Урала, ему навстречу подымалась бессонная каменная фигура, нерушимо стерегущая наши западные рубежи. Как и положено символу непобедимости и мощи, повергающей в прах все зло, скопившееся в человечестве, Советский Солдат держал наизготовку орудие защиты от посягательств внешних врагов.
Достали со своими мультиками! Нет бы интересное показать. А? Бриллиантовую руку. Типа аристократы и дегенераты! – его внутренний захохотал, предвкушая непреходящее наслаждение от просмотра комедии, любимой всем советским народом.
В иных обстоятельствах он и сам бы охотно присоединился, но теперь, чуя недоброе, дал строгий окорот:
«Заткнись. Ты! Сам гопник, дегенерат!»
Вот щас обидел, – тот буркнул, но ржать перестал. – Куда уж нам! Супротив вас, аристократов.
Между тем сорокаметровая статуя оторвала от земли неподъемный гранитный сапожище (будто дерево с комлем) – и, ломая складки горных пород, легко и без особых усилий, словно складчатые полы своей шинели, шагнула через Хребет. С Запада, ей навстречу, высоко задрав каменное голенище, выступил российский враг – со шмайсером поперек живота.
Памятуя, чье тут все-таки авторство, он ждал короткой автоматной очереди: Тра-та-та-та-та-та, – от которой грозный советский символ огрузнет, выронит из бессонных рук обоюдоострый меч, орудие защиты от вероломного нападения, и с грохотом распадется на части, куски, обломки, растопырится ржавой арматурой. Прямо у него на глазах.
«А вдруг… – вся его внутренняя дрожала безумной надеждой. – А вдруг все-таки не спасует, даст достойный отпор…»
Былинное орудие хрустнуло, точно ножка кузнечика. Он содрогнулся, прозревая то, что неминуемо за этим последует: крах в самом прямом и окончательном смысле, однако – о чудо! – каменные пальцы советского колосса уже сжимали гранитный макет калашникова (магазин, полностью снаряженный) – надежнейший в мире автомат.
Боевые шансы противников сравнялись. Но паче его чаяния, гигантские идолы не спешили вступать в последний и решительный бой.
Высоко задрав сапоги, будто зависнув над горным кряжем (выше плоских вершин, забеленных простоквашей густых русских метелей), фигуры медлили, слепо озираясь, будто выбирали надежное место – куда бы потверже стать. Наконец, обнаружив каждый для себя глубокую удобную пропасть – одновременно, на ать-два! – точно по единому приказу из Центра: уперлись в землю сапогами, замерев поперек Хребта.
Зажатый между двух пар каменных голенищ, Урал лежал под небом, не в силах шевельнуть горными складками: так тяжко и недвижно они стояли, оборотясь друг к другу, но не высеченными из жесткой породы подбородками, а широкими спинами: как солдаты-десантники, попавшие во вражеское окружение. Спина к спине. Российский контролирует Север – в направлении Арктики; советский держит под прицелом Юг – до самой Антарктиды.
Ноги на ширине плеч. Взведенные автоматы – от живота.
Это на што они, суки, намекают. Мы, што ли, с ними заодно?
Он не слушал. Смотрел на муху. Теперь она устроилась на багажной полке – аккурат на свертке с его зимним пальто.
Огромная, под стать гранитным колоссам, как на плакате из детской поликлиники: «Мухи – разносчицы заразы!»
Пуча бесстыжие сетчатые глазенапы, муха потирала передними лапами. С таким наглым видом, словно что-то замышляла.
Теперь он наконец догадался. Лживый навет под видом мультфильма: «Вот, оказывается, чье тут грязное дело», – ее волосатых помойных лап.
Мух вербуют, падлы. Та к пойдет, до вшей докатятся.
Ярость, вскипавшая в пустом желудке, подпирала горло изнутри. Не теряя времени даром, он взобрался на кресло обеими ногами. Воспользовавшись фактором неожиданности (муха ведь как думала – не полезет, будет ждать, пока я сама спущусь пониже), коротко и прицельно шарахнул полым тубусом, по-солдатски выдохнув: «Ха!» – плотный ком ярости выбило, точно пробку из «Советского шампанского».
Синяя тушка прикипела к оберточной бумаге: неаппетитные мушиные внутренности пополам с кровью. Прицелившись, на этот раз лениво (ни дать ни взять – десантник на зачищенной территории: походя пристреливший зазевавшуюся курицу, – а не суетись, падла, не лезь под ноги), он сбил ее наземь одним брезгливым щелчком. На свертке осталось красновато-коричневое пятно.
Ништяк. Высохнет – пожелтеет, – судя по ернической интонации, внутренний недооценил масштабов его сокрушительной победы: дескать, подумаешь, муха.
Он хотел ответить: не муха. А захребетный агент. Такие-то – самые опасные: плодятся в несметном количестве, разносят заразу.
Но передумал: недоучка, все равно не поймет. Небось, и слыхом не слыхал о кампании «четырех вредителей», разработанной Компартией дружественного нам Китая. Крысы, комары, мухи, воробьи. Из них из всех воробей – самое слабое звено, воробью не продержаться в воздухе дольше четверти часа. Если громко кричать, бить в тазы и барабаны, гудеть в гонги, размахивать шестами и тряпками – падает замертво. Эти фотографии он запомнил с детства, когда, запершись в коммунальной кладовке, листал журнал «Огонек»: горы мертвых воробьев. Через год заметно увеличились урожаи риса, что оказало существенное влияние на рост китайской экономики.
А потом-то? Даже у нас писали. Гусеницы всякие расплодились и прочая тупая саранча. Все как есть обожрали, подчистую.
Он отмахнулся от горе-критика: на то и политические первопроходцы, чтобы время от времени допускать ошибки. Разве он этого не учел, переключившись на мух? Тут существенно другое: мух истребить труднее.
Это – да. Мухи – не воробьи. Куды пожелают, туды и летят. И в воздухе держатся. Плевать они хотели на барабаны. А тем более на тазы.
– Однако есть и преимущества, – он подмигнул своей внутренней наружке. – И стараться не надо. Мухи сами. Мрут как мухи.
Пошутил, надеясь, что внутренний оценит хорошую шутку. Но тот сощурился: Типа как этот? Ганс.
– И-о-ганн. Этими минутами страха (а может, смертного ужаса), проведенными в пустой емкости под днищем: от того ненадежного момента, когда тело замирает в вытянутом положении, до другого, когда рука фашистского офицера выволокла его наружу, – человек, чье имя он отчеканил, полностью искупил свои прежние ошибки.
Дак он чо, жив? А я думал – всё. Был, как грится, и нету.
– Что значит – нету! – даже озлился. – Отсидит и выйдет. Не помрет.
На мгновение представив, как Иоганн, томясь в фашистской одиночной камере, мечтает об СССР, он порадовался за бывшего друга. То, что Иоганн имеет самые смутные представления о настоящей советской жизни, станет для него поддержкой. Подспорьем.
Дак его што, арестова-али? – внутренний голос протянул недоверчиво.
– Ну да. Ты же сам видел. Я? Где?
– Как – где? На платформе. – Он чувствовал смертную тоску. Приходится объяснять элементарные вещи: когда действительность противоречит воображению, мудрый человек принимает сторону воображения.
Не, ну ваще-то видел конешно… Тока забыл. Прям из головы вон.
– Собранней надо. Не в отпуске. На службе, – пользуясь смущением своего внутреннего сотрудника (выходит, не зря он обращался к шефу: не охранник и даже не сторож – теперь их связывают куда более справедливые отношения), аккуратно подпихнул мушиный трупик под кресло. Носком зимнего сапога.
«Жалко мне его, твоего Ганю. Впечатлительный мальчик, – перед ним, в кресле напротив, сидела мать. Теребила ситцевый передник, разглаживала на коленях. Прошлая война унесла ее маленькую Надежду. – Это я уж так – Надю… А, может, Любу или Веру». Для матери все ленинградские дети на одно лицо.
За ее спиной – как на старой еврейской фотографии – встали, ожидая своей участи, три сестры. Сперва ему показалось, будто обликом они соответствуют своему нынешнему женскому возрасту. Черты, однако, расплывались, превращаясь в девические, шестнадцатилетние – но уже через мгновение, будто время и впрямь покатилось вспять, размылись, сравнявшись окончательно: Вера-Любовь-Надежда – блокадные младенцы, родная мать не различит.
– Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! – неизвестно откуда донеслось, заплакало горестным еврейским припевом. – Ой-ёй-ёй-ёй…
Мать, только что сидевшая перед ним, исчезла. Стерлась, будто и не бывало. А вместе с нею Любовь и Надежда – пропали со старой русской фотографии.
Осталась только Вера, жена комсомольца.
Подмигивала ему, указывая на багажную полку, где шевелился бумажный сверток: сын Юльгизы. Будто подсказывала встречный вопрос:
– А желтых мальчиков не жалко?
Маленький желтый мальчик (которого не кто-нибудь, а он, словно новый Моисей, вывел из российского плена) каким-то чудом ослабил бечевки и, цепляясь за спинки вагонных кресел, неожиданно ловко спустился вниз. Сидел, болтая резиновыми ботами, поглядывая на человека, чья бездетная сестра Вера должна стать ему, безымянному сироте, то ли приемной теткой, то ли двоюродной муторшей. А, значит, сам этот человек – приемным дядей или двоюродным отцом. По природной малости он еще не мог в этом разобраться, тем более теперь, когда птенец его сердца трепетал ожиданием встречи со своим светлым советским будущим, о котором он, по стечению исторических обстоятельств родившись в России, не имел ни малейшего понятия.
Но знал: спасителю надо угождать. Так его научила мать, всю жизнь угождавшая черным. Его муторшей гордится вся семья. Его, теперь уже бывшие, родичи. Поют на разные голоса: ах, наша Юльгиза! Кто бы мог подумать! Поступила! Да не куда-нибудь, а в Санкт-Петербургский университет!
Одна тока баушка молчит.
Дура старая. Учит его старшего брата. Хотела и его научить. Будто он не знает – сам слышал по телевизору – дома ферботен. Читать и писать учат в школе.
Вглядываясь в черты лица того, кто теперь, отныне и до веку, будет о нем печься, мальчик пытается угадать: он-то чем ответит на такую заботу? Была бы маленькая лопатка, можно чистить его двор. От снега или от мусора. Или от чего прикажет. Главное – уж в этом он уверен: двор огромный, больше самой-пресамой-пресамой площади, куда мать водила их с братом, чтобы стоять с другими желтыми: смирно! лопаты на-пле-чо! – он вертел головой, разглядывая портреты и буквы, хотя и не понимал слов. Но разве дело в словах? Даже баушка в них путается, ворчит: ишь, шайтаны! Навыдумывают, а мы разбирай…
В СССР он всему научится. Закончит школу и немедленно поступит. Страшно сказать, в настоящий Ленинградский университет.
Будто получив от доброго хозяина твердое, точно завет, обещание, желтый мальчик сложил на коленках руки и приготовился ждать, еще не догадываясь, что хитрые гномы, вечные хозяева уральских недр, – да что там недр, всего сказочного края, – уже перемигнулись меж собой разноцветными огоньками, сговорившись перевести стрелки.
И теперь с растущим интересом наблюдали, как поезд – хи-хи-хи, кто бы мог подумать! ах-ах-ах, с багажом, с багажом! нам-нам-нам, достанутся дорогие шубы! – не снижая набранной сверхзвуковой скорости, идет прямиком в тупик.
Где-то в отдалении, еще невнятный, проникающий сквозь толщи горной породы, слышался яростный рев.
«Что там? Что?» – он воззвал к своему небесному контрагенту, который – в отличие от него, загнанного в тоннель, – смотрел на все происходящее с тысячелетней высоты.
Но великий Мо-Цзы молчал. Может статься, не слышал его отчаянного призыва. Или, наскучив всеведущим бессмертием, невольно увлекся открывшейся его глазам картиной: с Запада, со стороны России, в направлении Урала, двигались колонны пехоты, поддержанные нем-русскими танками.
«Они. Фашистские орды».
Его внутренний, серевший невидимым во тьме лицом, оцепенел.
Всей душой презирая тех, кто в минуту смертельной опасности празднует труса, – «Не за Родину. За себя, собака, боится», – он осознал всю меру своей одинокой ответственности. И понял: пришла пора. Брать дело в свои руки.
Что оказалось проще, чем можно было вообразить. Всего-то: раздвинуть земные пласты усилием воли, мысленно вознесясь над Хребтом.
И вот перед ним уже необозримая штабная карта, до странности похожая на физическую. Куда ни глянь, все имеет свой особенный цвет: горы – коричневые, предгорья – тоже коричневые, но значительно светлее. А там, в далекой перспективе, расстилается раскрашенная зеленой краской степь.
Яростный рев, однако, не стихал, переходя в тягучий и какой-то горестный вой.
Заложников, што ли, гонят? Бабами с дитями прикрываются. Суки, мля-я-я… – над его ухом заныло ошарашенно.
Он, командир передового подразделения, не отрывал окуляра подзорной трубы от просторов нем-русской степи. Его худшие опасения рассеялись: никаких пехотных колонн, форсированным маршем идущих нах Остен, а тем более боевых машин с ломаными фашистскими крестами на бортах. Впереди сколько хватало глаз – степью, не разбирая дороги, – двигались плотные народные массы: шли в направлении нынешней советской границы. Необозримой, но исключительно мирной толпой.
И чо теперь? По народу шмалять?
– Погодим. Это-то всегда успеется, – он бросил через плечо своему внутреннему комиссару.
Потому что, в отличие от Иоганна, верил в народ – пусть и такой, изломанный десятилетиями оккупации. И оказался прав. Не для него одного, но и для них, безоружных, кого черные батьки пустили поперед себя в пекло, уготовив судьбу покорного пушечного мяса, наступил звездный час «Ч».
Желтые – точно рыба на нерест, иначе и не скажешь, – обманув ожидания своих ожиревших от безнаказанности хозяев, устремились обратно в СССР.
Шли, вскинув на плечо свои постылые лопаты – орудия подневольного труда. Единственное, что они могли поставить на службу своей исторической Родине. А значит, память о ней – он едва сдерживался, чтобы не заплакать, но одна скупая слеза все-таки выкатилась – все еще живет в их маленьких, но верных, измученных долгой разлукой, сердцах.
Будто очищая свою историческую память от схватившихся намертво ледяных торосов, желтые, одетые в одинаковые пластиковые куртки, успели сорвать с оборотной стороны лопат портреты видных фашистских деятелей, оскорбительные для их немудрящего чувства человеческого достоинства. И заменить на правильные лозунги – отвечающие текущему моменту:
МИРУ – МИР!ОТВЕТИМ НА ПРОИСКИ ВРАГА УДАРНЫМ ТРУДОМ!ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!НАША СИЛА: ЕДИНСТВО И ДУХОВНОСТЬ!ПАТРИОТ ТОТ, КТО ЗА ЧЕРНЫХ!
Новые лозунги читались ясно – как в полевой бинокль.
Эта чо у них там в головах, а? – его внутренний, успевший прийти в себя, моргал обескураженно.
Все-таки ему достался туповатый комиссар.
Пришлось объяснять: сознание, сформированное многолетней оккупационной практикой, опирается на привычные понятия. Человек, какая бы решимость порвать с собственным прошлым его ни обуревала, не в состоянии выйти за границы своего жизненного опыта. Дав философское обоснование проблемы, он надеялся, что комиссар заткнется, впечатлившись ее глубиной.
Но тот, похоже, не впечатлился: Дак мы с тобой – тоже, што ли?
Он сказал, как отрезал:
– Говори за себя.
Его внутренний глубоко задумался. Видно, ждал реакции от собственной внутренней наружки. А уж когда она поступит, этого не знает никто. Даже он, не сводящий глаз с желтой головной колонны, успевшей дошагать до предгорий западного Урала. Вдали, за авангардом, уже просматривался арьергард. Торопясь и подбадривая друг друга (будто ошалев от долгожданной и безнаказанной воли), подымались, ложась на крепкие трудовые плечи, древки все новых и новых лопат. Народное ополчение, истинных масштабов которого не оценил бы даже Иоганн, который привык копаться в архивах, где одни покойники.
«А здесь – живые люди…» Не успел он это подумать, как заметил: все плывет перед глазами – дрожит, словно сам воздух разогрелся жарким дыханием миллионов, шагающих в СССР. Но как ни вертел, ни подкручивал подзорную трубу, добиваясь прежней неоспоримой зоркости, расплывалось только сильнее, пока не встало плотным непроницаемым облаком, застящим обзор.
Эти, сзади-то, глянь. С дрекольем, што ли, пристроились? – Комиссар, необъяснимым образом, в обход него, своего непосредственного командира, успевший обзавестись цейсовским (читай, фашистским) биноклем, смотрел далеко вперед.
В смысле – далеко назад.
– Ну-ка, – отодвинув выскочку локтем, он перехватил оптическое орудие наведения. И понял, что имеется в виду.
На плечах тех, кто сбивался в арьергардные отряды, не просматривалось широких дворницких лопат.
Чо там, чо? – комиссар подпрыгивал от нетерпения.
Там, в далекой перспективе, покачивались короткие, будто обломанные, древки.
«Но это же, это…»
Он вглядывался напряженно, боясь высказать вслух догадку, абсолютно безумную, можно сказать, космическую, из разряда тех, над которыми потешаются средние умы, в подметки не годные ему и Эйнштейну.
Вскинув – на-пле-чо! – не лопаты и даже не винтовки Мосина, а косые могильные колышки, из земли подымались мертвые. Вставали в затылок живым.
Он почувствовал мурашки на коже.
«Неужели я оказался дальновиднее великого китайского Учителя…» – шепнул, будто на ухо Иоганну. Забыв, что Иоганна нет.
А есть только этот, на кого теперь, отныне и до веку, ему придется полагаться.
– Ну, мертвые, – его комиссар что-то катал во рту. – Дык а чо. Нормально, – сплюнул и как-то криво усмехнулся.
Ощущая в своей руке приятную тяжесть цейсовского бинокля (уже не фашистского, а нашего, от битого у врага), он переживал исторический триумф. Еще немного, и его страна одержит окончательную победу…
Но тут откуда ни возьмись в гармоничную картину мироздания вторгся голос проводника:
– Подъезжаем, подъезжаем. Пассажиров просят занять свои места.
Прервал восхитительное течение событий, на рушив границы воображаемого, но абсолютно достоверного пространства – откуда не хотелось возвращаться, как в детстве, когда играли в войнушку…
С трудом, но разлепил все-таки глаза.
Убогая действительность собиралась медленно: вот, будто крупицы масла в натуральном молоке высокой жирности, сбились из густого воздуха ряды кресел. Между ними – точно проволока венчика, все еще взбивавшего сонное сознание, блеснули плотные металлические столы.
Стараясь не отвлекаться на частности, он всматривался в бегущую строку. Хотелось запомнить точное время. Однако на ней, сиявшей над раздвижной дверью в тамбур, не было ни числа, ни месяца, ни года. Только название: «Беркут». И номер вагона. В котором он, триумфатор, поддержанный всеми, и живыми и мертвыми, пересекает границу СССР…
Между тем, знаменуя приближение к рубежам вели кой Родины, из невидимых динамиков, закрепленных под потолком вагона, полились звуки. Родина встречала его песней – подлинной, времен минув шей войны.
– «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, – отцовский голос, полный фронтового достоинства, обращался к мертвым и живым: – Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…»
Повинуясь этому голосу, разошлись каменные створы тоннеля, открывая просвет в мертвенно-сизой мгле. Там, в небесной тишине, собирались солдаты, павшие в боях с фашизмом. Строились бесконечным клином.
Сквозь просвет виднелся не весь солдатский клин. Только самый край.
Последним, точно птенец-новобранец, неумело, но старательно взмахивая ломкими, как архивные листочки, крыльями, плыл…
Но не он, не он, не он.
А Иоганн.
Его радость померкла.
Сидел, прислушиваясь к тишине, давящей бара банные перепонки. Абсолютной, сродни кессонной болезни, откуда – как из песни, – уже ничего не выкинешь, потому что выкидывай не выкидывай…
Вдруг ему вспомнилась корноухая овчарка, опоздавшая за поездом. Он хотел спросить: не знаешь, что с ней стало?
Но его внутренний ангел-хранитель, как назло, отлетел.
2013–2016
notes
Назад: Седьмая
Дальше: Примечания

