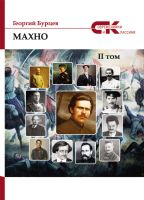Глава 2
Он шел по улице своего городка, занесенного по самые крыши домов снегом, и одна мысль, одни слова крутились и крутились в его голове:
– Она едет… Неужели Она едет ко мне?.. Она едет… – и эти слова, попадая в ритм шагов, чередовались с хрустом снега и создавали незабываемую мелодию – хрумс… едет… хрумс… Она… хрумс… едет – и так шаг за шагом, шаг за шагом, он шел домой, он шел на встречу с ней. А перед этим он побывал на вокзале и с точностью до минуты узнал, что Ее поезд приедет через пятьдесят часов тридцать восемь минут…
Он хорошо помнил ту, немного нескладную, но удивительно живую Девочку из далекого южного города, Девочку, которую видел на той кафедре, Девочку, которая, не страшась, обмывала трупы в морге. Нельзя сказать, что за прошедшие годы он ее часто вспоминал. Нет, отдельно ее не вспоминал! Но всегда, стоило ему подумать о той учебе, о Южном городе, ему почему-то всегда вспоминалась сначала Девочка, ее строгое, немного аскетичное лицо и лишь потом – кафедра, Профессор, друзья. Она за прошедшие годы стала какой-то мысленной визитной карточкой, открывающей доступ в прошлое. Сначала вспоминалось ее лицо, а потом – все остальное. Это было удивительно и немного непонятно. Почему Она запомнилась ему, почему? И только когда случилась эта удивительнейшая и абсолютно случайная встреча на тропинках Интернета, когда он впервые за долгие годы услышал ее голос по телефону (оказалось, что он и его запомнил, а потом сразу узнал), он понял, почему он Ее запомнил: это была память не прошлого, а будущего. Память о будущей встрече. Иного объяснения у него не было.
Он шел, все убыстряя и убыстряя шаги, – так ему хотелось скорее прийти домой и, перечитав письма, погрузиться в Ее любовь. В конце концов, он остановил такси, в салоне которого звучала именно их песня, песня Сальваторе Адамо:
Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon coeur s’habille de noir.
И всю дорогу эта мелодия кружила его в ритме падающего снега Сальваторе Адамо, и он вспоминал и вспоминал их бесконечные письма друг другу. Дома он достал заветные листочки со словами, написанные Ее рукой, словами, которые Он и так знал наизусть. Боже мой, как же он ждал Ее писем, как он всегда ждал Ее писем! Это какое-то сумасшествие просто, наваждение – ожидание Ее письма! Это чудо и всегда неожиданность – Ее письмо! И, получая его, он, как старый скряга, бережно и неторопливо, даже несколько лениво, чуть дрожащими пальцами распечатывал конвертик. Затаив дыхание, извлекал из него маленький и, казалось, какой-то ненадежно-невесомый листочек белой бумажки со строчками, написанными Ее рукой. А в письме были слова, которые Она говорила только ему и никому другому. Только ему – тому, кого она любила, любила неистово, любила как никогда, любила, может быть, последней любовью – любовью взрослой Женщины! Читая эти слова, ему казалось, что он умрет, если исчезнет Она. Читая эти письма, он ощущал запах, исходящий от листочка: запах Ее рук, запах ее губ, запах Ее тела. Этот запах, наверное, во многом им придуманный, это тревожное ожидание писем и встреч дарили ему надежду, заставляли жить и думать о Ней, думать о том, что жизнь – прекрасна, коль есть Она…
Затем он встал и включил песню, другую песню другого певца, но так перекликающуюся с его настроением.
И в комнате зазвучал чуть хрипловатый голос Вахтанга Кикабидзе: «…Брожу хмельной… с утра хмельной… но не вино тому виной! Твердят друзья, что сошел с колеи, что я сегодня пьян, а я пьян от любви, от слов ее и взоров, я пьян без вина от улиц, по которым прошла она, я пьян от шторы в квадрате окна…»
Эти слова, эта мелодия всегда так попадали в ритм Ее слов и его чувств, что казалось слова: «…я пьян от любви, я пьян от любви» – были всегда, всю жизнь с ним.
«…Брожу хмельной… с утра хмельной… но не вино тому виной! Твердят друзья, что сошел с колеи, что я сегодня пьян, а я пьян от любви, от слов ее и взоров, я пьян без вина от улиц, по которым прошла она! Я пьян от шторы в квадрате окна…» Боже мой, это было сумасшествие, но какое сладкое сумасшествие – ее письма и эта песня.
И вот когда уже совсем наступила ночь, всю идиллию оборвал громкий телефонный звонок. Отвратительный голос из телефонной трубки окончательно нарушил нежность вечера, все воспоминания о будущем:
– Доктор… убийство… огнестрельное ранение… опергруппа выехала, через 10 минут заедет за вами!
Тоска! Как говорится, не позже и не раньше! Суровая проза жизни вторглась в любовь… А что делать? Судебная медицина и Следствие всегда в таких случаях идут рука об руку…
Ехали недолго, и все было как обычно: следователь с судебно-медицинским экспертом пошли к трупу, а опера сразу разбежались по своим хлопотным розыскным делам. Случай был, в общем, несложный – как для врача, так и для следствия – огнестрельное ранение головы. Входная рана в подбородочной области, винтовка, правда, редкая и необычная – японская «Арисака» 1907 г. выпуска и калибра 7,7 мм… Выстрел с неполным упором… Типичное самоубийство, и ему, как Эксперту с уже немаленьким стажем, особых хлопот не доставило. Следователь и Эксперт довольно быстро все осмотрели, записали, сфотографировали. Следователь – обстановку, он – тело и вдруг совершенно неожиданно тишину комнаты взорвал голос:
«…Брожу хмельной… с утра хмельной… но не вино тому виной! Твердят друзья, что сошел с колеи, что я сегодня пьян, а я пьян от любви, от слов ее и взоров я пьян без вина от улиц, по которым прошла она, я пьян от шторы в квадрате окна…» Ему на мгновение показалось, что его голова не в порядке, что Он сошел с ума! Было даже непонятно, откуда льется песня и каким образом он ее слышит: «…а я пьян от любви, от слов ее и взоров я пьян без вина…» И тут все разъяснилось – из соседней комнаты вышел молоденький, довольно улыбающийся Опер и сказал:
– А я на клаву компа пальцем ткнул… огоньки-то мигали… он и заорал песню! А правда, песенка ничего?
И вот Он, стоя над трупом самоубийцы, сквозь запах гари выстрела и запах крови трупа вновь почувствовал запах Ее волос, рук, запах Ее тела… и, затаив дыхание, слушал и слушал голос Вахтанга Кикабидзе: «…Брожу хмельной… с утра хмельной… но не вино тому виной! Твердят друзья, что сошел с колеи, что я сегодня пьян, а я пьян от любви, от слов ее и взоров, я пьян без вина от улиц, по которым прошла она, я пьян от шторы в квадрате окна…»
А на полу, в луже крови, лежал молодой мужчина, которому ни эта музыка, ни эти слова были уже не интересны, ибо был он уже далеко-далеко, за гранью небытия… Он был уже там, где все совсем иное, нам непонятное и неведомое… И, глядя на лицо трупа, Ему почудилось, что на губах, изуродованных пузырящейся кровью, вдруг появилась жестокая усмешка всезнания. И доктор, не старый еще человек, повидавший за годы работы многое и многих, вдруг содрогнулся… Это невероятное сочетание музыки, голоса и образа любимой, эта усмешка на губах мертвого человека вызвали у него стойкое, прямо физически ощутимое и страшное чувство: сейчас прогремит выстрел – то свою песню вновь споет Арисака – и все исчезнет: песня, ее письма и весь окружающий, прекрасный мир – мир, в котором есть Любовь! И тогда замрет, остановится посреди бесконечной снежной равнины Ее поезд, ибо ехать ей будет уже некуда и незачем. И тогда этот поезд будет бесконечно стоять и стоять посреди вечных снегов, раскачиваясь на гигантских весах-качелях: вверх-вниз, вверх-вниз… Неужели память будущего их обманула?!. Вот сейчас, вот сейчас… Арисака…
Назад: Глава 1
На главную: Предисловие