В Саду
Уже почти рассвело. На детей лился призрачный синий свет, испещрённый звёздами. Длинные тени лежали на снегу. В центре Сада погасли огни, жаровни у Врат потухли, превратившись в дымные угли. Придворные разбрелись по дворцовым комнатам, наполнив желудки рогом носорога и коричным вином, а собаки с бубенчиками на ошейниках прыгали, хватая хозяек за подол. Шнуры, что удерживали ветви каштанов в форме часовни, развязали, и те радостно распрямились, расправили красную кору, приняв обычную форму. Леса за пределами Сада были тёмными и глубокими, в них пели соловьи и скворцы, копошась в снегу в поисках солнца. Озеро, окружённое замёрзшим камышом, было тихим, как мир перед рассветом; робкий заяц проверял лапой толстый ли лёд.
Мальчик и девочка сидели, прижавшись друг к другу в поисках тепла. Мир перед рассветом очень тих, но и очень холоден. Казалось, что всё вокруг завоевал синий цвет, даже губы девочки.
– Вот и всё, – сказал мальчик. – Больше ничего нет.
Девочка открыла глаза. Её волосы были влажными от растаявшего снега, алое платье в сумерках казалось чёрным.
– Это была прекрасная история, – сказала она. Улыбка расцвела на её лице, точно лилия.
Мальчик нахмурился, его лицо стало зрелым и очень серьёзным.
– И больше не будет других, странных и прекрасных. Всё закончилось.
Девочка нежно коснулась его лица, провела холодными пальцами по его щекам.
– Думаешь, тебе было лучше не спрашивать меня в тот день, почему мои глаза такие тёмные, словно озеро перед рассветом?
– Нет… но я думал… я думал, что-то должно произойти. Гром и молнии или жуткая колонна дыма. И что-то ужасное появится.
– Не знаю, – сказала девочка. – Мне никто не говорил, что должно случиться.
– Может быть, – пылко зашептал мальчик, – ничего и не случится. Я буду приходить к тебе каждый день, пока не стану Султаном, а потом ты придёшь ко мне во Дворец и сядешь за мой стол без вуали.
Девочка закрыла глаза. Глубокая чернота её век замерцала в снежном синем свете. На них не двигались буквы, они были тёмными, гладкими и пустыми: всего лишь отметинами, чернилами. Сова пролетела над их головами, возвращаясь домой после ночной охоты.
– Наверное, – сказала девочка, – всегда наступает момент, когда все истории заканчиваются, всё погружается в синеву, черноту, тишину, и рассказчику не верится, что это конец. Слушатель тоже не хочет в это верить, и оба, затаив дыхание, с пылкостью паломников надеются, что ещё не всё, будут и другие сказки; много сказок, цепляющихся друг за дружку словно звенья одной цепи. Они ждут, и деревья ждут, и воздух, и лёд, и лес, и Врата. Но нельзя навечно перестать дышать, и все сказки заканчиваются. – Девочка открыла глаза. – Даже мои.
– Да, моя дорогая, даже твои, – сказал голос, одновременно нежный и грубый, точно шелест перьев из крыла гусыни.
Девочка повернулась и увидела по другую сторону Врат, по другую сторону кованой битвы с её ледяными пушечными ядрами старую согбенную женщину со спутанными серебристыми волосами и длинным крючковатым носом. У девочки перехватило дыхание, как у лани при виде волка. Её руки начали дрожать.
– Ты пришла… пришла меня судить, – сказала она, чувствуя страшную сухость во рту.
– Зачем же так сурово, – сказала карга с хитрой улыбкой.
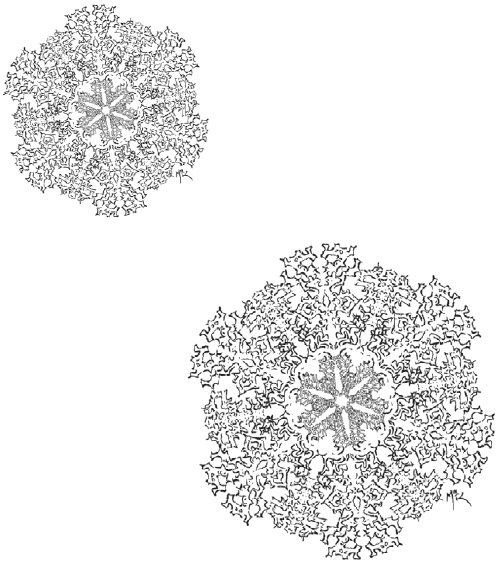
Тёмные глаза девочки наполнились слезами, мерцавшими будто снежинки в свете факелов. Она прикусила губу и вдруг выпалила:
– Я хорошая? Я была хорошей? Я ведь хорошая девочка? Я не плохая, как они говорят, не демон. Клянусь! Я достаточно хорошая для духа? Я так старалась не быть плохой, не сердиться, не киснуть, даже когда мёрзла по ночам.
Карга убрала за ухо серебряную прядь волос.
– Ты меня помнишь? – спросила она, будто не услышав произнесённых слов.
Девочка вытерла глаза ладонями.
– Да, – сказала она, – ты пришла, когда я была маленькой, такой маленькой, как один из моих гусей с коричневыми спинками. Ты рассказала мне про сказки и дала мне нож. – Девочка вытащила его из складок алого платья, маленький, кривой серебряный нож с рукоятью из кости.
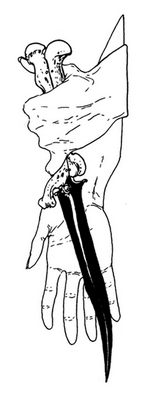
Старая женщина кивнула:
– Это мой нож. Но пусть лучше он останется у тебя. Ты чаще бывала голодной, чем я.
– Прошу тебя, – сказала девочка. – Чем всё заканчивается? Чем я заканчиваюсь? Я так долго ждала…
Старая женщина запустила руки в мёртвые, сухие розовые корни у Врат.
– О, дорогая моя девочка, – хрипло прошептала она. – Я знаю, чего ты ждала.
Последняя сказка
У пустынного серого берега одинокого серого озера стоял паром. Он скрипел во время штормов и ветров, его привязь натягивалась. Человек с горбом на спине, одетый в лохмотья, помогая себе шестом, плавал на этом пароме от одного берега к другому.
Посреди одинокого озера был одинокий остров, и на этом одиноком острове жила женщина, чью кожу покрывали зелёные чешуйки. Она гуляла по берегу, и глаза, что моргали на сером пляже, плакали о ней. Но женщина не плакала. Она ломала пальцы и глядела в туман, думала о многих вещах, ибо её разум был огромен, как само озеро. Время от времени к ней подходил юноша с красной кожей, напоминавшей хорошую древесину, и гладил её зелёно-чёрные волосы. Но она была безутешна и наконец, ступив на скрипучие доски причала, принялась звать паромщика. Она звала, пока на ветру её глотка не сделалась сухой, как сброшенная кожа. «Прошу тебя, – кричала она. – Прошу тебя, вернись».
Паромщика не заботило, что он нужен жителям острова. Но он не мог не слышать криков женщины-змеи, и, когда дневные шторма прошли, промочив его до костей и испортив настроение ящерицам, он позволил парому дрейфовать, куда тот сам хотел, – временами паром казался ему живым, и он с ним разговаривал, прислушивался к его жалобам, которые чаще всего касались морских желудей и водорослей. Но теперь паром говорил о голосе, что направлял его будто шест, и он страстно желал приблизиться к этому голосу, к этой змеиной песне, манившей раздвоенным язычком в тумане. Они приплыли к острову с пляжем из глаз. Там была женщина с мерцающей зелёной кожей и длинными волосами, что от сырости прилипли к её бёдрам, с тёмными жаждущими глазами.
– Я хочу её увидеть, – сказала она, не успел паромщик причалить.
– Это невозможно.
– Неправда! Ты перевозишь кого угодно, если тебе платят. Я заплачу. Там, в мире под Солнцем, в полнокровном мире, моя дочь дышит и ест свой завтрак золотой вилкой и смеётся шутке, которую сказал ей повар. Я хочу её увидеть. – Глаза женщины смягчились из-за бездонной мольбы. – Всего один раз!
– И чем, по-твоему, ты можешь заплатить?
– Ты взял хвост хульдры.
– Взял.
– А волосы мои возьмёшь?
Паромщик задумался. Он не хотел. Это было неправильно, он так не поступал. Но, видимо, перво-наперво нужно было отказать девчонке; становиться скрупулёзным сейчас казалось бесполезным и мелочным. За переправу нынче платили странно, а паромщик принимал плату больше раз, чем лет, прожитых им на свете. «Наверное, – подумал он, – это просто усталость от всего, от бесконечных монет и последних гротескных ампутаций».
– Возьму, – медленно проговорил он, и его голос стал гулким, словно вокруг не было тумана. – Но ты должна согласиться на мои условия.
Женщина ждала, её зелёная кожа на сером фоне словно кричала.
– Я возьму твои волосы как оплату двух переправ – туда и обратно. Ты не можешь уйти, как ушла женщина-гусыня, и вернуться в мир, чтобы жить, есть хлеб и танцевать. Ты должна вернуться! Ты не такая, как она. Иди к своей дочери, всего один раз, и возвращайся ко мне, к одинокому озеру и пустынному берегу. Тогда всё будет правильно.
Женщина кивнула и собрала в ладонь свои длинные, блестящие зелёно-чёрные волосы. Острым краем костяных крыльев паромщика она отсекла их у шеи и ступила на борт парома. Тот охнул под её весом, радуясь ей, как могут радоваться гвозди и доски. Они поплыли по водам озера. Оглянувшись, Серпентина увидела двух юношей с кожей цвета корабельного корпуса, смотревших вслед удаляющемуся плоту. Она подняла руку, и туман сомкнулся над ней.
Она стояла над колыбелью дочери. Комната была красивая, с огнём в мраморном камине и бутылкой горячего вина на стеклянном столике. Колыбель из кедра, чистые и белые, как брюшко голубки, одеяла. У маленькой девочки были густые тёмные волосы, красные пальчики, сжатые в кулаки, и она хмурила во сне лоб. Серпентина открыла окно, чтобы свет Звёзд просочился внутрь – свет луны и тьма небес. Серебряные блики упали на личико ребёнка.
– Печаль, – прошептала женщина. – Моя Печаль, моя любовь…
Слёзы подступили к её глазам, слёзы змеиного и звёздного света. Серпентина осветила комнату, как жаровня, её серебряная сущность расплескалась по углам. Она не светилась так с той поры, когда Король-Вепрь взял её в плен. Свет заполнил её до самого горла, так что она не могла дышать. Она и забыла, каково это – быть такой яркой. Серпентина опустилась на колени перед колыбелью; с кончиков её неровно обрезанных волос свет капал точно кровь. Женщина улыбнулась девочке. Она хотела остаться… Спрятать волосы под вуалью и погрузиться вместе с дочкой в круговорот придворной жизни, увидеть, как она растёт. Убедиться, что Луна и Звёзды всегда будут с её ребёнком. Она хотела прижать к себе малышку, как тогда на одиноком острове, и ощутить её живой ротик, тянущийся к груди.
Серпентина медленно протянула светящийся палец и с бесконечной нежностью провела им по векам дочери, коснувшись её в первый и последний раз за пределами озера.
Кожа под её пальцем покрылась чёрными завитками, и тени прыгнули от дымящейся плоти. Печаль начала плакать. В комнату тотчас ворвалась нянечка, и Серпентина скрылась в тенях и звёздном свете, огорчённая.
У пустынного серого берега одинокого серого озера стоял паром. Он скрипел во время штормов и ветров, его привязь натягивалась. Человек с горбом на спине, одетый в лохмотья, помогая себе шестом, плавал на этом пароме от одного берега к другому. Он увидел, как по берегу к нему идёт женщина с короткими волосами, торчащими во все стороны, и с красными от слёз глазами. Она подошла к парому и холодно посмотрела на него.
– Я лишь хотела к ней прикоснуться – живыми руками к моему живому ребёнку. Всего один раз…
– Этого было достаточно? – спросил паромщик.
Серпентина долго не отвечала.
– Да, – сказала она наконец и взошла на паром.
Назад: В Саду
Дальше: Прочь из Сада

