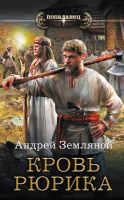В купе появился кто-то. Я почувствовал это инстинктивно и уже во сне напрягся. Опять черный человек?
«Мы не причиним тебе вреда».
«Кто – мы? Зачем вы здесь?»
«Мы – не люди Земли».
«Инопланетяне, гуманоиды?»
«Сущность, которая не имеет плоти».
«Призраки, привидения?»
«Мы существуем в других измерениях, в параллельных нематериальных мирах – такое определение вам привычнее».
«Четвертое или даже пятое измерение? Сколько всего измерений вы знаете?»
«Измерений бесконечное количество. Они древовидные. От каждой точки расходятся бесконечное количество миров, которые опять древовидно расходятся от других точек, и так далее, и так далее… Миллионы Вселенных в одной капле воды. В нематериальном мире такое возможно. Вы не в состоянии понять это, так как интеллектуальное развитие человечества в самом зародыше… Вы верите либо в материальный мир, либо в духовный. Ваши познания в физике находятся на начальной стадии. Нематериальный мир вы не можете представить в силу ограниченности интеллекта. Миллиарды лет развития вам позволили освоить только пять процентов мозга. Человеческий организм в состоянии перенимать только генетическую память, инстинкты, получать только врожденные навыки – дыхание, движение органов, действие сердечной, мышечной систем, пищеварение…»
«Разве человечество существует миллиарды лет?»
«Не совсем человечество, но разумные земляне существовали с тех пор, как появилась ваша планета. Это были другие формы жизни, которые миллионы лет накапливали память, осваивали Вселенную. Катаклизмы, к которым приводили бомбардировки кометами, метеоритами, разрушали планету. На ней резко менялся климат, возникали пожары или потопы, ледниковые периоды и засухи. Планета выживала, но память… стиралась до нуля. Все начиналось с чистого листа. Весь опыт, накопленный прежде, бесследно исчезал. Ни один разум не смог в материальном мире найти такой накопитель, который бы смог сберечь информацию миллиардов лет. Такой накопитель может существовать только в нематериальном мире».
«Значит, человечество обречено?»
«Это слишком прямолинейно. Человечество может преодолеть беспамятство. Для этого у него есть бесценный ресурс».
«Какой?»
«Мозг. Это тот самый накопитель в материальном мире, который в состоянии держать в памяти миллиарды лет событий, свершений, изобретений.… То, что вы называете жизнью».
«Но после смерти человека мозг умирает вместе с ним…»
«Память может передаваться на генетическом уровне. Вновь рожденный может иметь не только бесконечную память, но и все навыки предыдущих поколений. Будь то простое знание алфавита или вождение космического корабля».
«А если вновь произойдут катаклизмы, и все погибнут?»
«Память может переходить вместе с личностью, ее несущей, в нематериальный мир. Перейти в другие измерения. И это давно делается некоторыми представителями человечества. Это и гении, и те люди, которые неожиданно обрели такую способность. Но вопреки распространенному мнению последователей различный религиозных концессий, перейти в нематериальный мир сейчас может далеко не каждый. С другой стороны, любое мыслящее существо на Земле создает в нематериальной Вселенной бесконечное количество миров».
«Как это происходит?»
«Силой мысли. Даже в материальном мире силой мысли можно передвигать предметы, воспламенять их, гнуть металлы. Это вы называете телекинезом. Еще у вас есть понятие – телепатия. Умение читать чужие мысли не только находящегося рядом, но и человека на расстоянии тысяч километров. Некоторые из вас заглядывают в будущее. Пророки, ясновидцы. Некоторые видят прошлое – колдуны, шаманы, волхвы, медиумы. И те и другие имеют навыки путешествия в нематериальном мире, который отражает в миллиардах разных копий материальный. Но они могут передавать только крохи информации. Личность, ушедшая навсегда в нематериальный мир, не может вернуться обратно. Это удавалось незначительному количеству людей. Вспомните легенду об Орфее и Эвридике. Это, кстати, пример того, как память трансформируется в мифы и сказки. То, что вы называете адом и раем – нематериальный мир, миллиардная его часть. Не просто вернуться, а явиться носителем всей памяти человечества – такого не происходило никогда. Исключение – Иисус Христос. Он принес духовную память. А память многих тысячелетий, миллионов и миллиардов лет физического развития планеты и всего живущего – нет. Потому что до сих пор вы используете только пять процентов мозга».
«К чему эта вся информация?»
«Спасение человечества после физического исчезновения в том, чтобы уйти со всей накопленной памятью, а потом вернуться в материальный мир, имея ее в арсенале. Ее примет новая форма жизни. Не надо будет начинать с чистого листа».
«Звучит заманчиво. Но разве важен результат, а не процесс?»
«Инстинкты сохранения и размножения ведут человечество по глубинам Вселенной. Если исчезнут эти инстинкты, исчезнет сам смысл человеческого существования. В них не просто желание жить, но и познавать, и накапливать память…»
«Но о хлебе насущном мы печемся гораздо больше, чем о том, чтобы получить новые знания».
«Ошибка, которую, пока она не стала роковой, необходимо исправить. Например, инстинкт размножения заключается не только в том, чтобы создать потомство себе подобных. Каждое мыслящее существо ежесекундно создает в воображении нематериальный мир, который не только отражает реальный мир, но и обрастает своими нематериальными деталями и особенностями. Проще говоря, создается фантазия или иллюзия, которая устремляется в космос и продолжает жить самостоятельной жизнью. Каждое существо в этой фантазии также создает свой мир, и этот мир также улетает во Вселенную, и также продолжает свою самостоятельную жизнь. И это размножение продолжается бесконечно, согласно бесконечному количеству древовидных измерений. Этот поток не переполнит Вселенную, ибо она бесконечна. Конечна только материальная Вселенная».
«Почему? Наш гениальный ученый Альберт Эйнштейн говорил о Вселенной, что она бесконечна!..»
«Он также говорил, что не сомневается в двух вещах. В бесконечности Вселенной и в бесконечности человеческой глупости. При этом в бесконечности Вселенной он все-таки сомневается».
«Почему материальная Вселенная конечна?»
«Она конечна не в смысле пространства, она конечна в смысле времени. Центробежные силы разбрасывают материю, те же самые галактики, в разные стороны. Со временем разлетится все на атомном уровне. Останется вакуум».
«Не может быть! Есть мнение о том, что Вселенная, наоборот, сжимается до одной точки – Черной дыры. Эта дыра спрессует все в…»
«В вакуум? Черные дыры – это входы из материального мира в нематериальный, в другие измерения. Но сейчас вы не можете этого осознать в силу своей…»
«Врожденной тупости?»
«Неразвитого интеллекта и отставания в познании мира, его разнообразных физик».
«Умеете вы вежливо обзывать дураком!»
«Чувством юмора мы не обладаем».
«А какими-то чувствами вы обладаете?»
«Да. Вами они еще не познаны».
«Зачем тогда вы вышли на контакт со мной, если я существо неразвитое и отсталое в познании физик?»
«Это вы вышли на контакт. Каким образом – нам неясно. Вы находитесь во временном тоннеле, который пронзил вашу планету в двух точках, а затем свернулся в Лист Мебиуса. Это аномальное явление нами еще не изучено, мы пытаемся изменить ситуацию, пока на Земле не начались катаклизмы. Раньше времени. Есть надежда, что человечество успеет развиться до необходимого уровня, найдет способ сохранить память, научится переходить из материального мира в нематериальный и обратно».
«Зачем вы пытаетесь сохранить человечество, какая в этом вам необходимость?»
«Этот вид гуманоидов обладает огромным потенциалом воображения, не свойственным другим видам или свойственным в не столь значительной степени. Ваше воображение непрерывно создает новые и новые миры в нематериальной Вселенной, которые саморазвиваются дальше. В случае гибели человечества источник такой энергии иссякнет, и миры по прошествии времени ликвидируются. Если вы сумеете перейти в нематериальное состояние с багажом всей памяти и воображения – будет гарантия существования нематериальной Вселенной».
«Понятно, – сказал я, – вам надо поменять батарейки!»
И проснулся.
40.
Некоторое время мы опять шли молча. Ждали, когда Иван Григорьевич соберется с мыслями, справится с волнением, которое вызвали воспоминания.
– Плен, друзья-товарищи, – наконец продолжил он, – это не прогулка по бульвару. Чтобы очухался, облили холодной водой – это зимой-то. Стали допрашивать. Отвечаю уклончиво – бьют нещадно. Говорю – рядовой, много знать не положено. Опять бьют. Зачем, мол, в разведку пошел? Я говорю – не в разведку, а за капустой, голодно, мол. А зачем к ним в окопы полез? Зачем обер-лейтенанта захватили? Да так, говорю, по случаю вышло. Опять бьют. Видят, толку мало, решили расстрелять. Но тут один немецкий офицер заметил татуировку матросскую – якорь – на плече у меня. О, говорит, у меня в Берлине знакомая фрау из такой кожи на своей фабрике сумочки и кошельки шьет. Да и череп твой с такой вмятиной (после удара пулеметом) пригодится, подсвечник сделать. Ржут, сволочи. Дали, в общем, отсрочку на тот свет, отправили в Лодзинский лагерь для военнопленных в Польше. По дороге в концлагерь я бежал. Выпрыгнул на полном ходу из поезда, пока охранник рот разевал. Меня не в товарняке везли, а в простом вагоне, как специальную вещь для берлинской фрау. Не думал он, что на полном ходу кто-то прыгнуть вздумает. Ушибся я сильно, но ничего. Страшнее холод и голод оказались. Полгода я по лесам и полям Польши мыкался, все к нашим пробраться пытался или на партизан наткнуться. Кое-где в селах помогали. Одежду какую дадут, хлеба малость. Самим тяжело. Да и боялись сильно немцев. А некоторые поляки вообще на их сторону перешли. Служили верой и правдой. Особенно те, кто поселился в домах расстрелянных евреев. Но потихоньку-помаленьку пробирался я к своим, зиму пережил, весну. Оброс, как дед Мазай, в лохмотьях весь, грязный. Но одна полячка пожалела, выдала сапоги старые и шмат сала. Во праздник! Я это сало сразу не стал есть, распределил на неделю, щепочкой нарезал. Так оно меня и подвело! Схватили меня фрицы, спрашивают кто, откуда? А тут какой-то пан, чтоб ему пусто было, говорит – это мое сало, это он у меня украл. Все, как вора отправили в Германию в лагерь смерти Заксенхаузен (под Берлином).
От смерти меня спасло то, что бывалые заключенные сунули мне по прибытию бирку с номером и именем только что убитого Ивана Олейника. Его охранники запинали ногами до смерти. А мою бирку положили на труп. Так я попал в обычный отряд, а не штрафной, да еще под чужим именем – Иван Олейник. И это спасло мне жизнь. Со временем узнал, что в лагере действует подпольная организация, которая помогает нашим военнопленным. А также узнал, что не прожил бы и двух месяцев. Изнурительная работа, частые побои, недоедание – это одно. Воры-славяне однозначно подвергались уничтожению. При поддержке подпольщиков я смог протянуть до перевода в другой концлагерь. Это случилось уже в 1944-м. Тогда мы и познакомились с летчиком Девятаевым.
– С легендарным Девятаевым? – переспросил я.
– С ним самым. Героем Советского Союза Михаилом Девятаевым, – усмехнулся Иван Григорьевич. – О том, что он – летчик, мы узнали гораздо позже. Его тоже привезли с расстрельными списками из лагеря Новый Кенигсберг. Мы только знали, что узники готовили побег. По ночам подручными средствами – ложками и мисками – они рыли подкоп, на листе железа оттаскивали землю и разбрасывали её под полом барака, который стоял на сваях. Но, когда оставалось несколько метров, подкоп обнаружила охрана. Нашлась гнида, которая донесла, и организаторов побега схватили. После допросов и пыток их приговорили к смерти. Но ему повезло: в санитарном бараке подпольщик-парикмахер, также как и мне, заменил его бирку смертника на бирку штрафника, которого тоже убили охранники. Это был учитель из Дарницы Григорий Степанович Hикитенко. С этой фамилией Девятаев и прожил до самой свободы. Как и я с фамилией Олейника. Обезличка в концлагерях плюс немецкая пунктуальность нам позволяли обходить бесчеловечные порядки. Бирка важнее человека? Получите бирку – номер такой-то мертв, с него взятки гладки…
– Я тоже читал про Девятаева, мы по истории проходили, – вставил Иван Шуберт. – Гвардии старший лейтенант Девятаев в воздушных боях сбил 9 вражеских самолётов…
– Это только в мае-июле 1944 года. В начале войны он тоже немало сбил. Но был ранен, его списали в гражданскую авиацию. Покрышкин помог ему опять стать истребителем. Но в июле 1944 Девятаев был в неравном бою сбит в районе Львова и с тяжелыми ожогами захвачен в плен. В концлагере Заксенхаузен подпольщики пристроили его в группу «топтунов». «Топтуны» разнашивали обувь немецких фирм. 50 километров в день. И это была не самая тяжелая работа.
В конце октября 1944 года меня, его и еще с десяток наших друзей-товарищей в составе группы из 1500 заключённых отправили в концентрационный лагерь на остров Узедом, где находился секретный полигон Пенемюнде, на котором испытывалось ракетное оружие и, естественно, находился аэродром. Полигон – секретный, для узников был только один выход – через трубу крематория. Я предлагал нашей группе совершить побег на прибрежном катере. Мы даже стали готовиться, но Девятаев-Никитенко вмешался в процесс, он уговаривал нас не делать этого. Далеко, мол, не уйдем. Мы его чуть не пришили, потому что он еще у подпольщиков не пользовался доверием. Каждого очень долго и тщательно проверяли. Но он гнул свою линию, что побег нужно совершать на самолете. А мы ему – где летчика взять? Тут Девятаев и раскрылся, все о себе рассказал. С трудом, но поверили. Особенно я противился. Я – моряк, а он – летчик. У каждого своя правда насчет побега!
К 1945 году у нас организовалась группа из десяти человек, готовая к побегу на самолете. Это были я, Девятаев, Иван Кривоногов, Владимир Соколов, Владимир Hемченко, Федор Адамов, Михаил Емец, Пётр Кутергин, Hиколай Урбанович и Дмитрий Сердюков. Девятаев предлагал набрать еще десять человек, но потом мы от этого отказались, группа из двадцати человек не смогла бы пробраться к самолету. В январе 1945, когда фронт подошёл к Висле, в десятером начали готовить побег. Был разработан план угона самолёта с аэродрома, находившегося рядом с лагерем. Во время уборочных и саперных работ на аэродроме (а там попадались неразорвавшиеся бомбы и фугасы) Девятаев украдкой изучал кабины немецких самолётов. С повреждённых самолётов, валявшихся вокруг аэродрома, по его заданию мы снимали таблички от приборов. В лагере их переводили и изучали. Всем участникам побега Девятаев распределил обязанности: кто должен снять чехол с трубки Пито, кто убирать колодки от колёс шасси, кто снимать струбцины с рулей высоты и поворота, кто подкатывать тележку с аккумуляторами.
Несколько раз назначали дату побега. Но что-то мешало постоянно – погодные условия, усиленная охрана, другие обстоятельства. Однажды, совершенно спонтанно мы чуть не убежали, но в самый последний момент выяснилось, что «юнкерс», на который мы хотели забраться, стоит без шасси на колодках. Дата побега откладывалась и откладывалась. Но в конце концов побег был назначен на 8 февраля 1945 года. Все потому, что Девятаева приговорили к «10 дням жизни». Приговорили не немцы, а уголовники из заключенных, которые активно помогали охранникам, выполняли их поручения по усмирению неугодных узников. «Десять дней жизни» – это ежедневное избиение жертвы в тех местах, где бандитам заблагорассудится. Иногда жертва не доживала до назначенного срока, а если все-таки оставалась в живых, ее убивали на десятый день. Вот Девятаев и попал таким ублюдкам на заметку. Прошло два дня истязаний над ним, и он решился – побег, иначе не выживет.
8 февраля по пути на работу на аэродром наша группа, выбрав момент, убила конвоира. Чтобы немцы ничего не заподозрили, я надел его одежду. Конвоир, правда, из меня худющий получился! Зато так нам удалось проникнуть на стоянку самолётов. Мы выждали, когда немецкие техники отправились на обед, и захватили бомбардировщик He-111H-22. Все сработали четко, правда, забыли про аккумулятор, но и его подтащили на тележке, и Девятаев наконец запустил двигатели и начал выруливать на старт. Чтобы немцы не увидели его полосатую арестантскую одежду, он разделся до пояса. Все равно взлететь незамеченными не удалось – самолет пробежал всю взлетную полосу… и не взлетел. Тогда Девятаев развернулся и опять начал разбег. Тут немцы что-то заподозрили, но еще ни черта не понимали. Но в сторону «Хейнкеля» уже со всех сторон бежали немецкие солдаты. А самолёт опять долго не мог взлететь (Девятаев потом объяснил, что не находил тумблер, который убирает посадочные щитки!). Он крикнул нам, чтобы помогли тянуть штурвал на себя. Мы, что есть силы, тянули. И только в конце полосы «Хейнкель» оторвался от земли и на малой высоте пошёл над морем. На посадку зашел немецкий истребитель, и тут же, получив команду, взлетел обратно. Он некоторое время летел над нами, но не стрелял. Скорее всего, на боевом вылете растратил весь боезапас и ничего не мог сделать. Девятаев успокоился и обнаружил-таки необходимый тумблер, переключил его, самолет набрал нужную высоту. Мы летели, ориентируясь по солнцу. В районе линии фронта обстреляли наши зенитки. И «Хейнкель», который мы угнали, совершил вынужденную посадку на брюхо южнее населённого пункта Голлин в расположении артиллерийской части 61-й армии…
– Здорово! – сказал Иван Шуберт. – Вас, наверное, встретили, как героев, к наградам представили?
– Как бы не так! – горько усмехнулся Бойко. – Особисты не поверили, что заключённые концлагеря могли угнать самолёт. Нас подвергли жёсткой проверке, долгой и унизительной. Затем кого отправили в штрафные батальоны, кого в госпиталь. В ноябре 1945 года Девятаев был уволен в запас. Его не брали на работу. В 1946 году, имея в кармане диплом капитана, с трудом устроился грузчиком в Казанском речном порту. Двенадцать лет ему не доверяли. Он писал письма на имя Сталина, Маленкова, Берии, но всё без толку. Положение изменилось, только в конце 50-х годов. 15 августа 1957 года М.П. Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
– А как твоя судьба сложилась, Иван Григорьевич? – спросил я.
– Я почти дошел до Берлина, но опять был тяжело ранен, полгода находился в беспамятстве. Родным похоронку прислали. Потом долго таскали по кабинетам НКВД. Быть в плену – это измена Родине. Чуть в лагеря не отправили, но по причине частичной амнезии не стали этого делать. Полностью отстали только в 1953 году. Вот откуда у меня такое неприятие «краснопогонников», – Иван Григорьевич покосился на рядового Стопку. Тот поежился от его взгляда. Хотел что-то сказать, но передумал и поник головой.
Впереди замаячили огни электрических лампочек на фонарных столбах. Это была станция Неведа.
– Ша, друзья-товарищи, разговоры прекратить, – скомандовал железнодорожник. – Подходим без звука, шаг убавить.
Мы молча кивнули.
41.
В купе вошла официантка, держа в руке бутылку «Жигулевского». Капельки воды стекали по стеклу, говоря о том, что живительная влага не далее как минуты две назад была извлечена из холодильника.
– Проснулся, засоня! – весело проворковала официантка, нашла под столом встроенную открывашку и ловким движением сняла пробку с бутылки. – Держи гостинец, поправляй здоровье драгоценное, а то вчера совсем никакусенький был!
– Благодарю, – хриплым голосом сказал я и принял дрожащей рукой воистину королевский подарок! Официантка подсела ко мне и провела холодной рукой под простынею по моему обнаженному телу. Все члены моего организма разом воспряли! А несколько глотков пива полностью восстановили жизненные силы! Официантка быстро разделась и юркнула ко мне под простынь.
– У меня есть пятнадцать минут, – шепнула она мне на ухо. Это был сигнал к действию. Хорошо, когда от тебя не требуют многого. Никаких прелюдий, уговаривания и игры полов. Пятнадцать минут, и все! Мы – взрослые люди, случайно встретились и так же расстанемся. Ни любви, ни обязательств, ни долгих прощаний. Организм требует секса. Он его получит. И пятнадцать минут в такой ситуации – большой запас времени. Можно пятилетку досрочно, за четыре года. А пятнадцать минут – за десять!
– Перебирайся к себе, – чмокнув меня в щечку после всего действа, которое я бы назвал спринтерским бегом смешанной легкоатлетической команды, сказала официантка. – В купе скоро придут. Вечером встретимся, если захочешь.
Она оделась, подождала, когда то же самое сделаю я и выйду, потом закрыла купе. Опять чмокнула в щечку и исчезла. А я постоял в размышлении – в какую же мне сторону идти? Решил пойти в противоположную – от ушедшей официантки. И тут я понял, что опять с ней не познакомился. Хотя, разве две интимные встречи – повод для знакомства? Видимо, нет. Для некоторых людей, даже совместно прожитые 25 лет – не повод для знакомства.
Через несколько вагонов я нашел свое купе и приятно удивился – оно было полностью свободно. «Спинджак» Толсторюпина (вернее – Платова) валялся на боковом сиденье, гитара лежала на верхней полке. Никто не посягнул на это имущество. Выпитое пиво располагало ко сну. Я снял с третьей полки матрас, расстелил его, подсунул под голову толсторюпинский пиджак, улегся поудобнее и задремал.
Сновидения не приходили, и я ушел в воспоминания. Я часто вспоминал своих теток и их мужей, двоюродных сестру и братьев. После поездки в Симферополь мы больше не собирались такой большой компанией, полным, как говорится, составом. Тетя Клава развелась с дядей Рудиком. Подросшие дети разлетелись по стране. Потом умер отец. Поездку я помнил во всех подробностях, помнил море, чьи волны пугали меня своими набегами, а взрослые смеялись. Мне не нравилась соленая вода, мне не нравилось палящее солнце, хотя у нас в степи его было гораздо больше! Но нравились новые впечатления, предметы, люди, ситуации, старенький деревянный трамвай в Симферополе. Мастерская деда Василия, где он сколачивал ящики для фруктов, там приятно пахло опилками и компотом. Сколько лет мне было? Пять или шесть. А были ли у меня воспоминания гораздо раньше этого возраста? Я стал напрягать память. Палаточный городок военных, расположившийся рядом с нашим двухэтажным «учительским» домом, четырнадцатилетний казах Щука (помню только кличку, имени не помню), сосед Мартын, на пару лет меня старше, соседка Наташка и наши тайные игры с ней, которые не нравились взрослым. А до «учительского» дома? Мы жили в комнате в длинном бараке, где ужасно пахло чем-то несъедобным, гремели тазы, шкварчили харчи на печках. Так. Еще раньше. Летний лагерь. Обрывистый берег реки с вырубленными в грунте ступеньками. Упавший в речку мячик, застрявший в камышах. Мои усилия по его вызволению. Мячик в руках, я пытаюсь подняться с ним по крутым лесенкам наверх, но он выскальзывает и опять падает в реку. Вновь достаю его, вновь поднимаюсь по лестнице, но она слишком крутая, и, чтобы сбалансировать, я выпускаю мяч из рук. Начинаю все сначала. Теперь, взяв мокрый мяч в руки, я пытаюсь его кинуть выше лестницы, чтобы он остался наверху, а я поднялся без него. Но мяч не долетает и до середины ступенек. Я осознаю свое бессилие, отчаяние от безысходности охватывает меня. И все же упрямство заставляет повторять процедуру снова и снова. В какой-то момент я не выдерживаю и реву. На рев появляются взрослые и со смехом вызволяют меня и мяч. Сколько мне было? Года три-четыре. А я уже тогда понял, что такое Сизифов труд. Интересно, еще раньше я что-нибудь помню? Вот. Картинка такая: луч фонаря высвечивает на полу палатки в траве огромного черного жука, отец хватает его и выбрасывает наружу. Я реву от испуга. Этот жук прополз по моему лицу. Мне меньше трех лет… Интересно, а могут ли быть воспоминания еще раньше? Я напрягаю свой мозг и… Ясно и четко представил огромное чистое небо. Голубое-голубое, подернутое золотистыми лучами солнца. Вдруг большую часть неба заполняет лицо. Лицо, обрамленное седой бородой и седыми волосами. Синие глаза пристально смотрят на меня. Они не излучают угрозы, поэтому мне не страшно, а как-то захватывает дух. Буд-то бы меня качают на качелях, и я то взлетаю высоко, то падаю вниз. Глаза не выражают и умиления или радости. Они внимательны и мудры. Взгляд огромных глаз как бы спрашивал меня: кто ты, зачем явился сюда, что хочешь принести в мир? А я не отвечал, потому что еще не умел разговаривать. Откуда это воспоминание? С самого рождения или немного позже? Может, это выдумка сознания? Тогда откуда такая четкая картина, которую я нигде и никогда не видел? А тем более не в состоянии был вообразить? Откуда в моем воображении картины осады монголами древнерусского города, охваченного пламенем пожара? Я узнал о монгольском иге только в восемь лет, а сон этот мне снился с четырех. С четырех лет мне снилась и странная темная планета, на которой люди ходили в чем-то, напоминающим скафандры, не было солнца и все было раскрашено в серебристо-черные цвета. И ощущение массовой паники. Люди пытались скрыться отчего-то или от кого-то, улететь на каких-то странных машинах. Фантастикой я увлекся в пятом классе, а сон регулярно ко мне приходил с дошкольного возраста. Я не понимал этого. Если мне однажды приснился ядерный взрыв, то вычислить – откуда ноги растут – банально просто. Половине человечества тогда снился подобный сон, так как массовая пропаганда Запада и Востока смаковала во всех средствах массовой информации угрозу ядерной войны. А откуда монголы и откуда скафандры? Генетическая память? Она может касаться только прошлого. А будущего как может касаться генетическая память? Или это не будущее?
Такие размышления сильно утомили мой мозг. Он не захотел ничего анализировать. Он предложил мне сон без сновидений.
42.
В пятидесяти метрах от опорного пункта мы остановились рядом с фонарным столбом, и Иван Григорьевич заставил рядового Стопку веткой нарисовать на земле план здания.
– Ага, ясно, – сказал он, изучив каракули эмгэбэшника, – бывал я тут, вспомнил. Ты, Шуберт, подойдешь к левому окну, а ты, Олег, к правому. Я войду в дверь. По сигналу – палите в потолок. Если окна закрыты – выбивайте стекла. Наша сила во внезапности. А ты, Стопка, сначала передашь вот эту газету своему командиру. Скажешь, срочно прочитать надо. И без фокусов. Не думай, что сможешь спрятаться от наших выстрелов.
– Разукрасим твоими мозгами весь пункт, – погрозил Стопке «Береттой» Шуберт.
Неслышно мы заняли каждый свою позицию. Наше преимущество было еще и в том, что из освещенного внутри помещения не было видно в окна, что творится на улице, зато группа эмгэбэшников была как на ладони. Лейтенант сидел за столом и пил чай из алюминиевой кружки, изредка помешивая в ней чайной ложкой. На столе лежали папки с документами, газеты, стоял письменный прибор с чернильницей, папье-маше, деревянными ручками с железными перьями и остро заточенными карандашами. На столе также лежал вороненый пистолет лейтенанта. Видимо, он ему недавно понадобился, как аргумент устрашения. Рядом стояла тумбочка, на которой на примусе грелся видавший виды чайник. Над чайником колдовал рядовой, автомат у него висел за плечом. В углу опорного пункта был оборудован зарешеченный закуток. В этой клетке сидел на лавочке понурый Федор Толсторюпин! Под левым глазом у него наблюдался фингал величиной с чайное блюдце. С внешней стороны закутка стояла еще одна лавка, на которой двое конвоиров о чем-то оживленно переговаривались вполголоса. Их автоматы аккуратно стояли в углу. Старшина стоял у окна, как раз у того окна, где Иван Шуберт должен был поддержать наше наступление. Окно было открыто. Автомат у старшины висел на шее, и одну руку он положил на ствол.
Иван Григорьевич молча подтолкнул к двери рядового Стопку. Тот, с газетой в руках, деревянным, но строевым шагом прошел внутрь опорного пункта и направился к лейтенанту:
– Товарищ лейтенант, разрешите доложить?
– А, рядовой Стопка! – радостно заговорил лейтенант. – Ну, докладывай, докладывай! Поймал врага народа? Постой, а где твое оружие?!
– Товарищ лейтенант! Вас просили срочно прочитать вот это! – Стопка передал газету «Правда» в руки командира.
– Кто просил? Какого хрена?! Под трибунал захотел? – лейтенант МГБ пробежал глазами по первой странице и остолбенел. – Что такое? Ни хрена себе!
Лейтенант МГБ на то и лейтенант МГБ. Он очень быстро овладел собой, подавил эмоции и холодным тоном произнес:
– Это провокация. А ты – шпион иностранной разведки.
Старшина взял автомат наизготовку и направил ствол в сторону Стопки. И тут же ощутил спиной дуло пистолета.
– Руки вверх! – сержант автомобильных войск не дремал.
– Оружие на пол, руки вверх! Вы арестованы! – это в дверях появился с ППШ Иван Григорьевич. Для поддержки своих слов он дал короткую очередь в потолок. Посыпалась штукатурка, отрикошеченные пули полетели в разные стороны, сметая все на своем пути. Я понял, что настал и мой черед. Пробил двустволкой стекло (окно с моей стороны было закрыто!) и бабахнул дуплетом над головами «краснопогонников». Приклад больно отозвался в плече, в спешке я неплотно его прижал. Да и Григорьевич, видимо, любит пересыпать пороха в заряды. Крупная картечь шарахнула более плотным свинцовым дождем от потолка и стен, задевая почти всех участников событий. Даже Григорьевич ойкнул. Одна картечина сбила чайник с примуса. Он завалился на бок и грохотом покатился на пол, расплескивая кипяток. Часть кипятка пролилась на бедро того рядового, что колдовал над примусом.
– А-а-а-а-а-а, мать, мать, мать! – заорал он, внося окончательную панику в ряды МГБ. Двое других рядовых вскочили с лавочки и высоко подняли руки. Бледный старшина трясущимися руками снимал автомат с шеи. Лейтенант вдруг схватил рядового Стопку за плечи и, прикрываясь им как щитом, попятился к столу. А на столе лежал пистолет! У меня ружье было в переломленном состоянии, и я еще не загнал патроны в двустволку. Ситуацию оценил Шуберт. Он выстрелил один раз и промахнулся. Вторым выстрелом он сбил пистолет со стола в тот момент, когда лейтенант уже хотел его схватить. И тут по «Беретте» Шуберта ударил рукой старшина. Пистолет выпал из руки афганца. Старшина стоял ко мне спиной, а ружье мое уже было заряжено. Я нажал один спусковой крючок, целясь старшине МГБ ниже пояса. Выстрел окрасил задницу бедняги так, как будто он сел в одночасье на горстку клюквы. С завыванием старшина упал на пол, хватаясь руками за свои ягодицы.
– Прекратить сопротивление! Иначе вы все будете расстреляны на месте, как пособники врага народа Берии! – Иван Григорьевич поводил автоматом из стороны в сторону. Тут до эмгэбэшников дошло, что убивать их никто не собирается. Они замерли с поднятыми руками. Старшина никак не приходил в себя от болевого шока.
– Сержант Шуберт! – крикнул Бойко.
– Я!
– Собрать оружие!
– Есть! – Шуберт ловко запрыгнул в комнату. Первым делом он поднял свою «Беретту», затем – автомат старшины. Еще два автомата он вытащил из угла. И только после этого направился к письменному столу и поднял пистолет лейтенанта, с интересом его рассматривая. Тем временем Иван Григорьевич снял с плеча левой рукой автомат у рядового, который ошпарился кипятком.
– Сержант!
– Я!
– Обыщи старшину. У старшины еще пистолет должен быть. А потом – лейтенанта. Где-нибудь в голенище у него штык-нож хоронится.
Меня в очередной раз поразил обходчик путей! Он прекрасно помнил, у кого какое оружие. К тому же, во время… э, как бы это сказать… короткой перестрелки, он единственный среди нас оставался хладнокровным, стоя как статуя в дверях опорного пункта.
– Ты! – Иван Григорьевич ткнул автоматом, как указательным пальцем, в сторону рядового с лавочки. – Освободи арестанта, а ключи передай ему!
Рядовой послушно выполнил приказ. Немного обалдевший Федор Толсторюпин вышел из клетки и принял ключи, не зная, что с ними делать.
– Федор, держи! – снял с плеча второй автомат железнодорожник. – Помести арестованных на временное место жительства, которое только что освободил.
– А откуда вы меня знаете? – раскрыл рот Федор.
– Федя, не щелкай клювом, слушайся старших! – крикнул я из темноты.
– Олег, ты, что ли? – расплылся в улыбке Толсторюпин.
– Я, я! Головка… от примуса! Кому говорят, не теряй времени!
Федя загнал с энтузиазмом в зарешеченный закуток эмгэбэшников, не преминув дать хорошего пинка лейтенанту.
– Погоди, не закрывай. Пусть Стопка подойдет сюда, – опять приказал Иван Григорьевич, наклоняясь над старшиной. Шуберт уже вытащил из кобуры у старшины «ТТ» и теперь вертел его на пальце, как заправский ковбой.
– Смотри-ка, семеркой шарахнул! – радостно сообщил, скорее всего мне, железнодорожник. – Я-то думал, что у меня в патронташе одна картечь. Ан, нет! И мелкая дробь попадается! Так что у старшины все до свадьбы заживет! Только кровь хлещет, не останавливается.
Я нисколько не разделял энтузиазма Ивана Григорьевича. Во-первых, в случае серьезной стычки дробь номер семь не нанесла бы вреда. Во-вторых, я желал старшине до конца жизни не садиться на зад! Ему очень шли команды: смирно, вольно и кругом!
– Рядовой Стопка, принесите аптечку! Есть там бинты? Есть? И быстро перевяжите старшину. Олег! Хватит стоять под окном, как Ромео в ожидании Джульетты. Заходи!
Я вошел, и Шуберт тут же передал мне два автомата. Себе он оставил один, а пистолеты лейтенанта и старшины рассовал по карманам.
– Куда мне два? У меня же ружье есть, – проворчал я.
– Ружье с патронташем давай сюда, – сказал Иван Григорьевич. – Федор! Собери у арестованных боеприпасы.
Лейтенант презрительно смотрел из-за решетки на нашу суету. Наша команда мало походила на боевое подразделение. Он что-то соображал, а потом сказал:
– Скоро сюда прибудет подкрепление. Выстрелы были слышны очень далеко. Так что советую вам самим сдаться, пока не поздно…
– Заткнись, – спокойно остановил его Иван Григорьевич. – Будешь болтать – пришью. Выкормыш Берии. Все, кончилась ваша власть. Скоро Берию расстреляют. А ты – не будь дураком, сотрудничай… Газету лучше изучай! Федя и рядовой Стопка, занесите старшину к арестованным.
Когда все было сделано, Бойко, подумав с полминуты, загнал Стопку в клетку и повернул ключ в замке. Ключи он положил на стол. Посмотрел на черный телефон без диска, взял его в руки, оборвал провод и со всей силы грохнул об пол. Черные осколки разлетелись по комнате.
– Так, друзья-товарищи, операция еще не завершена, – обратился он к нам. – Подкрепление не подкрепление, а милиционер точно сюда прибежит. Так что быстро-быстро исчезаем!
Едва мы выбежали из опорного пункта, как услышали вопли эмгэбэшников:
– Помогите!
– Деру! – дал простую команду железнодорожник. И мы дали деру!
43.
-Cижу на нарах, как король на аменинах! – кто-то явно фальшивил, а потому меня разбудил. Я глянул с полки, и увидел сидящего у окна лысого субъекта, который держал мою гитару дном барабана кверху и стучал по нему, как по там-тамам.
– Оставь гитару в покое, раз играть не умеешь, – проворчал я.
– Что? Кум мучает, корефан? Отходняк? – спросил лысый, обнажая в улыбке медные (а может, золотые?) фиксы. – Ширнулся, чумовой? Антрацита перехавал?
– Перебрал малость, – подтвердил я, не понимая и половины из того, что мне он говорил, но чувствуя, что речь об этом.
– Тебе бы косячка забить, плана взорвать. Но я секу – нет на этом крокодиле кровососа.
– Кого нет? – удивился я.
– Я вижу, совсем ты дикий фраер. По фене не ботаешь? – усмехнулся лысый. – На поезде, говорю, банкира нет. Ну, торговца дурью.
– Мне бы водочки, – простонал я.
– Башли чо ли есть?
– Башлачева?
– Нету? Я так и знал, – гоготнул лысый. – Сильно ты закумарился, кайфанул от души! Какой-нибудь марухе лохматый сейф вскрывал? Пистон вставлял? Или она краснучкой запечатанной оказалась? А ты калошу не надел? Смотри, премию не поймай: генерала, чайник или сиф! Мухой к пенисману поканаешь! Слезай уже, держи мазу. Кентоваться будем.
Я нехотя спустился на нижнюю полку.
– Ну, у тебя и вывеска! Ботву причеши. Мордомаза с мордоглядом, звиняйте, нету! – продолжал потешаться лысый незнакомец. – Какой масти будешь? Чиграш, скрипач, боксер, босяк или шлепер?
– Боксер, – меланхолично ответил я.
– Я так и подумал, что баклан, – сверкнул фиксами лысый. – Давно на большой зоне? На заборе расписался или по полной – до «звонка»?
– Слушай, – сказал я, поморщившись. – Хочешь побазарить – достань водки.
– Может, у тебя рыжье есть? Или шмотки ненужные?
– Шмотки? – я вспомнил про пиджак Толсторюпина, который ему подарил Платов. Теперь он служил мне подушкой, а бывшие хозяева про него наверняка забыли. – Вот – пиджак загони.
– Паленый?
– Подарили.
– Гоп-стоп, значит, – лысый внимательно осмотрел пиджак, проверил карманы. – В нутряках – голяк. Лавсан этот на полпузыря тянет. Ни один барыга больше не даст. Да и барыги на змее нет.
– На змее?
– Да на поезде! – ответил лысый. – Дикий фраер, а говоришь, у дяди на поруках был. Ты когда по бродвею гулял, катрана не заметил? Огонек? Ну, где святцы читают? Стирами бьются? В картишки?
– А, – наконец понял я, – через вагон мужики в «дурака» режутся.
– Дело верное, – обрадовался лысый. – Мужиков на конверт возьмем. Знаешь, с кем ты закорешился? С дергачем-стирогоном! Погоняло – Лысак. А твоя кликуха?
Я пожал протянутую мне руку и внимательно присмотрелся к лысому. Кого-то он мне сильно напоминал. Древнего римлянина, если бы молчал.
– Поручик, – ответил я. – А тебе бы больше подошла кликуха – Цицерон.
– Ну, ты гамму не гони, баклан, – обиделся Лысак. – Я же тебя чушпаном не обзываю. А за базар и ответить можно.
– Да ты что? – искренне удивился я. – Цицерон античный мыслитель, уважаемый человек!
– Пахан, значит? Тогда – ништяк, – Лысак перекинул через руку пиджак и встал. – Пошли?
– Тоска, – замотал я головой.
– Вижу, – усмехнулся Лысак. – Долбата. Поканал я на огонек. Есть что на кон поставить.
Лысый ушел, а я забрался опять на полку и задремал. Вскоре меня ткнули в бок чем-то твердым и холодным. Я повернулся и увидел Лысака с бутылкой водки в руке. Золотые фиксы весело блестели.
– У меня закусон есть! – радостно сообщил я, бодро спрыгнул с полки и достал сумку с продуктами. В ней было еще чем поживиться! Мы разлили водку по стаканам и чокнулись. Лысак был словоохотлив, видимо, профессия картежника обязывала. Он показал мне наколку – «купола». На церкви были вытатуированы четыре купола.
– Четыре ходки, – пояснил Лысак. Он показал и другую татуировку – руки, закованные в наручники, держали розу. – 18 лет исполнилось в ВТК. Я с «малолетки» по фортам. И сейчас неделю как академию закончил. На гастроли еду. Я могу, конечно, пижонов развести, но не буду светиться до поры. Хочу шмеля добыть.
– С «малолетки»? Ты что – детдомовский?
– Нет. Папаша у меня имеется, – горько усмехнулся Лысак. – Коммуняка, идейный. Мальцом слямзил я у одного лоха фонарик. Домой принес. Батя шмон навел, фонарик нашел и по морде мне фонариком звезданул. Мазу держал, воспитатель хренов! Я тогда еще больше сблатовался. С кодлой стопарил пассажиров, махался со шпаной. Папаша мочалил меня, мочалил – ноль на выходе. Тогда он раз нагрянул на флет-хату, схватил меня за руку и прямиком к куму повел. С тех пор – четыре ходки. Не жалею – порядочные люди попались, уму-разуму научили… Пойдем, взорвем! – вдруг оборвал разговор Лысак.
Я понял, что меня зовут покурить. Взял пачку сигарет и пошел с лысым зэком в тамбур.
– А кто твой отец по профессии? – спросил я.
– Железнодорожник, – ловко пуская колечки дыма, ответил Лысак. – Иван Григорьевич Бойко.
44.
Мы возвращались почти бегом, а потому больше молчали. Сзади раздались крики, потом несколько выстрелов из пистолета. Иван Григорьевич развернулся и, не останавливаясь, дал очередь из автомата почти в небо. Погоня затихла.
– Поднажмите, друзья-товарищи, – подбодрил нас обходчик путей.
У своего домика он разрешил нам передохнуть, собрал автоматы. Пистолеты старшины и лейтенанта ему Шуберт не отдал: «Трофеи!» Бойко занес оружие внутрь, спрятал его в подпол, закрыл люк половиком.
– Найдут, хрен с ним! А светиться с оружием нельзя, – пояснил Иван Григорьевич. – Сейчас минут через пять наш поезд будет, далеко от портала не отходить.
– Федор, – спросил я Толсторюпина, – били тебя?
– Били, – тяжело дыша, ответил Федор. – Старшина больше всех старался. Это он мне фонарь поставил. Они, когда меня скрутили, первым делом паспорт потребовали. Тут лейтенант какую-то хрень стал говорить. Что документ у меня поддельный, что я не могу быть 1962 года рождения, потому что сейчас 1953-й! Вольтанутый совсем! Потом в опорный пункт привели, бумаги какие-то достали, вообще стали такое дело шить, что я решил – точно в дурдом попал!
– Что они тебе шили?
– Что фамилия моя дворянская и состоит из двух. Толстой и Рюпин. Граф Толстой и баронесса Рюпина – мои прадедушка и прабабушка. А, значит, я – белый эмигрант. Заслан западногерманской разведкой для диверсионных действий.
– А ты и вправду потомок Толстого? – спросил я с интересом.
– Да откуда я знаю? В Толсторюпинке действительно поместье было. А жил ли там Толстой, я не знаю, никто из наших не говорил.
– Байстрюк ты графа Толстого, вернее, дед твой – байстрюк, – пошутил Шуберт.
– Ты того, не скалься, а то – двину! – пригрозил сержанту Федор Тосторюпин, внебрачный внук великого русского писателя и шаловливой баронессы. – Нечего материться, ни в п..ду, ни в Красную Армию!
– Байстрюк, значит, внебрачный сын барина, – миролюбиво пояснил железнодорожник – сорок-тысяч-томов-прочитавший. – А сержант тебя, между прочим, друг-товарищ, из-под ареста вызволил, ты ему спасибо должен сказать, а не в морду двигать!
– Спасибо, – стушевался Толсторюпин, – Слово-то какое-то… э… матерное.
– Такое оно и есть, – сказал я тоном специалиста. – Только это уже архаизм, наподобие идолища!
– Что!? – Толсторюпинские глаза бешено округлились. – Ты это… сталистика…
– Ша, молодежь! Поезд подходит. Залезай, не мешкая, полминуты стоит, – осадил наше зубоскальство Иван Григорьевич.
Вскоре мы были уже в поезде.
45.
-На дальняк схожу, тещу с зонтиком навестить, – сказал Лысак, притушив сигарету.
– Кого?
– Эстраду. Ну, на очко! – усмехнулся Лысак.
Я вернулся к столу, взял с полки гитару. Некоторые струны расстроились, я стал их подкручивать.
– О, у нас музон! Давай, боксер, продай талант! Кипиш! – забалагурил вернувшийся зэк. – Пошел кураж. Дави песняка!
Мы стали горланить песни, нисколько не беспокоясь о соседях. А те – молчали. Может, концерт им был по душе, а может, просто боялись сделать замечание сомнительным личностям. Так мы, не торопясь, приговорили водку, а потом песни прекратились. Горючее кончилось.
– Догоняться будем? – спросил Лысак.
– Будем! – решительно заявил я.
– Только у меня не на что играть, – развел руками Лысак. – Может, гитару загоним?
– Э, нет! Гитара – это хлеб, она меня кормит, – запротестовал я.
– Как она тебя кормит? В переходах, что ли, бомбишь? – скептически поинтересовался лысый.
– В дороге кормит. Где водки плеснут за песни, где поесть дадут, – сказал я. – Ехал я как-то в Иркутск. Играл всю дорогу напролет. С перерывами на еду и сон. Иногда попадался игрок получше, я с удовольствием передавал ему гитару, смотрел и слушал. Пассажиры сильно меня зауважали, делились всем, чем могли. Послушать приходили даже из дальних вагонов. Я такое признание впервые встретил, знаешь, как меня это вдохновило? А поезд наш был дополнительный, на каждой станции простаивал. Он опаздывал уже суток на трое. Вообще, в поле встанет и ждет, когда мимо по строгому расписанию поезда пройдут. У всех запасы продуктов закончились, в ресторане тоже все смели. И затовариться негде. Манная каша лишь осталась. Раздавали ее только детям. А мне притащили аж две порции – ты, говорят, главное, пой, а то совсем тошно будет. Тебе силы нужны…
– Ха, – сказал Лысак. – На пару тарелок хавки и заработал! Разве это дело?
Он взял у меня гитару и внимательно ее разглядел:
– Пузырь дадут, не больше, – сказал он. – С червоточиной она у тебя. Вот, смотри.
Я, действительно, обнаружил на барабане рядом с розеткой отверстие толщиной с двухкопеечную монету. Я потряс гитару и услышал, как внутри что-то перекатывается. Перевернул барабан и выкатил предмет на ладонь.
– Масленок, – сообщил Лысак, взяв с моей ладони сплющенный кусок свинца. – Кто-то в тебя из волыны шмальнул.
– Ничего себе! – я почесал затылок и наткнулся пальцами на комочек, напоминающий сгусток крови.
– Масленок отрикошетил от стены, наверняка. Потом в гитару попал. А так бы – тебе хана. Крест корячился, в натуре.
– Не помню, ничего не помню, Лысак, – я пожал плечами.
– Темный ты, – ощерился фиксами Лысак. – Чую я, замели тебя по хулиганке в ломбард на прогулку. Ты во французах только и побывал, не успел сблатоваться, феню не знаешь, понятий. Но – арестант порядочный. Деру дал. Тебя сейчас вертухаи ищут.
– Кто?
– Краснопогонники. Сам видел, по вагонам шныряют, шмон наводят.
– Не по мою душу, – сказал я. – Гитару не дам. Твоя очередь что-нибудь загонять.
– Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый!
А ты не вейся на ветру!
А карман, карман ты мой дырявый,
А ты не нра-, не нравишься вору! – дурашливо пропел Лысак, выворачивая собственные пустые карманы. – Мы догоняться будем?
– Будем, – сказал я и вынул из джинсов ремень. – На – загони, офицерский.
– Не дрейфь! – обрадовался Лысак. – Я его не проиграю, зуб даю. Поставлю только на кон.
– Жду, – обреченно махнул я рукой.
Через полчаса Лысак вернулся и с ремнем, и с бутылкой водки:
– Все ништяк, боксер!
Горячительная жидкость разлилась по жилам, дав дополнительный заряд энергии. Настроение поднялось. Вот ведь как может быть – и ремень на месте и выпивка появилась! Опять пошли песни одна за другой. К концу бутылки меня сморило, и я уронил голову на стол.
– Ну, ты горазд дохнуть! – разбудил меня толчок в бок. Я поднял голову: «Что? Где?»
– В Караганде! – веселился Лысак, держа в руках две бутылки водки. – Похмелидзе с доставкой на дом! Будешь?
– Буду! – протянул я стакан. Мы выпили. Придя в себя, я пошарил рукой рядом с собой в поисках гитары. – А где?
– Что где? – отвел взгляд Лысак.
– Ах ты, сука! – я схватил его за грудки. – Загнал все-таки гитару!?
– Обменял! – оттолкнул меня Лысак. – Ты сидишь, кумаришь! Жабры горят! А они больше библию не читают, тоже кумарят. Еле уладил. Махнул, не глядя, гитару на два пузыря. А ты сучишь беспредельно, хлюст рукопашный!
– Кто они? – спросил я, еле себя сдерживая. Желваки ходили на скулах, зубы скрипели, кулаки сжимались и разжимались.
– Старатели, – нехотя стал объяснять Лысак. – Они из отпуска едут, пустые. Зато водкой затоварились – по самое «не могу»! Мельница закрылась, а так бы я с гитарой вернулся. Я не ветрогон какой-то, а стирогон! Ну, если ты жлоб, метнусь – водку отдам, гитару вызволю.
Я помолчал немного. Гитару, конечно, жалко, но и водки хотелось сильно. Гитара – не дефицит, купить можно. А водки и впрямь сейчас так просто не достать.
– Оставь, – решил я. – Как старатели проснутся, попробуй гитару отыграй. Скучно без гитары.
– Замяли? – повеселел Лысак и хлопнул ладонью по моей ладони. – Не ссы, боксер, отыграю! Заметано!
Я понял, что с моим попутчиком надо держать ухо востро, как бы он ни втирался в доверие, было ясно – он грамотно меня разводит. С другой стороны – водка есть? Есть! Да пошло оно все прахом! Наливай!
Мы к утру опять все приговорили, но спать так и не ложились. Лысак рассказывал о зоне, понятиях, которые нарушать западло. О беспределе и вертухаях. О медвежатниках и марвихерах. О буграх, шестерках и «петухах». О суках и козлах. О светофорах и куме… Половину из того, что он рассказывал, я не понимал. Особенно когда Лысак сильно по фене ботал. От водки и рассказов Лысака в голове царил сумбур. Он часто повторял, что мечтает «добыть шмеля». Видимо, это была фартовая добыча, которая бы обеспечила Лысаку безбедную жизнь до самой пенсии. Хотя какая пенсия у картежника и вора? «И ждет меня не пенсия, а срок!» Шмель мне представился большим и жирным, его желтые полосы на черном лохматом теле отливали червонным золотом, как фиксы Лысака. Шмель лениво и низко летел над землей, прозрачные крылья его медленно двигались вверх и вниз, а Лысак, размахивая коричнево-бурым толсторюпинским «спинжаком», бежал следом, периодически прихлопывая шмеля. При этом зэк выкрикивал: «Зяблик чуханистый, верблюд брусковый, мышь чердачная, ишак с дипломом, фраер дикий, шкварка заширенная! Стой, редиска! Я тебя на бригаду кину, машку из тебя сделаю! Мошка с бекасами, дятел вольтанутый! Я тебе луну в очко вставлю, торшером будешь! Замочу, падла! Век воли не видать!» Шмель, как и я, ни черта не понимал, почему его называют верблюдом и дятлом одновременно. Он гудел от натуги и не давался Лысаку. «Шнифты выколю, шнобель сверну!» – не унимался Лысак, выбивая пыль из шмеля. «Хрю!» – сказал ему шмель.
– Что «хрю»? – остановил фонтан красноречия Лысак.
– Ничего, музыкой навеяло! – ответил я, отгоняя наваждение. Порядочным людям зеленые чертики мерещатся, а мне – шмели величиной с ишака!
– Метнусь к старателям, может, проснулись, – сказал Лысак, потирая покрасневшие глаза. – Идти только не с чем. Может, рубашку твою толкнем?
– Лысый, хочешь в глаз? – вместо ответа спросил я, показывая сжатый кулак. – Терпение мое сейчас лопнет! Понял?
– Ты меня на «понял» не бери, понял? Борзой что ли? – зло сверкнул глазами Лысак. Договорить он не успел, так как получил удар в челюсть. – Ай, хлюст рукопашный! Точно, боксер! Понял я, понял! Ухожу!
Лысак примирительно поднял руки кверху. Глаза его не говорили о примирении.
– Пошел ты! – крикнул я ему в след.
46.
«…я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное – получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии.
Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение и… вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим – значит, владеть всем. Что до меня, то наше начало – мое и Ассоль – останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?
– Да, капитан, – Пантен крякнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком. – Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку – свой он проиграл в карты».
Я закрыл книгу с тиснением на обложке – «Александр Грин». Федя Толсторюпин сидел рядом и слушал, открыв рот.
– Здорово, – наконец сказал он. – Дай почитать!
– В библиотеке возьмешь! – осадил я его читательский пыл. – Мне Григорьевич в дорогу дал, должен же я как-то время коротать.
– Конечно! – рассмеялась Шахерезада. Мы сидели втроем в ее купе и ждали Ивана Григорьевича. Шуберт ушел к своим дембелям и что-то им плел про свое долгое отсутствие. Путевой обходчик появился внезапно и позвал Федю:
– Давай, друг-товарищ, пора тебе возвращаться!
Федя поднялся, неловко меня обнял и пожал руку. Мне показалось, что у него по щеке покатилась слеза.
– Пишите письма мелким почерком, – сказал я. – Деньги будут – высылай!
– Куда? – на полном серьезе сказал Винни-Пух, моргая голубыми глазами.
– Большая лужа, до востре… – засмеялся я. – Шуток не понимаешь, потомок графа Толстого?
– Сам ты – потомок, – надулся Федор.
– Все, заканчивайте! – занервничал Иван Григорьевич. – Что вы, как кисейные барышни расстаетесь? Еще книксен сделайте! – он вытолкал Толсторюпина в дверь. Федя печально посмотрел напоследок, желая, видимо, сказать что-то, как пират, которого ведут «пройтись по доске» за борт!
– Не катайся больше в поездах «зайцем»! – крикнул я в спину Винни-Пуха.
Как только Бойко и Толсторюпин ушли, Шахерезада прижалась ко мне всем телом и проворковала:
– Я соскучилась по тебе, шалун. Иди ко мне!
Я был не против «идти к ней», хотя десятикилометровая пробежка давала о себе знать. Ненасытная женщина – Шахерезада! Без комплексов и морализма. Делает то, что хочет. Вернее, хочет и делает! Она уложила меня на лопатки. Но раздеться мы не успели, приятное действо прервал настойчивый стук в дверь.
– Олег, выйди! Поговорить надо! – это вернулся Иван Григорьевич. Что-то он очень быстро вернулся!
Железнодорожник пригласил меня присесть на откидные сиденья в коридоре вагона. В руках он держал свою заветную зеленую ученическую тетрадку с цифрами, датами, формулами и схемами.
– Должен тебе сказать, что ты находишься в пути уже три недели! – начал он разговор.
– Как?! – изумился я. – Ты же говорил, что…
– Да, говорил, но мы отвлеклись на некоторое время, – он пошевелил губами, как бы произнося: «три пишем, два на ум пошло». – И это дает в реальном мире такой результат. Мы можем сократить время поездки, но для этого надо пару часов побегать по входам-выходам. И второе – все то, что с тобой было в течение этих трех недель, а здесь – нескольких суток, ты будешь воспринимать даже не как воспоминания, а как сновидения. Есть такой эффект.
– Вот как! – озадачился я. – Неужели все придется вычеркнуть?..
– Думай, – постучал пальцем по своей лысине Бойко. – Я могу прямо сейчас тебя вывести с Листа Мебиуса в трех километрах от станции Половина. Там сядешь на свой реальный поезд, билет есть. И доедешь до Иркутска.
– Я в Ангарске сойду, там родственники, – сказал я.
– Дело твое, думай, говорю, – пожал плечами Иван Григорьевич.
– Дай десять минут, – попросил я и замолчал. Выйти сейчас означало, что я больше никогда не увижу Шахерезаду, афганца Шуберта, да и самого Ивана Григорьевича. Грустно. Но мы же всегда расстаемся со случайными попутчиками, которых встречаем в дороге! Тем не менее я как-то успел прикипеть к ним, не хотелось прощаться навсегда.
– Григорьевич, – спросил я путевого обходчика. – А Шуберт со своими дембелями так и будет ехать на этом поезде по Листу Мебиуса неизвестно куда?
– Да, – ответил Бойко.
– А нельзя ли его вывести, как и меня? – опять спросил я.
– Можно, конечно, – вздохнул Иван Григорьевич. – По уму всех пассажиров надо из этой аномалии выводить. На это нужно время. С каждым индивидуально придется работать, убеждать, объяснять, уговаривать. Не каждый поймет. А у меня сейчас пока времени нет. Задача у меня другая.
– Читать, что ли? – сыронизировал я.
– Нет, не читать, – опять вздохнул Иван Григорьевич. – Я сына своего ищу.
– Сына? – поразился я. До сих пор о своей семье, а тем более о детях он речи не вел.
– Я тебе говорил, что большую часть жизни я работал, заботился о семье, занимался общественной деятельностью, а потом вдруг понял, что упустил огромное количество возможностей! Любил читать с детства, а прочитал всего ничего сто-двести книг. И вот – стал наверстывать упущенное. Когда нашел этот Лист Мебиуса и способ получить от него пользу. Я сажусь в поезд – и читаю, читаю, читаю…
– Я и говорю – читаешь, а причем здесь сын?
– Недавно мой сын вернулся из тюрьмы.
Последовала многозначительная пауза. Я нисколько не удивился: в другой жизни Иван Григорьевич точно был бы Степаном Разиным или Емельяном Пугачевым, а у таких родителей дети вырастают настоящими разбойниками!
– Упустил я в суете сына, ох, упустил. На воровство его потянуло с детства. То фонарик у кого-нибудь стащит, то велосипед. Я уж его лупил-лупил, а он все равно со скользкой дорожки не сходит. Однажды я узнал, где у его шпаны «малина», пришел туда с дружинниками, схватил сына за руку и повел в комнату по делам несовершеннолетних. Так и так, мол, оформляйте в специальную школу для трудновоспитуемых детей. Я – коммунист, член райкома партии, меня уважают. Оформили быстро, без проволочек. Думал, образумится сын. А из него там настоящего урку сделали! Так он срок за сроком отсиживал. Только выйдет на свободу, через месяц-другой – опять загремел. Я поначалу ездил на свидания, но он не хотел со мной встречаться. «Грев», говорит, посылки, значит, высылай, а сам не приезжай, видеть тебя не хочу. Он между сроками даже ни разу и домой-то не являлся. А тут месяц назад нагрянул. Я обрадовался, думал, простил сын, на путь истинный встал.
– Встал на путь истинный? – спросил я.
– Какое там! – Иван Григорьевич с досадой махнул рукой. – Все это было военной хитростью. Неделю нормально жил, отсыпался, вечерами мы с ним «бойковку» попивали. Потом он с зятем подрался (мужем дочери), порвал ему селезенку об угол стола, вилкой руку проколол. Еле дело уговорил не заводить. Дальше – больше! На улицах стал пропадать, думаю, грабежами промышлял, в рестораны наведываться. От разговоров насчет устройства на работу уклонялся. Но раз вечером насел я на него, упрекать начал, воспитывать. Так он мне в ответ такого наговорил, что не выдержал я – ударил. Он только этого и ждал, налетел, как зверь, на пол повалил, ногами стал бить, сломал два ребра, выбил вставную челюсть и ногой ее раздавил. До потери сознания меня избил. Сам «скорую» вызвал, в больницу отправил. Я через неделю наведываюсь домой, а там – шаром покати. Телевизор, ковры, посуда, радиоприемники, магнитола, белье, одежда, мебель – все исчезло. Загнал мой сыночек барыгам по дешевке!
– Ни хрена себе! – присвистнул я.
– Стал я его искать, да где там. Ищи ветра в поле. Все-таки у дружков его подельников узнал, что покатил Лысак (его так дружки называли, Григория моего!) в стольный город Москву. На большое дело. А через нашу станцию только вот этот поезд и идет – «Москва–Чита»!
– Так он на этом поезде? – догадался я.
– На Листе Мебиуса. Я ж ему про эту аномалию тоже рассказывал. Он не верил, сказки, говорит. А здесь его очень непросто отыскать! Я ж этим и занимаюсь! Читаю-то между делом. Все ищу его и ищу. Вернуть на Землю хочу, может, и посадить, если не покается.
– Сомневаюсь, что он покается, – покачал я головой.
– Но нельзя ему здесь находиться, беды натворит. Мое упущение, моя ошибка. И я должен все исправить. А уж когда с сыном разберусь, буду вызволять с этого поезда остальных пассажиров. Ну, да ладно. Соловья баснями не кормят. Что ты решил?
– Буду выходить. Если столько времени потеряно, больше терять нельзя. Но и вычеркивать все из памяти я не хочу.
– Да не из памяти, из жизни, – поправил Бойко. – Тогда надо уходить по-английски, не прощаясь. Вещи?
– Все свое – ношу с собой! – бодро ответил я.
– Молодец, друг-товарищ, философ! – похвалил меня человек сорок-тысяч-томов-прочитавший. – Пошли?
– Поехали!
47.
Собака, укусившая хозяина, ведет себя виновато и подобострастно, поджимая хвост и заискивая. Подобную картину представлял собой и Лысак, вернувшийся примерно через час. Ласковым голосом, как ни в чем не бывало, он начал разговор:
– Прикинь, боксер, старатели не хотят на гитару играть. У них свой талант по струнам бряцает. Базарят, пусть твой музыкант блеснет. Тогда, может, и поставят ее на кон.
Я подозрительно посмотрел на Лысака. Я догадывался, что он затеял какую-то игру. Но какую? Понять не мог. Больше у меня нечего было взять, чтобы проиграть в карты. Какого тогда черта?
– Похмелить обещали! – ощерился фиксами Лысак. Это был весомый аргумент.
– Ладно, пошли, – поднялся я решительно. Лысак отступил на шаг.
Старатели все сплошь были бородатыми и поддатыми. Четверо сидели за столом, пятый спал на второй полке. В стаканах плескалась водка, на засаленной газете лежали картошка и хлеб, а также колода карт. Один старатель с черной бородой играл на моей гитаре. Слова он бубнил, я отчетливо слышал лишь: «Москва–Воркута». Нам кивнули на водку. Выпили, присели. Черная борода закончил петь и протянул мне гитару:
– Изобрази что-нибудь.
Я не знал, какие песни здесь принимают, и запел что-то гусарское. По кислым рожам понял – не то. Сыграл еще что-то ритмическое. Опять мимо.
– Не, – сказал Черная борода, – гитару не вернем. Самим нужна.
– Пошли, взорвем, – с досадой позвал меня Лысак и двинулся в сторону тамбура.
– Погоди, – потянул меня за рукав Черная борода. – Сядь на минуту.
Лысак посмотрел многозначительно на всех и ушел.
– Паря, будь осторожен с этим… лысым, – зашептал мне на ухо пьяный бородач, от него несло недельным перегаром. – Он тебя нам в карты проиграл.
– Чего? – не понял я.
– Чего-чего! – передразнил Черная борода. – Мочить он тебя будет. Нам-то это на хрен не нужно. А он совсем свихнутый на своих понятиях. Поставил на тебя – и проиграл. Карточный долг, говорит, долг чести. Короче, берегись этого шакала!
У меня пересохло в горле, а сердце бешено забилось в грудной клетке. Несколько секунд я пересиливал накатившийся страх. Драка – это одно. Там все знакомо. А если тебя убивать собираются… не пистолетом же? Откуда у Лысака, как он говорит, волына? Значит, ножом. Что я могу противопоставить ножу? Кулаки? Гм, маловато будет. Бокс – это даже не каратэ и не самбо. Я уже поднялся и шел в направлении тамбура (не хотел показаться трусом перед старателями-бородачами), а мозг мой включился на полную катушку и лихорадочно проворачивал варианты схватки. Дубинку бы мне! Да где ее взять? И тут я вспомнил один английский детектив, где главный герой, отбиваясь от мафии, зашел в бар, разменял фунт стерлингов на мелкие монеты, потом в туалете снял носок, насыпал туда мелочи и получил в результате полукилограммовую биту! Носки у меня есть, а где мелочь взять? Вот подсказка! Напротив туалета, на крышке бачка для мусора стоял в глиняном горшке увядший кактус. Видимо, он долго служил проводнице домашним растением, но срок подошел и кактус стал желтее песка. Землю в горшке можно использовать вместо монет.
В туалете я снял ботинки, затем носки. Надел ботинки на босу ногу. Один носок вставил в другой, потому что у них была повышенная «дырчатость». Чтобы понадежнее было. Пальцами выскреб засохшую землю и плотно утрамбовал ее в сдвоенный носок. Почувствовав необходимый вес, завязал на два узла. Носочно-земляную биту сунул в карман.
– Че, обосрался, баклан? – встретил меня в тамбуре Лысак. Он резко вытащил из кармана «кнопарь» и наставил его на меня. Лезвие мгновенно выскочило из рукояти и заблестело. Лысак слегка присел и кошачьей походкой двинулся в мою сторону. – Сейчас тебе лампадку задуем! Мухой деревянный бушлат напялишь!
Я вытащил свою биту и стал ей размахивать перед Лысаком. Он немного озадаченно на нее посмотрел и слегка отступил. Потом, оскалив по-звериному фиксы, прыгнул в мою сторону:
– Умри ты – сегодня, а я – завтра!
Бита ударила по запястью его руки, в которой был нож. Резкий и сильный удар заставил Лысака выронить «кнопарь». Не дожидаясь следующего хода от урки, я возвратным движением влепил, что было мочи, биту в правое ухо Лысака. Он отлетел к вагонной двери. Я придавил ногой нож и отфутболил его себе за спину. Выпрямившегося Лысака я стал интенсивно обхаживать землей в носке, полкилограмма которой весит столько же, сколько и полкилограмма металла. Лысак закрывался руками и оседал. Мне нисколько его не было жалко, я периодически пинал его ногами, бил битой, бил левой рукой. Этот… падла хотел меня пришить, как какого-нибудь котенка! И рука у него не дрогнула бы! Когда Лысак совсем обмяк, я отбросил биту и схватил его за грудки:
– Ну, что, гад? Сам сойдешь с поезда или тебе помочь?
– Сам, – еле слышно проговорил Лысак, поднимая руки вверх. Он был весь в крови и не сопротивлялся.
Я открыл вагонную дверь (ну почему в поездах так часто оставляют двери открытыми?). Подумал немного и поднял металлическую площадку, прикрывавшую ступени. Так сподручнее будет прыгать, меньше шансов переломать кости.
– Давай, Лысак, не томи! – процедил я сквозь зубы.
Тот попытался дернуться, но получил удар под дых. Поняв, что высадка неизбежна, медленно стал спускаться по ступенькам, пытаясь восстановить дыхание. Он выбрал момент, когда промелькнул столб, и прыгнул, кубарем покатившись по откосу. Я проследил – поднимется или нет? Поднялся и помахал вослед кулаками, что-то крича. Он был уже далеко и слов я не мог расслышать. Но смысл понял однозначно: «я тебя найду и грохну!»
Я опустил площадку, закрыл дверь и вернулся к старателям. Взял со стола полстакана водки и молча его замахнул. Руки мои были испачканы землей и кровью. Они дрожали мелкой дрожью. Старатели внимательно наблюдали за мной, но ничего не говорили. Более-менее было все ясно. И все-таки Черная борода решил уточнить:
– А где лысый?
– Тещу пошел навестить, – буркнул я, – с зонтиком.
– Гы! – удовлетворился ответом Черная борода.
Я не хотел оставаться в компании старателей и ушел в свое купе. Вымыл тщательно руки без мыла. Его всегда нет в плацкартных вагонах! Забрался на вторую полку, подвернув под голову матрас (толсторюпинский пиджак-то пропили!), и предался раздумьям.
Картина избитого Лысака не давала покоя. Я понимал, что кто-то из нас должен был одержать верх. Если бы победил Лысак, то я бы тут уже не размышлял. Выходит, иначе с такими нельзя? Они понимают только язык силы, боли и страха? Но неужели я сам такой? Зверь, с трудом принимающий условности цивилизованного мира? Неужели без мордобития ничего не решить? Вопросы лезли в голову, как после тяжелого ранения Болконского. Он лежал возле многовекового дуба и думал: «Зачем война? Зачем люди убивают друг друга?» Сплошная толстовщина. И вроде бы я был кругом прав, но совесть-иголка колола и колола прямо в сердце: «Зачем ты так поступил?»
В вагоне было непривычно тихо. А я пытался уснуть, хотя время было примерно обеденное. Сон снимает нервное напряжение, восстанавливает силы. Тело просило сна, но мозг не хотел отдыхать. Я слез с полки и пошел курить.
48.
Непривычный звук – гудение мечей Джедаев – сопроводил нас при выходе из портала.
– Иди вдоль железной дороги. Минут через сорок дойдешь до станции Половина, – показал рукой Иван Григорьевич. – Твой поезд будет через час. А там садись в свой вагон и…
– Неужели больше не встретимся? – прервал я железнодорожника. – Я не увижу ни Шуберта, ни Шахерезаду? Тебя не увижу больше никогда? А, Иван Григорьевич? Очень мне понравились разговоры с тобой, особенно под «бойковку».
– Хех, – улыбнулся Бойко, снял фуражку и вытер платком пот с лысины. – Мы с тобой еще обязательно встретимся. Лет через семь. Ты станешь редактором газеты, мы с тобой снова познакомимся.
– Кем угодно, только не редактором! – возразил я. – Люблю вольную жизнь корреспондента. Собирай материал, отписывайся вовремя и получай гонорар к зарплате. А редактор – хозяйственная должность, административная. Забот полон рот. Бумага, типография, деньги, разборки в судах, нагоняи от начальства. Что ты, Григорьевич, не мое это!
– Ты станешь редактором, – мягко, но настойчиво повторил путевой обходчик. – Будешь писать серию очерков о ветеранах Великой Отечественной войны. Так мы с тобой познакомимся во второй раз – ты будешь писать обо мне очерк. И возобновятся наши с тобой разговоры за бутылочкой «бойковки».
– А как на моем личном фронте? – переменил я тему.
– Оглянуться не успеешь, как женишься! – засмеялся Иван Григорьевич. – Детишек двое у тебя будет: мальчик и девочка. Хочешь скажу, как ты их назовешь?
– Не надо! – поднял я ладонь в протесте. – Оставь это на мое усмотрение. Не внушай ничего. Сам назову, сам! Да и сомневаюсь я на счет скорой женитьбы…
– Опять скажешь – не твое это? – рассмеялся Иван Григорьевич.
– Ага! – я тоже рассмеялся. – Мне бы погулять еще. С такими вот, как Шахерезада! Ты, кстати, объясни ей все, от меня привет передай и извинения. Ну, и вытащи ее оттуда, с этого Листа Мебиуса.
– Сначала с сыном разберусь, говорил же, – поворчал Бойко. – Потом вытащу. И Шуберта, и красавицу твою. А всех пассажиров – помощь понадобится. Возможно – твоя. Лет через семь.
– Григорьевич, ну ты, вообще, как Нострадамус заговорил. А еще материалист, член партии.
– Так я тебе не о будущем рассказываю, а о прошлом. Какие же это предсказания? – невинно удивился Бойко.
– Ладно, Григорьевич, не перегружай мой мозг. И так голова кругом идет. Переварить все надо, привыкнуть.
– Вот-вот. А ты хочешь целый железнодорожный состав из аномалии вытащить, – сказал Иван Григорьевич. – Люди не смогут смириться с мыслью, что они бесцельно мчатся по Листу Мебиуса вне времени и пространства. Надо же будет сломать привычный образ жизни. От этого можно сойти с ума. «Выходите, гражданин, вы свою остановку проехали. Вы, гражданин, опоздали на несколько лет, придется жизнь заново начинать!» А ты представь себе какого-нибудь молодожена, который мчится на поезде к своей любимой. Сходит он с поезда, а у него сын уже в ясли ходит. Как так? Жена беременна была всего на третьем месяце?
– М-да, не все так просто, – согласился я. – Огромная разъяснительная работа нужна.
– И я о том же! – железнодорожник похлопал меня по плечу и пожал руку. – Бывай, Олег! Свидимся еще, обещаю!
– Буду рад, Григорьевич! – растрогался я. – Интересный ты человек!
Бойко исчез в гудении аномального входа-выхода. Я, опасаясь опоздать на реальный поезд, быстрым шагом последовал к станции Половина. Три километра я преодолел за полчаса и остаток времени провел в зале ожидания, рассматривая ожидающих и провожающих. В селе Половина мы гуляли свадьбу моей сестры. Здесь жили родственники ее мужа – отец, мать, брат, сестра… Свадьба была шикарной, не такой масштабной, как у Сашки Нетленного, зато девушек было очень много! Весь курс института, на котором училась сестра. Плюс местные девушки! А я – один парень на деревне. Мужики на свадьбе были, в основном, в возрасте. А я – молодой да еще с гитарой! Ух, какая это была игра плоти! Может, увижу знакомые лица? Зайти в гости, я, разумеется, и не планировал.
Вскоре объявили прибытие поезда «Москва–Чита».
49.
В тамбуре оказалось много курящих, и я пристроился к окну напротив туалета. Здесь уже пускал дым тонкой струйкой средних лет мужчина в темно-сером костюме, в белой рубашке и темно-сером галстуке (это летом-то!). Он посмотрел на меня слегка брезгливо темно-серыми глазами. Глаза были пустыми-пустыми! Не человек, а функция!
– Можно спросить? – вежливо, но подчеркнуто сухо обратилась ко мне функция.
– Валяйте! – не очень вежливо ответил я, так как мне уже все не очень нравилось!
– Когда вы перестанете вести такой образ жизни? – спросила функция.
– Какой такой образ? – я был несколько обескуражен.
– Вы пьете, деретесь, хулиганите, орете песни, мешая окружающим, ведете непотребные разговоры, терроризируете весь вагон!
Я стал краснеть, потирая небритую щетину на щеке.
– Как я понял из разговоров с вашим… э… дружком, вы недавно освободились из мест не столь отдаленных. И вместо того, чтобы начать правильный образ жизни, действительно встать на истинный путь исправления, подумать о нормальной профессии, получить новые знания, то есть выучиться на кого-нибудь, на слесаря, например (хорошая профессия!), вы продолжаете идти скользкой дорожкой уголовного элемента!
У меня аж дух захватило! Вот чешет, вот заливает! Пропагандист и агитатор, сказал бы Платов, эрудит, тудыт, твою, растудыт!
– Посмотрите на себя! – вдохновлено продолжал, ободренный моим молчанием, человек в темно-сером костюме. – Небриты, неопрятны, не причесаны, руки трясутся, ногти не стрижены, круги под глазами, лицо от пьянства опухшее, от вас разит перегаром! Разве вы можете быть полноценным членом общества? Подумайте об этом! Профессия вам необходима как воздух. Рабочий класс примет вас в свои ряды и сумеет воспитать в духе…
– Есть у меня профессия, – прервал я словесный поток.
– Позвольте поинтересоваться, – с ехидцей сказала темно-серая функция. – Это, как у вас там – у уголовников: карманник или медвежатник?
– Журналист! – я увидел недоверие в глазах собеседника и вытащил на свет Божий студенческий билет. – Учусь я в университете на факультете журналистики.
Функция остолбенела. Он никак не мог соединить один образ с другим. У него в мозгу замкнули какие-то цепи, логические связи нарушились, весь мир полетел в тартарары! Я думал, что он, как киборг, сделанный из легковоспламеняющегося материала, расплавится у меня на глазах, превратившись в кучку неаппетитной массы. Но он только возмущенно всплеснул руками:
– Ну, если у нас такие журналисты, то я – умываю руки! – темно-серый человек демонстративно развернулся ко мне спиной и вошел в туалет. Дверь захлопнулась, защелка повернулась на позицию: «занято».
«Мочой, что ли, пошел умывать руки? Сволочь!» – подумал я, но вслух сказал:
– Вы всегда в жару так одеваетесь?
В ответ была нажата педаль слива воды. Вода забурлила в унитазе.
«Тещу с зонтиком навещает!» – поставил я диагноз.
Нелицеприятный для меня разговор не прошел даром. Я понял, что действительно необходимо привести в порядок свою внешность. Но туалет был занят воинствующим моралистом. Есть еще один туалет, которым пользуются проводницы. Может, он открыт?
– Подъезжаем к станции Половина, – сказала линкорообразная проводница. И почему она всегда поворачивается ко мне кормой? Ей так сильно осточертели пассажиры? Или она любит демонстрировать единственное свое достоинство?
– Почему станция Половиной называется? – мне что-то объясняли раньше, но я забыл.
– Это потому что от Москвы до Владивостока как раз половина пути. Вот станцию так и назвали.
Я проскользнул мимо проводницы и нажал ручку ее персонального туалета. Ручка поддалась. «Здорово, не успела закрыть» – обрадовался я и вошел в туалет…
Что-то яркое до боли в глазах на секунду ослепило меня.
Рядом с открытой форточкой висела… шаровая молния!
50-51.
Рядом с открытой форточкой висела… шаровая молния!
Я замер, боясь шелохнуться. Где-то в научном журнале я вычитал, что нельзя при появлении шаровой молнии делать резкие движения, даже дышать. Нужно представить, что перед тобой бешеная собака. И вести себя соответственно. Шарообразная масса искрилась и слегка гудела. Она будто состояла из множества нитей, собранных в один клубок. Я не понимал, почему я могу ее рассмотреть, так как по законам физики ее свет не должен был дать мне это сделать. Тем не менее, я ее рассматривал, затаив дыхание. Пахло озоном, кончики пальцев покалывали невидимые иголки. Не к месту вспомнилось о том, что люди, злоупотребляющие алкоголем, являются сверхпроводниками электричества. Шар золотистого цвета с оттенками светло-голубого весь был покрыт микромолниями, маленькими электрическими разрядами.
«Ты боишься?» – спросил шар.
«Есть немного».
«Мы не причиним тебе вреда»
«Кто это – мы?»
«Мы уже встречались».
«Это был сон».
«Нет, это был не сон».
«Почему вы здесь?»
«Ты сумел вернуться из нематериального мира в материальный. Мы наблюдаем, как твоя раздвоенная личность объединяется в одном теле».
«Раздвоенная личность? Это не метафора?»
«Нет. Посмотри в зеркало».
Я осторожно повернул голову к зеркалу. Отражение двоилось. Причем я видел себя не в анфас, а – в профиль. Одно отражение смотрело налево, другое – направо. Медленно сливались затылки, потом – уши. Двуликий Янус! В глазах зарябило до слез. И вдруг добавился еще один голос:
«Ни хрена себе, сходил за хлебом!»
«Кто?»
«Я. То есть ты. То есть мы».
«Принимаю на веру. Обычно со мной так совесть разговаривает».
«Да это я, Олег. Вернулся с Листа Мебиуса».
«Откуда?»
«Есть такое аномальное явление».
«Чем докажешь, что ты – это я?»
«Книгой».
«Какой книгой?»
«За поясом – Александр Грин. Разве ты садился в поезд с этой книгой? Откуда она у тебя?»
Я опустил глаза. В самом деле, за поясом была книга! Откуда? Я вошел в туалет без нее!
«Зато я вошел в туалет с ней».
«Как же так? Если ты вернулся из нематериального мира, то как здесь появился материальный предмет?»
«Этого твой мозг, загруженный всего на пять процентов, а значит, имеющий ограниченный интеллект, не сможет понять», – вступил в разговор первый голос.
«Умеете вы вежливо называть дураком!»
«Объединение личностей произошло. Теперь ты будешь помнить все, что с тобой происходило на Листе Мебиуса. Понимать это не надо, просто прими как данность»
«Я теперь часто буду раздваиваться? Меня не упекут в психушку?»
«Ты сможешь контролировать свою память. Ничего сверхординарного не произошло. Просто ты побывал в других измерениях. Харон помог тебе вернуться на Землю».
«Харон?»
«Ты называешь его Иваном Григорьевичем. В первый раз он попал в другие измерения во время войны. И сумел вернуться. Поэтому смог обнаружить аномальное явление и понять его».
«Значит, Шахерезада, Шуберт, Стопка, дембеля – все они были?»
«Это реальные люди, попавшие в ловушку времени и пространства, в другие измерения».
«Как я смогу упорядочить в своем сознании реальные события и события за пределами материальности?»
«Обозначь их цифрами. Реальные – нечетными, нематериальные – четными».
«Со временем я все равно могу запутаться».
«Человечеству это свойственно. Оно называет мифами и легендами реальные события, постоянно разрушая собственную память, искажая историю. А то, что действительно является мифом, считает реальностью.
«Что, например?»
«Свободу слова».
«Шутить изволите?!»
«Мы не обладаем чувством юмора».
Дверь туалета неожиданно открылась (оказывается, я даже не успел закрыть ее). Появилась проводница, которая, видимо, приготовила обличительную тираду в мой адрес по поводу несанкционированного посещения ее персонального туалета. Но она увидела шаровую молнию и замахала руками.
– Кыш! – крикнула она, как будто перед ней был не сгусток неведомой энергии, а банальная курица.
Шарообразная масса моментально исчезла!
Я сильно зауважал проводницу. К ее несомненному достоинству – кормообразному заду – добавилось еще одно. Она лишь одним взмахом руки могла прогнать шаровую молнию! Воистину таким талантом может обладать только русская женщина!
52-53.
Последние часы поездки я провел в чтении и размышлениях.
«Мне рассказали, что я очутился в Лиссе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь…» – строчки из романа Александра Грина «Бегущая по волнам» очень точно иллюстрировали мое состояние. Похмельное, а значит, ужасно болезненное. С памятью тоже творилось что-то невообразимое. Я разложил по полочкам минувшие события – свадьба Сашки, Ольга, Платов, грузчики, лицедеи, официантка, Лысак – реальность под нечетными цифрами; Шахерезада, Шуберт, Стопка, Иван Григорьевич, эмгэбэшники – события на Листе Мебиуса под четными. Так советовали неведомые существа. Вроде бы получалась стройная система. Но тут же я находил в нагрудном кармане рубашки сплющенную пулю от ППШ. И вся система рушилась на корню. А книга Грина? А носки на ногах? Я же их выкинул вместе с землей? И под каким номером – четным или нечетным – получается Федор Толсторюпин? Что-то не вязалось с обычной логикой. И физические законы растворялись в воздухе и тонкой струйкой убегали в щели триста восемьдесят пятого измерения. Без «бойковки» не обойтись! Я же помнил вкусовые ощущения этой необычной самогонки. Хотя пить надо бросать. А тело Шахерезады? Я помнил каждым кусочком кожи ее прикосновения, наши шикарные ночи! Как я мог быть одновременно в двух местах? Ведь Иван Григорьевич сказал, что такого не может быть. И если я на Листе Мебиуса, то на Земле меня нет.
В голове отдавался ритмический и монотонный стук колес: «тугук-тугук, тугук-тугук».
«ЖИИИЗНЬ!» – прогудел гудок тепловоза.
«ЖИИИЗНЬ – ДВИЖЕНИЕ!» – прогудел он еще раз продолжительней.
Жизнь – движение. ЖД. Железная дорога. Я и в самом деле с детства люблю ездить поездом. Кого-то раздражает ограниченное пространство. Как будто бы на «большой зоне», так неспроста зэки называют волю, пространства больше! Работа – дом – работа. Дом – работа – дом. Дача по выходным. Или вылазка в театр. Сколько получится пунктов? А, Б и В? Небывалое количество! Зато в поезде появляется масса свободного времени! Хочешь – читай, хочешь – спи, хочешь – попутчикам изливай душу, как священнику на исповеди. Потому что попутчика больше никогда в жизни не увидишь, а выговориться надо. И еда в поезде гораздо вкуснее, будь это хоть плюшка недельной давности, потому что аппетит разгорается в дороге в нарушение всех физических законов! А что в самолете? Высота? Это если у иллюминатора сидишь, а если к проходу ближе? Можно ли в самолете нормально выспаться, чтобы не затекла шея, не отсидеть задницу и не оглохнуть от перепадов давления? Можно ли в самолете устроить концерт? Я пробовал – фигня получается. А можно ли сбегать на полустаночке за огурчиками, картошечкой и пивом? Можно ли в полете отстать от самолета? Без парашюта не получится. В поезде – другое дело. Вышел на остановке за сигаретами, прошляпил отправление и все – отстал! Тут такая жизнь начнется – вам и не снилось! Нет, все-таки ездить поездом я люблю больше, чем летать самолетом.
…В Ангарске я заявился к тете Ане, как снег на голову. У нее в гостях была и моя мать. Они очень обрадовались моему появлению, потому что не знали, что и думать. Жив ли я или мертв? Дело в том, что из Сарапула (Сашка по моей просьбе отправил моей маме телеграмму) до Ангарска я добирался… полтора месяца!
Это реальный факт из моей биографии.
Через месяц я женился.
Поэтому здесь уместно не слово –
КОНЕЦ,
а два слова –
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
Назад: Часть вторая Лист Мебиуса
На главную: Предисловие