Год последний
11
Напоенные водой болота и лесистые взлобки Великих топей были затянуты дымкой; облака стелились у подножия горы. Над тусклыми зеркалами мочажин бесшумно плыл туман, влекомый приглушенным ветром. Порой холодный порыв доносил медленное журчание: здесь, в трясине, брали начало Пять Рек — в торфянике, более темном, чем выдра, которая поднялась по одной из них до ее истока.
Южный склон горы был изборожден лабиринтом извилистых вымоин, среди которых выступали серые от мха бугры. В самой большой вымоине, меж берегов из крошащегося торфа, вода стояла черно и почти недвижно. Выдра вышла на сушу, подняла голову, огляделась, втянула носом воздух. Капли с ее хвоста падали в воду, неторопливо кружились взболтанные крупицы торфа и оседали на дно. Жизнь реки начиналась беззвучно, во тьме торфяника (некогда это был вереск, цветший под солнцем незапамятных времен), но на склоне, среди зеленого ситника, река оживлялась, веселела, встретив гранит, который помогал ей спеть первую песню.
Тарка взобрался на одну из серых подушек мха и вытоптал посредине мягкую и теплую постель; длинные, густо растущие слоевища приятно холодили откинутую на них больную лапу. Свернулся калачиком. Упругие стебли скрытого мхом вереска пригнулись под тяжестью его тела. Тарка двигался сюда от самого устья, днем спал в кочкарнике и убежищах на берегу реки, ночью кормился. Он ничего здесь не узнавал, эти вересковые пустоши и моховые болота не были знакомы ни его глазам, ни ушам, ни носу. Когда лапа болела, он лизал ее. Странствие вверх по реке, вздувшейся от талого снега, доставляло ему радость; он охотился за рыбой и играл ветками и камнями, слушая, как над мраком долин разносятся призывные крики сов.
Тарка спал клубочком во мху, пока не уплыли на север последние, выбеленные солнцем пряди облаков, не засверкали светлой синевой мочажины. Солнце разбудило его, и он услышал щебет птицы — маленького желтовато-серого конька: только они двое и были здесь, на болотах. Птичка тревожно следила, как выдра греет на солнце грязное серое брюхо с вытертой шерстью и катается по земле, чтобы почесать уши о вересковую ветку. Конек никогда еще не видел такого зверя, и, когда Тарка с плеском свалился с бугра в воду, птичка взвилась в небо и тут же, залившись звонкой песней, пошла вниз, трепеща крылышками, казалось, слишком слабыми, чтобы удержать ее на высоте. Раз за разом она взмывала вверх и опять падала чуть не до земли, наконец повернула вместе с ветром и плавно села в вереск. Вновь по пустынным просторам блуждали только вода и воздух. Но вот мимо кочек с жухлой травой и островков ситника с завядшими коричневыми метелками зашлепали по бурому мягкому торфу перепончатые лапы.
Бегом по мочагам, топча похожие на пауков пучки ржаво-красной пушицы, Тарка добрался до более глубокой и широкой вымоины, окаймленной ситником. Спустился по набухшему, крошащемуся торфу в застывшую, прозрачно-коричневую воду. Поплыл, отталкиваясь задними лапами, по извилистому потоку, выискивая угрей под тиной, которая закручивалась за ним темной спиралью поднятых со дна торфяных частиц. Минута — и русло расширилось. Над осыпающимися краями мелкой котловинки рос вереск, раскинув спутанные ветки. На некоторых еще висели прошлогодние соцветия колокольчиков — их нежный шелест вторил заунывной песне ветра.
Тарка пробежал мимо груды торфа, наваленной у подножия столба, который отмечал ныне высохшее Крэнмирское карстовое озеро, где многие тысячелетия бродили его предки. Ночью здесь проходила лиса, выискивая черных овальных жуков; эти жуки, бабочки и мелкие пичужки — коньки, каменки, изредка бекас — вот все, что она могла найти в топях. В то время как Тарка выбегал из карстовой воронки, над его головой стремительно промчалась птица, скользя на изогнутых темных крыльях; увидев его, она закричала: «Гоу-бек, гоу-бек, гоу-бек!». Это была шотландская куропатка; она жила и выводила потомство на нижних, подветренных склонах горы. Куропатка летела к югу, за семенами воробейника. Он разросся там из единственного семечка, занесенного с распаханных холмов на шерсти овцы, за которую оно зацепилось своим крючочком. Семена воробейника были излюбленной пищей шотландских куропаток, живших у истоков Пяти Рек.
Тарка следил за куропаткой, пока она не скрылась внизу, затем потрусил дальше, ничего не найдя в мочагах, где скользили на фоне неба лишь отражения облаков да изредка — одинокая птица. А затем водой завладело солнце, разбив каждую мочажину на тысячи сверкающих, жарких осколков. Выдру охватила внезапная радость; Тарка пустился в галоп и тут же провалился в трясину по самое брюхо, выполз на поросший травой бугорок, покатался по нему, отряхнулся и двинулся дальше. Тарка бродил до моховине, пока вновь не услышал голос бегущей воды. Он доносился из впадины с измытыми, оползшими, искрошенными краями — слабый голос новорожденной реки. Тонкой извилистой нитью, не шире спины выдры, укрытая травами, склонившимися над ней, она стремилась вперед, в поисках пути к морю.
Вот струйка упала каскадом со своего первого уступа, рассеяла первые пенные брызги; пробежав по балочке между увалами, вышла к болоту, поросшему зеленым мхом и камышом, затем, набрав силы и блеска, поспешила по галечному руслу, посверкивая и напевая. Она журчала над гранитными валунами, плескалась среди кукушкина льна с красно-бурыми коробочками на верхушках побегов, похожих на выпь с поднятым вверх клювом. На многих валунах рос серебристый лишайник с черным подбоем, сморщенный, словно кожа диковинного зверя: крошечные серо-зеленые кусты и деревья, лапы с пунцовыми «костяшками» суставов, лосиные рога, раковины, морские водоросли. Эти вкоренившиеся в гранит лишайники казались фантастическими и хрупкими миниатюрами удивительного и ныне забытого мира доисторических вересковых пустошей и моховых болот.
Где быстрым ручейком, где заводью, а где водопадом река (у нее уже было имя — То) текла, становясь все шире и глубже, меж крутых и высоких холмов. Вот она омыла корни своего первого дерева — тонкоствольной, скупо усеянной почками ивы, нежного дерева, ошибкой попавшего в этот край камня, дождя и злых серых ветров. Под деревом, пощипывая душистую травку, стояла черноголовая овца. Вдруг она взбрыкнула и поскакала вверх по склону к ягненку, спавшему возле нагретого солнцем камня, — это прямо у ее ног из воды выглянула незнакомая, лоснящаяся, страшная морда; Тарка только что выловил форель, первую на протяжении мили, съел ее, напился и снова скользнул в реку.

Река То в трех милях от Крэнмира.
За час он поймал полтора десятка рыб — самая крупная весом не больше нескольких унций, — затем забрался на гранитную плиту и задремал под лучами солнца. Высоко над ним реяла небольшая птица, взмывала «по косой» в небо, затем, приспустив крылья, камнем падала вниз. Всякий раз, устремляясь к земле, птица веером раскрывала хвост; рассекая воздух, перья вибрировали, раздавался звук, средний между блеяньем ягненка и голубиным воркованьем. С ней рядом летала подруга. Это была пара бекасов; они выбрали себе куртинку ситника для гнезда, а Тарка их потревожил. Он заснул и лежал неподвижно. Забыв о нем, птицы сели на землю и принялись искать червей, погружая длинные клювы в болото. Когда солнце залило высокие скалистые пики, Тарка проснулся и поплыл вниз по течению. Небольшой черный косматый вол, пивший у галечного брода, почуял выдру, фыркнул и отпрянул от воды, напугав коров.
Ночью звезды тускло мерцали сквозь холодные плывущие с гор испарения. Все было влажным — увядшие колокольчики вереска, молодые ржаво-красные побеги черники и голубики, мхи, лишайники, травы, камыши, камни, деревья. День занялся серый и беззвучный. Тарка возвращался к реке по неровной, кочковатой тропинке, когда гигантский одуванчик-солнце выглянул из-за охваченной светом вершины Косдон-Бикон. Трава, вереск, лишайники, кусты голубики, мхи, камни — все, что двигалось навстречу выдре, исчезало, не успев появиться, словно растворялось или тонуло в странно светящемся море. Ледяная корочка таявших в солнечной дымке листьев, травы, былинок и веток горела огнем. Жители здешних мест называют это утреннее сияние «глазурью».
Тарке стало радостно от света, затопившего все вокруг, и он принялся кататься по земле, играя найденным в траве блестящим шариком — старым пометом пони. Позднее, спускаясь бегом к реке, он увидел углубление под скалой. Однако там было холодно и сыро, а Тарка любил спать в сухом месте. Он выбежал оттуда поближе к солнцу и устроился на плоской вершине.
Скала стояла за водопадом, внизу она была зеленая от плауна. Плаун поблескивал в брызгах, с него стекали капли. Тарка помылся, не слыша речного шума. Высохни вдруг река, он услышал бы тишину. В прозрачном потоке колыхались зеленые водоросли, ленивее, чем машет хвостом стоящая рыба.
На камень неподалеку от Тарки села плотная темно-бурая птичка с белой грудкой и шейкой и, задержавшись на миг, нырнула. Это была оляпка. Она бежала по дну, выискивая жуков, рачков и личинки ручейников. Набив полный зоб, вышла на мелководье, вспорхнула в радуге капель и стрелой полетела обратно вдоль Извилистого русла. Возле скалы, где лежал Тарка, оляпка приостановилась и сунула голову в мох в шести дюймах от клокочущей пены. Из мха донеслись быстрые резкие нотки, словно песня воды и камней отточилась на оселке горла певчей птицы. Оляпку приветствовала его подруга, сидящая в мокром гнезде на пяти белых яичках. Когда самочка проглотила принесенную ей пищу, самец снова полетел вверх по течению. Он летел и пел, его песня вторила песне реки.
Тени сдвинулись, и водоросли, яркой зеленью струившиеся утром, потемнели в воде. Оляпки еще много раз попеременно подлетали к гнезду, но так и не увидели выдру, неподвижно спящую в каменной чаше над ними.
На следующую ночь Тарка спугнул кролика из вросших в землю валунов, рассыпанных во впадинке на вершине. Неподалеку оттуда вздымал голову, плечи и торс огромный сивуч — высокий утес, выточенный и отшлифованный дождями и ветром. Кролик добежал до норы в северо-западной части утеса, но тут же в ужасе повернул обратно, учуяв запах столь страшного ему горностая. Парализованный страхом, потеряв надежду спастись, кролик тоненько пискнул и застыл, словно в гипнотическом трансе. В ответ раздалось громкое «стрекотанье», и в тот же миг, схватив кролика за горло, горностай поволок его внутрь. Только горностай, которого звали Суэгдэггер, собрался убить свою добычу, как следом за ним в нору вбежал Тарка. Суэгдэггер отпустил кролика и повернулся к незваному гостю, вдвое больше него; его белый с черным кончиком хвост угрожающе бил по земле, глаза светились зловещим блеском. Одним ударом задних ног, таких стремительных в беге, кролик без труда мог свернуть ему шею, но бедняга все еще сидел, прижавшись к земле и утрачивая капля за каплей способность к сопротивлению. Тарка кинулся на него. Суэгдэггер с сердитым «стрекотом» оборотился к выдре, и Тарка цапнул его за плечо. Горностай выбежал наружу, но у входа повернулся и яростно зафыркал. Тарка только раз взглянул на зеленые точки — глаза горностая — и продолжал свое дело. Суэгдэггер отошел, взобрался на утес и «застрекотал», будя безмолвную ночь. Всходила луна, чуть различимая в тумане; серая неподвижная гранитная россыпь вторила звонким и жестким звукам. «Кэкх-кэкх-кэкх!» — посылал свой клич во все стороны Суэгдэггер, сзывая себе на помощь горностаев Каменного холма.
Тарка съел половину кролика, и тут сильный запах заставил его снова поднять глаза. За низким отверстием он увидел уже несколько зеленых точек: они мерцали, качались, снова застывали на месте. Тарка продолжал есть. В темноте слышались негромкое фырканье, сопенье, внезапный шорох, тихий топот лап, царапанье, короткое чиханье. Тарка осмотрелся, нет ли какого-нибудь другого выхода — ему хотелось быть одному. Заметил в стене щель и сунул туда морду, прежде чем протискиваться вперед. В нос ему ударила едкая вонь — за расщелиной было гнездо, где хоронились детеныши Суэгдэггера.
Когда Суэгдэггер забрался на утес, его подруга преследовала кролика в трехстах ярдах оттуда и, услышав зов самца, примчалась обратно. У норы уже собралось множество горностаев. Острозубые, кровожадные, бесстрашные, они мелькали туда и сюда, вдыхая восхитительный запах свежатины, извивались гибкими туловищами, поднимали головки и нюхали, нюхали, нюхали… Лязг жующих зубов заставлял метаться все возрастающую стаю. Суэгдэггер шипел от ярости, и то пробирался к входу мимо нетерпеливо снующих сородичей, то отбегал прочь.
Маленькие злые детеныши в расщелине, куда не мог дотянуться Тарка, услышали голос матери и стали плевать во врага — все незнакомые движущиеся предметы были для них врагами. Врезавшись в скопище горностаев, самка вбежала в нору и бросилась на Тарку, стремясь укусить его за ухом. Тарка скинул ее с себя и попытался убить, но она снова атаковала его, а с ней вместе — Суэгдэггер и все его племя, сбежавшееся на зов. Тарка топтал горностаев ногами, чувствовал уколы их зубов по всему телу, прокусил одного чуть не насквозь, но тот продолжал сражаться. Тарка снова схватил его пастью, придерживая передними лапами, но изувеченный горностай яростно вцепился выдре в горло и повис словно второй хвост. Расшвыряв горностаев, Тарка вырвался наружу, вся стая кинулась следом, даже четверо детенышей, которые заразились общим возбуждением и решили поиграть. Они гнались за Таркой с пронзительным «стрекотаньем» по валунам и кочкам до самой воды. Тарка нырнул, подняв брызги, три горностая прыгнули за ним, но холодное купанье пришлось им не по вкусу, и они, отфыркиваясь и чихая, выбрались на берег — гибкие, цепкие, пружинистые, как ветви ивы. Не найдя выдры, самцы затеяли драку между собой.
В то время как самка с детенышами бежала вверх по склону, ей встретился идущий на водопой барсук. Серый топтыга — живой гранит, чья голова была массивнее, чем все ее тело, — неуклюже свернул в сторону. Он не хотел нарываться на лишние неприятности, к тому же только что прикончил остатки кролика под Тюленьим утесом.
Поток огибал подножие крутого холма, по склонам его, среди скал, темнели низкорослые деревья и ползли каменистые осыпи, которые расщепляли стволы и вырывали из земли корни ив, боярышника и остролиста. Оставив позади моховины и вересковые пустоши, поток превращался в настоящую реку с мостами, притоками, островами и мельницами…
Скоро на дубах раскроются первые листочки; сороки давно прикрыли гнезда колючими ветками боярышника; долго после сумерек парили в небе канюки. Зимородки и оляпки уже вывели птенцов — почти под каждым каменным мостом висело гнездо оляпки, напоминающее космы кукушкина льна. Невинные белые цветочки дикого терна побурели, пожухли и облетели под ветром. Желтые нарциссы — лесные и луговые братья белых садовых нарциссов — нежно сжимали в увядших лепестках семена, надежду зимы. Чистотел давно был забыт весной, его листья скрылись под тянущимся вверх щавелем, крапивой и цветущим пролесником. Барсучат уже научили гадить в «уборных», а не в гнезде. Стояла середина апреля, ласточья пора в здешних краях. В большой куче сучьев на носу островка возле моста шумно возились выдрята, им не терпелось поиграть с плавающей на воде луной. Их мать, сестра Тарки, кинулась на него, когда он сунул нос в сучья, и укусила за плечо, потому что все вселяло в нее тревогу, а помнить своего маленького брата она не могла.
Хотя птицы бранили его, лисы рычали и даже родня прогнала его прочь, у Тарки было много друзей, с которыми он играл и тут же забывал их: палки, камни, водоросли, снулая рыба, а один раз — пустая жестянка из-под какао, яркая забавная штука, которая так странно лопотала, плывя над отмелью, но в затоне за ней ушла на дно, выпустила наверх пузыри и больше не захотела играть.
12
На закате, когда Тарка шел по отмели к затону, он вдруг почуял запах собак на взрытом лапами песке промоины под старым ясенем. Бесшумно нырнул и поплыл по течению, лишь изредка поднимаясь, чтобы вдохнуть воздух. Миновав две излучины, Тарка вылез из воды и прислушался. Взбежал в нерешительности на берег, встал на задние лапы, роняя капли воды. Он был встревожен. В лесу за лугом резко кричал сычик, где-то пищали полевки, сухо кашляла овца. Тарка снова нырнул, поймал и съел рыбу, а затем принялся играть тугой струей, которая, сплетаясь и расплетаясь, падала из дренажной трубы — вода плескала ему на морду и грудь, а он пытался схватить ее лапами и укусить.
За второй излучиной от реки протянулась через поле выдриная тропа, и Тарка тронулся по ней. На полпути он заколебался. От покрытой росой травы исходили незнакомые запахи, валялись апельсиновая кожура, обрывки бумаги, торчал деревянный шест; Тарка поскреб истоптанную землю и снова, опустив нос, пошел вперед. Там, где подбитые гвоздями сапоги раздавили окурок сигареты, пахло человеком. Тарка повернул и двинулся было обратно, но тут в дальнем конце тропы раздался свист выдры-самки. «Хью-ии-ии-ик!» — ответил он и побежал на голос. Посреди луга Тарка внезапно остановился, словно наступил на ловушку. В воздухе, перебивая запах выдры, стоял густой псиный дух. Трава была забрызгана кровью и пеной. Шерсть на спине Тарки поднялась дыбом. Он громко засопел открытой пастью, завертел головой из стороны в сторону, словно высматривая гончих, и исчез, бесшумный, как его низкая тень под луной.
За поворотом темная река мелела, поднималась каменистыми перекатами, дробившими лунный свет. Тарка заметил, как на отмели мелькнул выдрий хвост, затем увидел выдру, настороженно смотревшую на него. Это была Белохвостка. Она подошла к нему, лизнула в морду и, «замяукав», затрусила вдоль берега. Тарка — за ней. Она была грязная, взъерошенная и несчастная. Поймав форель, выдра позвала Тарку, но, когда он приблизился, сердито «гирркнула» и стала сама есть рыбу. Снова запищала и нырнула в воду. Так, следуя за ней, Тарка возвратился к песчаной промоине напротив старого ясеня, возле которого утром с ревом прыгали гончие. Все время, пока они шли вверх по реке, самка звала кого-то, искала под нависшими берегами, на дне заводей и затонов. Здесь, наконец, она выползла на песок, держа в пасти мертвого выдренка, и уронила его на гальку. Облизала с головы до хвоста, «мяукнула» и снова нырнула. Вернулась еще с одним и положила его рядом с первым. Возможно, она умела считать только до двух, а возможно, просто не знала, сколько детенышей она с перепугу сбросила в воду, когда терьер выгнал ее из убежища под старым ясенем. Ловчий видел, что выдрята камнем пошли на дно пронзенного солнцем затона, и отозвал гончих. Собаки кинулись вверх по реке и три часа спустя нашли и убили самца, в то время как он пытался перебраться по лугу к лесистому склону.
Старый самец и Белохвостка кочевали вместе с того самого дня, когда осенью самец прогнал от нее Тарку. Ее первый помет появился в январе; реки уже замерзли, и однажды, вернувшись домой, Белохвостка не нашла выдрят. Терзаемая болью, она звала их, искала, но ей больше не пришлось кормить детенышей своим молоком: подобравшийся по льду барсук вытащил их из гнезда лапой с длинными черными когтями и сожрал всех до одного. Горе Белохвостки было так остро, что скоро иссякло, и она снова спарилась со старым самцом на орляке Папоротникова холма.
А теперь Белохвостка была опять объята горем. Две ночи подряд, когда они с Таркой спускались по течению, она то и дело переставала охотиться и принималась бесцельно бегать по берегу, заглядывая во все ямки и скуля. На третью ночь она оставила его и ушла к старому ясеню, где у нее было гнездо из тростника. Она занесла в убежище камень, положила его в гнездо и принялась облизывать, но внезапный крик заставил ее снова выйти наружу. Белохвостке показалось, что крик идет от камня, лежащего на мелководье, и, взяв его в пасть, она отнесла камень под ясень. Скоро все гнездо было забито мокрыми, камнями.
Тарка продолжал путь в одиночку. Но мере того как река уходила от своих истоков, луга и поля, меж которых она текла, все шире расстилали зеленый ковер на древнем мелкоземе — лоне долины. Дубовые вырубки по склонам заполонила наперстянка, накапливающая в зеленых листьях молодую силу, чтобы воздеть пурпурные стрелы к июньскому небу. Днем река казалась сверху разодранной клювом канюка гадюкой с коричневыми пятнами на бело-голубых витках скрученного спиралью тела. Вдоль нее тянулись две узкие блестящие полоски; они то подходили к самому берегу, то покидали его на излучинах, то перекидывались с одного берега на другой по каменным мостам с железными фермами. Под мостами висели галочьи гнезда из прутиков, овечьей шерсти и обрывков бумаги, подобранной в садах возле домов. Громовые раскаты над головой не беспокоили галок, они, как и выдры, привыкли к громыханью поездов.
За одним из мостов река замедляла свой бег в широкой заводи, куда впадала небольшая, текущая к югу речушка под названием Крот; казалось, она задумалась на миг, прежде чем повернуть на север вместе с То — своей старшей сестрой. Тарка плыл над самым дном Кротовой заводи, когда дрожащую, скрученную водоворотом луну перерезали темные узкие тени. Взмах мощного хвоста, толчок задними лапами о каменный выступ — и Тарка уже мчался вслед за рыбьей стаей. Рыба уходила зигзагом — вверх, вниз, наискосок. Тарка гнался, пока наконец не поймал одну рыбину, но, в то время как он плыл к берегу, ему попалась другая. Он бросился за ней, не выпуская первой из пасти, и цапнул ее лапой, когда она пыталась уйти у него за спиной. Тяжелый, сужающийся книзу хвост в два дюйма толщиной у основания и тринадцати дюймов в длину, который мог одним ударом оглушить рыбу, позволял выдре поворачиваться в воде почти так же быстро, как на суше.
Убив рыбу, Тарка тут же выплевывал ее — теперь он охотился для забавы. В воздухе яркими вспышками сверкали ельцы; преследователь кидался за выпрыгивающей рыбой и наносил удар в тот миг, когда она падала вниз. По воде стало растекаться темное пятно, и со дна, колыхаясь всем телом, поднялась камбала — видимо, она решила, что начался разлив, когда в Кротовую заводь приносило червей. Эта морская рыба жила непривычной ей и одинокой жизнью в пресных водах с того самого дня, как ее проглотила в эстуарии цапля и изрыгнула живой из зоба четверть часа спустя, когда птицу, летящую вверх по долине, подстрелил инспектор рыбнадзора.
Камбала увидела расплывчатые очертания выдры и быстрым волнообразным движением пошла вниз, на дно. Ее заметил одноглазый морской угорь, лежащий в воловьем черепе, который застрял в расщелине скалы. В пустой глазнице угря торчал зазубренный конец ржавого рыболовного крючка, стержень которого высовывался у рыбы из горла, — крючок уже почти совсем разогнулся, когда лопнула леска.
Тарка подплыл к угрю со стороны слепого глаза и разинул пасть, чтобы схватить его за спину позади парных плавников. Угорь был длинней Тарки. Почувствовав зубы выдры, он обвил хвостом ее шею и укусил за нос. Вверх поднялись две цепочки пузырьков; в одной из них пузырьки были мелкие, как горчичное семя, — стержень крючка закупорил Тарке левую ноздрю. Затем цепочки разорвались, и на поверхность стали выскакивать лишь отдельные пузыри: угорь душил выдру. Тарка пытался подцепить рыбу, но его короткие когти были источены, ведь он много недель подряд выцарапывал форель из ее гранитных убежищ, а кожа угря была скользкая. Распластавшись на дне заводи, камбала следила за схваткой своих врагов.
Тарка бил угря лапами, терся телом о гальку и подводные камни, норовя отодрать его от себя, подняться наверх и там сожрать. Три долгие минуты, пока хватало дыхания, он силился освободиться от петли. Затем медленно и тяжело всплыл и попробовал выбраться на берег, но берег обрывался крутым отвесом. Когда голова угря оказалась в воздухе, он расцепил зубы, вонзившиеся в кровоточащий нос выдры, и канул на дно. Тарка чуть не выпрыгнул из воды, и тут же — плюх! — пошел, как голыш, следом и схватил рыбу за хвост. Но угорь увернулся, и Тарка не смог его удержать. Подплыв под угря, он укусил его позади шеи и опять разжал пасть. Угорь из последних сил старался уйти и спрятаться в пустом бычьем черепе, но Тарка выволок его наверх; так он и играл с рыбой, всякий раз избегая ее острых зубов. Наконец угорь совсем ослабел, и, вытащив поверженного врага на мелководье, Тарка покружил возле него, притворяясь, будто никакого угря там вовсе и нет, и выел самый лакомый кусочек хвоста.
После этого он вымыл морду и опять нырнул в заводь, где устроил бойню среди ельцов; скоро уже несколько десятков серебристых рыбок качалось на боку. Тарка губил рыбу, пока луна не скрылась за вершиной холма. Тогда, устав от охоты, он отдался на волю течения, и оно вынесло его из заводи и помчало дальше, мимо островка посреди реки — узкого, похожего очертаниями на выдру, с хвостом из ила, намытого быстрыми волнами на его нижний конец. На островке рос ивняк и ольшанник, почти весь переломанный деревьями, которые увлекало за собой половодье.
Два часа спустя Тарка снова проголодался и сожрал раздобревшую на легкой добыче двухфунтовую форель, которую поймал под железнодорожным мостом, третьим от Кротовой заводи к морю. Ниже моста, справа от реки, шло ее старое, высохшее русло; лишь кое-где меж каменистых перекатов виднелись затянутые зеленой ряской лужи, оставшиеся после мартовского разлива. Закон жизни — беспрерывное изменение — был и законом воды. Столетиями она вытачивала это покинутое ныне ложе, каждый паводок заполняла его камнями и наконец ушла из него, избрав новый путь. Безмолвное русло сплошь заросло куманикой, боярышником, бузиной, шиповником и крапивой. Это было убежище ужей, лягушек, мышей и одичавшего рыжего кота без передних лап. Первые три года своей жизни этот кот жил впроголодь, кормился мышами на мельнице и отзывался на кличку Лохмач. На четвертый он ушел в лес и только успел разжиреть, охотясь на кроликов, как попал в капкан. Он прихромал к мельнице и опять стал домашним котом, но когда лапка отвалилась, а культя зажила, Лохмач вернулся к суровой лесной жизни. Еще раз попал в капкан и остался без второй лапы. Вот уже два года, как он скрывался в старице реки, рыская ночью по лесу, питаясь лягушками, мышами, жуками и снулой рыбой, которую выдры оставляли на отмелях и берегу. Двигался он прыжками, на задних лапах, как кролик. Из култышек передних лап торчали длинные когти, что помогало ему удерживать добычу, но мешало мыть морду. Порой, продираясь сквозь подлесок за выдрой, гончие «подавали голос» по Лохмачу, нашедшему себе приют в глубокой кроличьей норе среди густого боярышника.
Тарка набрел на его след и побежал вдоль старого русла. Лохмач сидел на валуне и следил за тропой полевок. Тарка остановился, удивившись не меньше, чем кот. Лохмач прижал уши к затылку, выгнул горбом всклокоченную спину и испустил такой вопль, что у Тарки поползли по телу мурашки. Крик, громкий и протяжный, вырвался из глотки кота сквозь стиснутые зубы. Когда Тарка поднялся на задние лапы понюхать то, что так орет, вопль перешел в глухой угрожающий скрежет. Чтобы удержать равновесие, Тарка дотронулся до камня, на котором стояло незнакомое существо, и оно издало звук, похожий на тот, который Тарка слышал, когда через парапет причала у деревни возле эстуария на него высыпали горшок горячих углей. При воспоминании об ожоге Тарка обратился в бегство. Оставшись один, кот опустился на обрубки лап и поднял уши, прислушиваясь к возне полевок.
Когда на следующую ночь Белохвостка шла по следу Тарки, Лохмач сидел в старом сорочьем гнезде из сырого мха над входом в кроличью нору. Снова вопль и скрежет зубов, снова плевки и шипенье, и снова выдра поспешила вернуться в реку.
Тарка миновал последний мост, куда не доходил прилив, а с восходом солнца вылез на берег возле глинистой «горки» и свернулся калачиком на постели из листьев касатика. По прикрытому илом мелкому гранитному ложу бежала прозрачная вода. Сновали взад-вперед ласточки, их витки над лугами становились все шире и круче. Все живое грелось на солнце. Листья щавеля под дамбой посерели от ила и соли, высохших после того, как прилив лениво отхлынул вспять. Среди почерневших и ломких морских водорослей, лежащих под стеной дамбы вперемешку с сухими стеблями и метелками ситника, белели звездочки ложечницы. Солнце медленно двигалось над дубняком, что рос по крутому склону от самой воды; с нижних обесцвеченных веток свисали водоросли. По касатику, среди которого лежал Тарка, золотыми птицами порхали горячие солнечные блики. Вот блестящий клювик света скользнул за лист и до тех пор клевал Тарку в глаз, пока не разбудил. Тарка зевнул, перевернулся на спину, лениво втянул носом ветер, чуть колышащий зеленые острия. Ветер был чистый, и Тарка продолжал лежать спокойно.
Над рекой один за другим, словно звезды в поясе Ориона, проплыли три канюка; верхняя птица летела, размеренно махая крыльями, средняя описывала круги, а нижняя то делала виражи, рея на широких, закругленных крыльях, то входила в «штопор», опускаясь в воздушные воронки у верхушек дубов. Стволы деревьев были темные, солнце высекало цвет — желтизну и светлую зелень — лишь из верхних ветвей.
Темный частокол леса перерезала блестящая голубая стрела — это летел вниз по реке зимородок. Канюки уплыли к югу на тающих в золотом ореоле крыльях и утонули в солнечных лучах.
«Пиит!» — раздался короткий, резкий крик там, где серебряное острие прочертило по илу ржавую дорожку. С рыбой в клюве зимородок мчался к птенцам, ждущим его в песчаной норе над Мышиной заводью. Вдоль берега вились, щебеча, воронки, повисали над головами волов, склевывали хрусткокрылых мух с их губ и между рогами. Тарка зевнул и опять задремал.
Из-за гребня дубняка поднялась темная тучка, и зелень молодых листьев поблекла. Застучал по касатику дождь. Река миллионами брызг устремилась навстречу принесенным с Атлантики каплям. Но вот тучка ушла, и снова луг заструился жаром и блеском. Ласточки летели вверх по течению и, покидая у излучин сверкающую рябь и желтые чашечки калужницы, стремительно пересекали луговину и садились на дорогу у моста. Здесь, в ухабах и рытвинах, скапливалась после дождя сероватая грязь, которая застывала крепче, чем просоленный морем коричневый ил. Найти ее можно было только здесь, потому что с обеих сторон дорога круто спускалась к мосту, и, опасаясь повредить ноги лошадей, ее не покрывали гудроном. Воздушные каменщики готовились строить гнезда на стропилах коровников и амбаров; они летали попарно, вознося хвалу солнцу.
Неподалеку от моста росла бузина, прямая и крепкая, как дубок в парке, одно из немногих деревьев этого семейства с мягкой древесиной, не искалеченное ветрами в долине Двух Рек. Его крона частично прикрывала автомобиль, в закрытом кузове которого, спрятавшись от ветра, сидели несколько мужчин и женщин. Они ожидали гончих, Чтобы выйти к парапету моста, а возможно — если будет надежда быстро и без хлопот убить свою жертву — и на луг за низкой деревянной оградой. Другие автомобили остановились на самом мосту. Увидев коричневые клубы выхлопных газов, застилавшие солнце, ласточки вновь взмывали в небо и уносились вдаль. Вдруг рев собак за мостом стал громче — выдра проскочила сквозь заслон и приближалась сюда.
Это была Белохвостка. Ее гнали уже три часа. Крики охотников, голоса собак, топот ног преследовали ее, когда она металась то вверх, то вниз по реке, от убежища на глубину, из глубины на мелководье.
— Ату его!
Белохвостка увидела лица и размахивающие руки над парапетом моста, но не повернула обратно.
Напоенные светом капли скатывались по зеленым листьям касатика, его острия, казалось, впивались концами в небо. Тарка лежал неподвижно, насторожив уши. Капли шелестели, падали на землю с мягким, сочным звуком. Белохвостка пробиралась сквозь крепь, пасть ее была широко раскрыта. Тарка, уже с полчаса прислушивавшийся к отдаленным крикам людей и голосам собак, заметил ее приближение. Внезапно до них донесся громкий заливистый рев — это Капкан нашел глубокие отпечатки лап Белохвостки там, где она выходила на берег.
Выдры пробежали меж стеблей касатика, спустились в реку. Тарка распластался на мелководье и поплыл, лишь слегка отталкиваясь лапами от каменистого дна. Он двигался медленно, как угорь, плавно, как вода, свободным волнообразным движением. Время от времени вылезал у самой кромки ила, пробегал несколько шагов и вновь бесшумно нырял. Гончие топтались вокруг того места, где он отдыхал, взлаивали, напав на горячий след.
Длинную заводь Тарка одолел самым быстрым своим аллюром; каждые пятьдесят ярдов он высовывал нос, чтобы вдохнуть воздух, и сразу же уходил вниз. Он уже оставил позади дубняк и поравнялся с узкой канавой; сюда стекали воды небольшой лощинки, где паслись волы. С одной ее стороны был высокий, поросший деревьями берег, с другой — топкая грязь. С корней деревьев в шести футах над головой Тарки свисали морские водоросли. Тарка пошел вдоль русла, укрывшись под широкими, заостренными листьями осоки. Дойдя до трясины, он выбрался наверх и побежал по протоптанной стадом тропе, за которой опять начиналась топь, отделенная от противоположного берега дамбой.
На реке раздался голос Капкана, и Тарка скользнул в другую канаву, заканчивающуюся трубой. Бурая грязь сменилась черной, липкой тиной, и его коротенькие ножки переступали с большим трудом. Труба выходила к «горке» на берегу. Путь вел в темноту, свет прорывался только сквозь щели в круглом деревянном люке, который не пропускал на поля прилив. Тарка ткнулся носом в щель, втянул воздух и притаился.
Два часа он неподвижно лежал позади люка, пока гон не замер вдали. Постепенно бег реки замедлился, песня ее примолкла, наступило затишье. Но вот послышалось журчанье тонких струек, плеск наката, шелест медленно идущих вспять веточек и пены за каймой ила — море снова наступало на сушу. Села на берег цапля и, прошествовав по грязи, вошла по колено в воду. С илистого дна поднималась в поисках пищи камбала. Цапля наклонила голову, всмотрелась, сделала шаг и стремительно опустила клюв. Настороженно прислушалась. С реки тянулась тонкая ниточка звука, за нее зацепилась петлей еще одна, еще и еще; они летели по воздуху, словно осенние паутинки. Это сзывали обратно гончих. Опять настала тишина, и цапля вернулась к ловле. Ленивые темные волны омывали ее тонкие зеленые голени. Всплеск, мерцающий трепет, брызги воды — цапля, шагая, глотала рыбу за рыбой. Ярдах в двадцати от деревянного люка птица вдруг выпрямила длинную шею, приподнялась на пальцах, выскочила на песок и тяжело взлетела в воздух, поджав ноги и втянув голову в плечи. Цапля увидела людей.
Запахи, принесенные приливом с низовья, перекрыли слабый выдриный дух, и стаю уводили обратно в псарню. Через щели в разбухшем ясеневом люке до Тарки донесся, словно охотничий рог, голос старшего егеря, который разговаривал с собаками, радостно валившими следом за ним по берегу реки. Впереди бежал старый Менестрель — он всех их выучил находить и «показывать» выдр. Морда к морде с ним трюхал Капкан, у правила — рано состарившаяся от бесконечного плаванья Дева. За ними следовала усердная Бедолага, которая часто работала в одиночку; где только можно было ошибиться, она ошибалась; стоило стае оказаться у высохшей старицы То, она и никто другой наводила на след Лохмача; если от стаи отбивалась собака, это опять же была Бедолага. Рядом с ней бежал Капитан, черный, в рыжих подпалинах жесткошерстный пес, похожий на помесь борзой с шотландской овчаркой. Обычно егерь не брал его на важные охотничьи сборы, потому что голос Капитана резал ухо, как обоюдоострый нож. Когда он натекал на след, он не ревел — верещал, а на гону захлебывался визгом, разбрызгивая слюну. Среди гончих, то и дело принюхиваясь к траве в поисках крысиной норы, сновал терьер Кусай, а за ним, как добродушный, ленивый и сильный парень на поводу у остроглазого продувного мальчишки, трусил Руфус, которому полевые мыши казались куда вкусней, чем подтухшая выдра. За Руфусом следовала Росинка; ее длинная желтовато-коричневая шерсть завилась от сырости кольцами, уши свисали почти до земли.
Часто, когда охотники делили между собой трофеи, эти уши хлопали среди обтянутых синими гетрами ног и зубы покусывали шерстяную ткань, словно это была бурая шерсть их добычи. Рядом с уорфдейлской сукой — Росинка была единственной чистопородной выдриной гончей в стае — бежали Повеса и Актер, грязно-белые псы, настолько похожие друг на друга, что никто, кроме егеря, не мог их различить. За ними следовали Данник и Прыгун, которые вечно грызли корневища дерева, в которых укрывалась выдра; Болиголов, слепой на один глаз, некогда проткнутый терновой колючкой, и покрытый серой нитью шрама; Ураган, престарелая ирландская оленегонная со сточенными клыками; Грач, Звонарь, Горлан, Певун, Кэролайн, Морячка, Русалка и Браслет, который всегда стоял в стороне от стаи, когда собаки «показывали» убежище выдры, и заунывно ревел, как сирена маяка. Последними бежали Весельчак, вступающий в драку с другими собаками, когда те набрасывались на выдру, Зубач и Плевел — гончие, ходившие раньше на лис. Собаки валили по верху дамбы между низеньким, семенящим старшим егерем и длинноногим выжлятником, привыкшим к ходьбе еще в те времена, когда мальчишкой он пересекал поле за полем по пути в школу.
В двадцати шагах позади стаи шел ловчий с двумя членами охотничьего клуба. Он говорил о том, что день прошел прекрасно, хотя, конечно, жаль, что им не удалось взять выдру. Вдруг старый Менестрель остановился и поднял морду. В холодном воздухе, тянущем с реки, явственно чуялся выдриный запах. Вот воздушная струя достигла Капкана; он вскинул голову, взлаял и кинулся по травянистому берегу к разрытому дерну над «горкой». Заколыхались плюмажами собачьи правила. Капкан прыгнул в воду, за ним — половина стаи. Бедолага принялась терпеливо обнюхивать илистую прибрежную полосу. Капитан захлебнулся визгом.
До дна было три фута. Гончие полезли вверх по «горке», некоторые скатились обратно, оставляя на затвердевшей глине под жидкой грязью глубокие следы когтей. Они заливались и царапали землю перед круглой деревянной крышкой люка, а сверху дирижировал хором Браслет. Терьер Кусай, тявкая и подвывая, нетерпеливо протискивался вперед под их лапами и между боками. Охотники перешли речку вброд, нащупывая путь окованными металлом кольями. Думая, что в дренажной трубе скрывается выдра, которую они гнали пять часов, и что в прилив усталым собакам вряд ли удастся убить даже измученную выдру, если она уйдет в воду, ловчий не отозвал стаю от люка, когда повел Кусая к открытому концу трубы, возле которого, словно огромные раздавленные ягоды ежевики, чернели глубокие следы Таркиных лап. Кусая легонько потрепали по спине и подтолкнули в темную дыру. Он быстро пополз вперед, дрожа от возбуждения.
Тарка повернул от исполосованной светом крышки, зачмокала липкая типа. Его сердце билось так быстро, как стучат капли иссякающей струи. «Бум-бум-бум!» — гудело под собачьими лапами набухшее дерево у него за спиной. Тарка осматривался по сторонам в поисках пути к спасению. Он пополз назад, прочь от оглушающего грохота, и увидел приближающегося врага до того, как смог унюхать его. «Ис-ис-ис!»
Они встретились и сплелись в скользкий от тины клубок. Терьер мертвой хваткой вцепился в хвост выдры. Тарка кусал его, стремительно, как жалит гадюка, за щеку, плечо, бок, ухо, нос. Звуки глухих ударов, чмоканье грязи, рычание и шипение стали еще слышнее, когда подняли крышку и свет упал на два — рыжее и черное — ходящие ходуном пятна. В отверстие протянулась рука и схватила выдру за хвост; другая рука взяла за загривок пса. Из трубы вытащили длинного черного скользкого зверя с повисшим на нем терьером. Кругом с заливистым ревом прыгали гончие. Рука поймала Кусая за обрубок хвоста, другая — сдавила морду с боков, стараясь раздвинуть челюсти. Тарка, болтавшийся вниз головой, извивался и корчился всем телом; вот спина его выгнулась дугой, и, внезапным движением вскинув голову, он вонзил зубы в сжимавшую его руку. Рука дернулась, выпустила хвост. Тарка упал, змеей заскользил между сапог и собачьих лап и съехал по илистому склону, увлекая за собой Кусая.

Старый егерь, Кусай и Тарка.
Гончие топтали его, старались «замять». Вот Тарка скрылся под ними, вот его схватили, отбросили в сторону, снова подняли, затрясли. В какой-то момент его держали одновременно восемь пастей. Собаки глухо и злобно рычали. Мелькали, заслоняя его, белые, коричневые, черные бока и спины. Тарка прокусил Капкану брылы, подкинутый кверху — цапнул за нос. Кусай все так же висел у него на хвосте, у самого основания. Клубок собак с терзаемой выдрой докатился до кромки воды и распался. Собачьи головы снова задрались вверх, послышался рев. Гончие опустили носы, кое-кто нырнул следом за Капитаном, чей острый, как нож голос резал воздух.
Но Тарка исчез, а с ним и Кусай. Минуту спустя терьер показался ярдах в сорока от места драки и поплыл к берегу, отфыркиваясь и пыхтя; в зубах он все еще стискивал волоски из хвоста выдры.
13
На стрежне прилив стремительно шел вперед. Он нес с собой сучья; порой на поверхности мелькал кончик ветки и вновь скрывался. Тарка огибал их, двигаясь к ленте воды, бегущей под неровным гранитным отвесом левого берега наперерез приливу. Узкая лента струилась к морю. По пути она задевала корни дубов и увлекала водоросли, висящие на них после утреннего отлива. Выдра подплыла к одному из корней, с трудом схватилась за него когтями, дыша открытой пастью. Две розовые точки над носом тут же сделались красными; кровоточили лапы, спина, шея, плечо, бок и хвост. Пока Тарка был среди гончих, он не ощущал ни страха, ни боли, все его чувства, все силы претворялись в движенье с единственной целью — спастись. Теперь, в соленой воде, раны засаднили. Он лежал с четверть часа неподвижно, со страхом прислушиваясь, не раздастся ли голос Капкана.
Но гончих не было слышно. Вода поднялась еще выше, сняла Тарку с корня и помчала дальше. Он миновал Мышиный карьер и дубняк и теперь плыл меж лугов, вдоль глубокого излучистого русла. По берегам густо рос боярышник, на его нижних ветвях висели сухие водоросли с застрявшими в них веточками, травинками, а иногда — скелетом кролика или птицы. Зацепившись за боярышник, колыхалась в воде ветка куманики, причесывала колючками накипь прилива. Выше рос горицвет — его нежные бледные венчики поднимались на высоких стеблях с мертвых пней, некоторые уже поломанные и поникшие, втоптанные в грязь и погрузившиеся в сон.
Река кружила, неуверенно петляла по мягким пастбищам. Тускло поблескивала приливная волна, серо-коричневая, в желтых крапинах, как тюленья шкура. В иле, по сторонам, лопались пузырьки. Волна вынесла Тарку к середине последней доступной морю излучины и застыла, как мертвый тюлень. Начинался отлив. Тарка вылез на мелководье, где по камням журчала пресная вода, и подошел к двум скалам, покрытым зеленым водяным мхом. Там он сел и, попив, чтобы выполоскать из пасти соль, принялся зализывать раны. На траву легли длинные тени, высоко над долиной разносился еле слышный визг стрижей, с нетерпением ожидающих захода солнца, когда они начнут свои таинственные звездные игры.
За тем местом, куда достигал прилив, круто уходили в воду голые земляные откосы, лишь наверху бахромой нависала трава. Выглядывали из земли проростки недотроги. Качались под вечерним ветром зеленые ивы. Тарка шел под берегом по сухой гальке и чистым песчаным промоинам, пока не добрался до корней высокого дерева в дальнем конце рябившей водоворотами заводи. Он заполз в темноту, на сухой выступ корня, и заснул.
Когда Тарка, вялый, голодный, с онемевшим телом, вышел из своего убежища, на высоком майском небе сквозь ветви уже посверкивали звезды. У зеленых скал вода низвергалась десятками прозрачных струек. Тарка пробежал верхом до следующей излучины, спустился к реке, пересек мель и поднялся на противоположный берег. Он сделал петлю, которая вывела его к железнодорожной насыпи, пролез сквозь низкую живую изгородь из кустов боярышника, взобрался по откосу к рельсам и пошел по деревянным шпалам, чтобы вонь машинного масла, гудрона и гари перебила его запах, если гончие нападут на след.
У следующего моста, под которым было гнездо сычика, Тарка сошел с колеи к воде и двинулся вниз по течению; он выискивал рыбу под камнями и в омутах. Оставил позади дамбы с травянистыми уклонами, проплыл мимо лодок, вытащенных на галечный мыс перед длинным автодорожным мостом. Поймав камбалу, Тарка направился к берегу, но берега не было. Вода с плеском лизала каменную стену. Тарка подплыл под пролет моста и съел рыбу на песчаном наносе у старой брошенной ванны из оцинкованного железа. За автомобильным мостом на двух круглых железных, глубоко ушедших в гравий быках стоял железнодорожный. В то время как Тарка огибал правый бык в надежде найти прилепившихся там мидий, о подножие быка плеснула волна. Море снова шло в наступление. Оно затопляло ребристые песчаные мели, переговаривалось с камушками и ракушками, бурлило на перекатах и нетерпеливо спешило дальше. «Хью-и-ик!» Тарка схватил зубами пену, не обращая внимания на то, как защипало раны. «Хью-и-ик!» Соленая волна пришла с моря, а море — друг выдрам.
Плывя дальше по взбаламученной заводи, Тарка увидел метнувшуюся в сторону большую рыбу и бросился вслед. Задние лапы поджались под брюхо и с силой толкнули его вперед, спина изогнулась дугой, открыв глубокую, чуть не до позвоночника рану, нанесенную зубами Капкана. Пошла кровь, но Тарка не чувствовал боли в радостном азарте погони за рыбой. Кефаль — одна из многих, поднявшихся от эстуария вместе с приливом в поисках пищи, — от страха чуть не врезалась в набережную. Спас ее только прыжок: взлетев на ярд в воздух, она шлепнулась обратно и помчалась вниз по реке. В том месте, где выпрыгнула рыба, Тарка выглянул наружу и снова нырнул. Подплыл к основанию стенки и, повернув у железнодорожного моста, сделал три толчка направо, затем — три налево, высматривая, не блеснет ли чешуя. Он двигался под набережной, пока не встретился с приливом. Вот еще одна рыба мелькнула перед ним в мутной круговерти и устремилась в узкий приток; Тарка — за ней, но ничего не увидел и вернулся на простор реки. Переплыл на другую сторону, к верфи, затем пошел обратно, вдоль моста, отыскивая рыбу у каменных волнорезов.
Когда он добрался до набережной, вода с шумом неслась между быками. Проплыв под стеной, Тарка свернул в рукав — речушку Иоу — и отдал себя на волю прилива. Слегка ударяя лапами, он пересек русло зигзагом от края к краю, выискивая рыбу. Всякий раз, приближаясь к скользкому откосу берега, он высовывал плечи и голову, чтобы набрать воздуха и оглядеться, затем, оттолкнувшись задними ногами от гальки, плыл к другому. Тарка часто отклонялся, чтобы взглянуть на вещи, валявшиеся на дне: дырявые чайники, кастрюли и миски, ломаные канистры.
Он заметил неясные силуэты рыб сверху и позади и преградил им путь, когда они кинулись было к морю. Кефаль помчалась от него с быстротой, втрое превышавшей быстроту выдры, но Тарка уверенно следовал за ней. Прилив шел уже со скоростью шести узлов, увлекая за собой рыбу. Тарка погнал кефаль дальше. Вот они миновали еще один — Пилтонский — мост, за которым текла по трубе вода из мельничной протоки. Здесь каменная стена кончалась, и над глинистым берегом наклонялся частокол из увешанных водорослями деревянных свай. Тарка проплыл мимо склада пиленого леса, и через минуту речушка снова повернула на север, затем на восток. Она была похожа на большого, раздувшегося слизняка.
За следующим мостом рыба-вожак изогнулась — блеснула чешуя — и, ударив хвостом, бросилась назад на расстоянии какого-нибудь дюйма от пасти Тарки. Тарка схватил зубами пустоту. Кефаль ускользнула, а с ней еще шесть серых сестер, однако двум последним рыбам Тарка вновь загородил дорогу и погнал их по прямому, все сужающемуся руслу в мелкий затон с непривычной для кефали неподвижной и прозрачной водой.
Они находились в миле от устья Иоу. Луна дробилась яркими каплями по быстрой ряби и вновь, как ртуть, сливалась воедино. Каждые десять ярдов из темной глубины, пропарывая ее, поднимались две грозди блестящих бусин и опять уходили вниз. Порой оттуда вылетала серебряная стрелка и заканчивалась в водовороте, поднятом рыбьим хвостом. И каждые десять ярдов наружу выглядывала усатая голова, чтобы определить направление — внизу почти ничего не. было видно, — и опять исчезала. Тарка плыл над самым дном, энергично работая лапами, чтобы преодолеть встречную силу течения, готовый подскочить и схватить рыбу, если она попытается проскользнуть мимо.
Он поравнялся с мостом, по которому проходила узкоколейка; мост отбрасывал густую тень. Высунув голову, чтобы вдохнуть воздух, Тарка увидел за полосой тени светлое расплывчатое пятно — это переливалась вода через гребень плотины. Он снова нырнул и еще быстрее стал вертеть головой из стороны в сторону, потому что здесь, в темноте, рыбе легче было уйти от него, хотя глубина не превышала двух футов.
Когда Тарка достиг середины тени, хвост его серпом взметнулся вверх, туловище выгнулось, задние ноги коснулись камней. Он подскочил. Чешуя рыб, идущих на него во мраке, отражала только мрак, но Тарка заметил тончайший волосок света — это мерцала лунным инеем струйка, бегущая за спинным плавником. Зубы Тарки схватили хвост ближней рыбы, рыба вырвалась; тогда выдра повернула свой «руль», штопором вошла в воду и снова взметнулась: пасть захлопнулась на горле кефали. Тарка всплыл наверх и вытащил пятифунтовую рыбину (та извивалась всем телом) на груду камней у водослива. Придерживая добычу передними лапами, Тарка наклонился над ней и принялся ее пожирать, хотя жабры рыбы еще поднимались и опадали, с каждым разом все слабей и слабей ударял хвост.
Вскоре Тарке надоело жевать костистую голову кефали, он впился ей в загорбок и вырвал большой кусок. Он ел минут пять без передышки, затем вытянул шею с колючей, торчком, шерстью и возбужденно втянул воздух. «Хью-и-ик!» Ноздри его раздулись. «Хью-и-ик!» Белохвостка посмотрела через гребень плотины и скользнула вниз. «Йнн-йинн-и-и-икк-р!» — зарычала она, оскалила белые клыки и вырвала рыбу у Тарки; он перекатился на спину и принялся играть ее хвостом. Затем снова стал на лапы и поглядел на воду через прямоугольную арку между быками — он вспомнил про вторую кефаль.
Тарка спрыгнул с камней. Начисто обглодав скелет, Белохвостка последовала за ним.
Канава, где в быстрой, прозрачной воде связками горностаевых шкурок колыхались бурые водоросли, тянулась в нескольких ярдах от речушки, мимо побеленной известью мельницы со сломанным водяным колесом. На травянистом берегу канавы была ограда из старых железных кроватей, и тут, на фоне искореженных каркасов, Белохвостка увидела темные очертания Таркиной морды. Он ел. Заметив Белохвостку, громко свистнул. Пробегая по траве, она почуяла запах чешуи — здесь Тарка тащил волоком свою добычу. «Йинн-иккр!» — снова зарычала она, подскочила к кефали и схватила ее лапами. Тарка следил за ней. Затем слизал кровь с ран и опять побежал к реке. Он бежал охотиться за большой рыбой.
На лугу возле мельницы была куча отбросов и сора, ее сваливали там мусорные фургоны. В месиве из тухлого мяса и гнилых овощей рылась свинья с поросятами. Они с жадностью уплетали яичную скорлупу, кости и угли. Здесь при свете ущербной луны в низком, все густеющем тумане Тарка и Белохвостка затеяли странную игру. Начала ее Белохвостка. Подняв перед Таркой фонтан брызг, она вышла на берег. Когда же он последовал за ней, Белохвостка помчалась вокруг луга, сначала в одну сторону, затем в другую. Она почти вплотную пробегала мимо Тарки, но ни разу не взглянула на него. Немного погодя выдры вернулись к речушке и принялись резвиться, точно пара дельфинов. Затем вместе вышли на берег и разбрелись в разные стороны. То удаляясь от реки, то опять к ней подходя, пролезая в квадратные ячеи проволочной ограды, они кружили по луговине, словно бесцельно, не узнавая друг друга, блуждали по невидимому лабиринту. Снова в воду — пить и охотиться за угрями, и снова к странной игре на лугу.
Каждый делал вид, что не замечает другого; выдры были счастливы тем, что они вместе, и старались вернуть себе острую радость первой встречи.
Делая седьмой круг по лугу, Белохвостка подбежала к поросенку; почуяв ее запах, тот вскочил, хрюкнул, заверещал, затем застыл. Десять черных рылец поднялись от аппетитных отбросов, перестали хлопать горячие ушки. Белохвостка двинулась дальше, и все поросята вскочили и с визгом пустились наутек. Матка, увесистая и осторожная свинья, с глазками, заплывшими жиром, съевшая в ту ночь, помимо двадцати фунтов прочей снеди, двух крыс и кота, вытянула пятачок и, переваливаясь всем телом, пошла на тревожный запах. «Ис-исс-исс!» — угрожающе закричала Белохвостка. Если бы свинья поймала ее, к утру от выдры остались бы одни кости, ведь она весила всего четырнадцать фунтов, а свинья — семьсот. Белохвостка призывно засвистела, и Тарка кинулся на свинью.
Семьсот фунтов живого веса вернулись от ограды с разодранными ушами, без кончика хвоста, а Тарка принялся жевать траву, хотя и не был голоден: он хотел избавиться от неприятного вкуса во рту.
Всю ночь над долиной носились стрижи так высоко в поднебесье, что даже совы не слышали их пронзительных криков. А когда на востоке стала разгораться золотая заря, стрижи тремя воронками полились вниз, к земле. Их узкие крылья со свистом резали воздух. Тарка и Белохвостка лежали на спине в мельничной запруде и смотрели, как птицы смыкаются в цепи и мчатся прочь, одни — вверх по долине, другие — к морю. Вдруг головы выдр поднялись, повернулись и вместе ушли под воду — их слуха достиг лай гончих в псарне на Пилтонском холме.
Днем Тарка и Белохвостка двинулись к реке по канаве, которая выходила из мельничного пруда. Вскоре травянистые склоны сменились цементными стенами, над которыми возвышались дома Бэрума — ряды окон и голубятни на крышах, где ворковали голуби. Те, что постарше, время от времени скашивали обведенные красной каемкой глаза на небо — подходила нора, когда из гнезд на неприступных скалах Кошельного залива и Геркулесова мыса и на красных утесах побережья прилетали сапсаны и кружили над крышами городка.
С насеста на ветке дерева у канавы выдр заметил петух и закричал: «Ку-ка-ре-ку!», гребень его налился кровью. Когда же снова взглянул в воду, он там ничего не увидел и громко сообщил курам о своем торжестве. Тарка еще не забыл, к чему в прошлый раз привел петушиный крик.
Канава прошла вдоль дороги, миновала кирпичный утес — одну из стен городской лесопилки — и повернула обратно у запертого колеса; вода низвергалась через шлюзный порог и по трубе устремлялась в губу. Был отлив. Тарка и Белохвостка проплыли над затопленными белыми цветами ложечницы к излучине, где лежал спиленный лес, и, выйдя на берег, стали искать убежища в дубовых бревнах. В то время как они пробирались по шероховатому стволу, пискнула крыса, за ней вторая, и скоро пищали уже все обитающие в штабеле крысы. Старый самец увидел Тарку и кинулся бежать, подав сигнал остальным — самцам и самкам без детенышей. Одни из них попрыгали в воду, другие скрылись в кладках досок, где тоже жили крысы; между хозяевами и пришельцами завязался бой. Все утро из досок доносился пронзительный писк, не заглушаемый даже громким звоном циркульных пил. Крыс услышали пильщики, и во время обеденного перерыва один из них пошел за своими хорьками .
Тарка и Белохвостка бок о бок лежали в пустом стволе дуба, свернувшись калачиком и тесно прижавшись головами. Дупло было сырое; в его щелях торчали скелеты мышей и воробьев, видевших Тарку еще малым выдренком. Были там и рыбьи кости, хранившие чуть слышный запах, но и они не вызывали у него воспоминаний. Осенью — выдра с детенышами уже давно покинула этот гостеприимный приют — дуб срубили, оставив в земле корни, отволокли на лошадях через луг и переправили вместе с другими деревьями на лесопильню.
Укрывшись в штабеле бревен, выдры слышали грохот мельницы на другом берегу, гудки автомобилей и голоса людей. Все утро Тарка то и дело подрагивал ушами — его раздражало назойливое жужжание запутавшейся в паутине синей мухи, которую сосал паук. Муха сдохла, но жужжание не прекратилось, однако Тарка больше не шевелил ушами, потому что звук доносился издалека, от моста, по которому шли автомобили. Когда солнце поднялось к зениту, шум стих, и выдры услышали звонкое чириканье воробьев. Затем и оно умолкло, воробьи улетели кормиться на безлюдных проселочных дорогах. Тарка перестал прислушиваться к шагам и уснул.
Белохвостка очнулась на мгновение раньше Тарки. Перед ней в тусклом свете, падающем сквозь щель между стволами, мерцали два глаза, розовые, как цветы шиповника, который каждое лето распускается по берегам Двух Рек. Выдры ни у кого еще не видели таких глаз. Розовые глазки мигнули и придвинулись ближе; туловище под ними было белого цвета. Резкий запах зверька, смешавшийся с запахом человека, его дерзкое молчание, его сходство с ними самими, хотя он был нелепо мал, встревожили выдр, и они поднялись на нош. Зверек, не мигая, глядел на них бледными глазами, затем понюхал у Белохвостки кончик хвоста. Тарка тронулся следом за подругой, более напуганной, чем он. Когда они бежали вдоль ствола, на спину Тарке вскочила крыса и вцепилась в шерсть; перекосив глаза, она верещала сквозь ощеренные зубы.
Крыса вопила от страха перед хорьком, не перед Таркой. Этот прирученный человеком член куньего семейства, по кличке Резвый, с холодной яростью преследовал крысу. Пока Тарка выбирался наверх через зазор между бревнами, хорек прыгнул на крысу, отодрал от коры, за которую она ухватилась, и, прокусив шею, стал сосать кровь. Услышав новый писк, Резвый бросил обмякшее тельце и скользнул туда, откуда он раздавался.
Когда Белохвостка выглянула из-под бревен, она увидела над собой собаку; склонив голову набок, та уставилась на выдру блестящими глазами. Рядом стоял человек с дубинкой. Белохвостка выскочила, собака с лаем отступила на несколько шагов, дубинка опустилась. Белохвостка успела повернуть назад, столкнулась под колодой с узкомордым хорьком и кинулась за штабель.
Необъятное небо, белесое от жары, заливающей пыльный полуостров, ослепило Тарку, одеревеневшего от ран и ссадин. Он медленно потрусил к травянистому берегу, но человек настиг его и нанес удар. Удар лишь скользнул по телу, однако заставил Тарку ускорить бег. Человек, торопясь убить его, кинул ясеневую дубинку вслед выдре. Она просвистела мимо Таркиной головы и прочертила борозду в горячей подсыхающей грязи. Тарка пробежал по трещинкам, уже начавшим змеиться по глинистому склону, и бесшумно нырнул. С моста видели, как он коричневой тенью оплывал валуны, еле-еле ударяя задними лапами и ни разу не показавшись на поверхности потока, настолько мелкого, что он мог прикрыть лишь старый сапог.
Всю ночь Тарка свистел на реке, но не получил ответа. Дважды он возвращался к излучине у затихшего лесного склада, где иголочки крысиных глаз прокалывали гаснущий лунный свет, но Белохвостки так и не нашел. Прилив отнес его на две мили вверх, к железнодорожному мосту, где в отбитом у галок гнезде лежали яички четы сычиков. Эти крошечные совы, чуть побольше дроздов, охотились и днем, и ночью, выискивая рачков, лягушек, куличков, майских хрущей, червей, крыс, мышей, бабочек и прочую мелочь, которую могли поймать и убить. При виде Тарки они «заорали», как кот Лохмач, «залаяли», как лисицы, «закашляли», как овцы, «заквакали», как лягушки. Когда же он двинулся по узкому притоку, что протекал вдоль небольшой долины, они «захохотали», как серебристые чайки, и принялись носиться над самой его головой. Отогнав Тарку от гнезда, сычики радостно заухали и оставили его в покое.
Тарка миновал дорогу и спустился в мельничный пруд, где умирали три угря. Поднявшись по Ключевому ручью среди вишневых садов, растущих на северных склонах долины, Тарка добрался до большой, огражденной деревьями впадины на откосе холма, которая мерцала, как светлое ночное небо. Тарка увидел две луны: одну над вишнями, другую — перед собой: он очутился в затопленном известковом карьере. «Хью-и-ик!» Свист, нежный, как позыв золотистой ржанки, эхом отозвался у каменного отвеса по другую сторону воды. Тарка нырнул, но сколько ни погружался, так и не достиг дна. Края карьера круто уходили в недвижные глубины, только в дальнем его конце под пригорком, выпирающим, как сустав, была маленькая бухта.
Тарка не нашел в карьере рыбы и мимо печей для обжига извести и покинутых домиков обжигальщиков вернулся к ручью. Взобрался на правый берег, перебежал по заросшим травой синевато-серым слоистым отвалам пустой породы к другой каменоломне. На кучах шлака у разрушенной печи с обвитой плющом трубой чернели заросли терна, в темной стоячей воде купали ветви замшелые ивы. В трещине высокой трубы свили гнездо пищухи; при урагане труба качалась, ибо поддержкой ей служил только плющ, корни которого, словно цемент, скрепляли камни и не давали трубе упасть. Вот уже пять лет подряд пищуха выводила птенцов в трещине трубы, в гнездышке, похожем на скопление случайно занесенных ветром веточек и сухих былинок. Вороны и сороки ни разу не нашли гнезда, так искусно оно было сделано и хитро спрятано.
В мрачных водах карьера жили крупные, медленно плавающие рыбы; одну из них Тарка преследовал чуть не до самого илистого дна, лежащего на глубине сорока футов, но рыба ушла. Это был карп, проживший на свете больше полувека и такой мудрый, что он знал разницу между рыболовным крючком, наживленным просто катышком теста с анисовым семенем, и крючком, где тесто наживки для крепости было смешано с ватой. В первом случае он «дул» на наживку, а когда тесто смывалось с крючка, глотал его, во втором — даже не приближался к наживке.
— Хью-и-ик!
Небо нахмурилось. Тарке не удалось поймать карпа и очень хотелось есть. Он потрусил к ручью.
— Хью-и-ик!
Ответом ему было лишь эхо, и Тарка двинулся дальше.
14
Когда под пчелиными ножками качаются колокольчики вереска, а вокруг зеленых колючек утесника обвиваются красноватые шнуры повилики, высасывающей из него сок, это значит, что в Эксмуре лето. Плоскогорье овевают ветры, где так привольно соколам, коршунам и сапсанам; одевают покровом кустики черники, лишайник, папоротник и — по оврагам — замшелые деревья, где так привольно лисам, барсукам и благородным оленям; окропляют дожди и орошают горные реки, где так привольно выдрам.
Вересковые пустоши и болота Эксмура видели солнце еще тогда, когда красным шаром с неровными краями оно катилось в клубах первозданных испарений, не похожее на растущий по склонам одуванчик с ослепительными лепестками-лучами. Почва в здешнем краю скудная — лишь прах умерших животных и растений. Дожди ручьями возвращаются к нижним склонам, к пастбищам и полям укрытых от ветра долин, к приютам людей.
Тут привольно оленям, барсукам, лисицам, выдрам и сапсанам, безжалостно губящим все, что вырастил человек, — и растения и домашних животных, все, что он накопил, поколение за поколением, и предназначил себе; поэтому их убивают. С появлением железа и пороха война против самых крупных губителей подошла к концу; все они — саблезубые тигры, медведи, волки — в этих краях исчезли, и остатки их костей лежат на скальной породе, возникшей здесь при сотворении мира, под лишайниками, мхами и травами или в музеях городов. Некогда сам добыча, затем охотник, добывающий себе этим пропитание, теперь человек охотится на досуге. Среди всех тех, кого жизнь вынуждает возделывать поля, разводить скот и держать птицу, у диких животных, оставшихся в Эксмуре, почти нет друзей, которые беспокоились бы об их судьбе. Фермеры, дай им волю, уничтожили бы поголовно всех хищных пернатых и зверей, их не трогает, что бессловесные твари — детища той же земли, что и люди, не огорчает мысль, что они могут исчезнуть навсегда. У охотников нет жалости к животным, которых они убивают в отведенный для этого срок, и к тем, которые погибают по их вине, лишь бы ничто не помешало забаве, естественной, как они полагают, для человека. И поскольку они лишены этого неразумного, на их взгляд, инстинкта, они не понимают и презирают тех, кто жалеет зверей. Жалость невозможна без воображения, этого всеозаряющего огня; воображение поднимается над вещным миром, как радуга над землей. Но как ни прекрасна небесная радуга, она не помогает выращивать хлеб.
В центре Эксмура стоит Дубрава — высокая, ныне безлесная гора, где на склонах до самого верха растет одна осока. В начале лета дикий дух этих мест звучит в голосах кроншнепов, которые, взлетев из своих убежищ над головами подруг и птенцов, плывут по ветру на волнах нежной, несущейся ввысь песни. На распростертых, поддуваемых ветром крыльях они медленно падают вниз с мерным и звучным «тлюид-тлюид». Едва не коснувшись земли, взмахивают несколько раз крыльями и, повиснув в воздухе, испускают последние нотки, которые взмывают в небо, как золотые пузырьки. Высокие, важные, с длинными, загнутыми клювами, они неторопливо шагают к своим неоперившимся птенцам, в изумлении стоящим на кочках. Подруга кормит певца, а дети приветствуют его восторженным криком… У кроншнепов редко бывает больше трех птенцов, потому что вороны обычно похищают из каждого гнезда первое снесенное самкой яичко. Только найдя разбитые пустые скорлупки, кроншнепы начинают следить за черными ворами, скрывающимися за горой…
Но вот кроншнеп вздымает крылья и бежит прочь от гнезда; из раскрытого клюва несется переливчатое тремоло, крылья хлопают, и он вновь взвивается вверх, чтобы принести на пустынную землю песню небес.
У подножия двух холмов лежит небольшое озеро, куда стекают воды из перемежающихся кочкарником трясин, под названием Цепи. Озеро, глубокое, с бурой неподвижной водой, отражает кайму ситника и тростника, осоку на склонах и небо. В северной своей части оно переходит в топь, куда забредают олени и пони. На противоположной стороне из него выбегает ручеек и спешит к югу по узкому руслу то тонкой струйкой, то каскадом, то затихая в заводи, то с шумом падая вниз. Как-то днем из ручейка, чуть шире, чем туловище выдры, выбрался на берег Тарка и взглянул сквозь зеленый листовник на лощину, по которой пришел. Все, кроме ручья, было недвижно. Тарка поднялся по склону и увидел внизу озеро. Услышал скрипучее кваканье лягушек и помчался к берегу, окружающему темную торфяную воду. Почти у самого края он остановился.
Вдоль кромки прыгала, глядя на Тарку, самка ворона, иссиня-черная от когтей до свирепо нацеленного на него клюва. Расходились круги по воде там, где тихо, без плеска, нырнули лягушки. Птица сделала три прыжка к куче дохлых лягушек, остановилась, припала к земле, вытянула голову с прижатыми перьями и уставилась на Тарку. Глазки ее поблескивали, трепетала беловатая пленка третьего века. Ворониха не боялась выдры.
Она с самого утра охотилась здесь на лягушек, приманивая их клювом: стоило лягушкам-самцам услышать чирканье клюва по воде, как они поднимались на поверхность и обращали выпученные глаза в сторону звука. Ворониха скрипуче и хрипло каркала. Шеи лягушек надувались, и они вызывающе квакали в ответ, приняв издаваемые птицей звуки за предсмертные крики гибнущей самки. Лягушки проплывали в нескольких дюймах от птичьего клюва. Одна, а то и две прыгали в воздух, и тогда птица открывала клюв и ловила их — одну, а то и двух. Действовала она молниеносно. Подтащив очередную жертву к куче уже убитых лягушек, пронзала ей голову клювом и неторопливо шла на новое место охоты. Она могла унести за раз восемь-девять лягушек к птенцам, ждущим ее в гнезде на груде камней у истоков реки Экс. Мать летала к ним с полным ртом, широко разинув клюв.
Тарка задрал голову, втянул носом воздух. Упорный взгляд маленьких глазок, как и черный клюв, был устремлен прямо на него. Тарка унюхал лягушек, сделал вразвалку три шага к воронихе и снова остановился. Птица не шевелилась, но ему не нравился ее взгляд. Тарка отвернулся и пошел прочь. Она поскакала следом и ущипнула его за кончик хвоста, прежде чем он успел скользнуть в воду.
«Кррок-кррок-кррок!» — прокаркала ворониха, скосив глаза на небо. Тарка лежал в воде и смотрел, как она выхватывает из кучи лягушку за лягушкой и набивает ими рот; вскоре птица сорвалась с берега и полетела через холмы на восток.
Вернулась она вместе с самцом, они парили над озером бок о бок. Иногда ворон складывал крылья, делал «бочку» и снова кружил на распахнутых крыльях. «Крук-крук!» — сказал он подруге, увидев на темном фоне воды еще более темный силуэт плавающей выдры. Ворон широко раскрыл клюв, приготовился к спуску и с протяжным «Крон-н-н-н-нк!» медленно пошел вниз по пологой, как лезвие косы, кривой от одного отороченного зеленью берега до другого. Перекувырнувшись несколько раз в воздухе и описав два-три круга, он опустился на склон холма и зашагал вниз, к воде, ловить лягушек.
Каждый день вороны по нескольку раз прилетали на озеро. Самец дразнил Тарку, стоило ему увидеть выдру, докучал, когда тот грелся под солнышком на берегу. Подцепив клювом лягушку, ворон останавливался в нескольких футах от Тарки и ронял свою ношу с наветренной стороны. Однажды, когда Тарка сам играл лягушкой и на миг повернулся к ней спиной, ворон схватил лягушку и отбросил ее. Птица и выдра играли вместе, но ни разу не коснулись друг друга. Часто ворон — один из трехсот сыновей Кронка — ронял ветку в воду, и Тарка гнался за ней, а потом, выйдя на сушу с зажатой в лапах веткой, катался по земле. Изредка ворон исподтишка щипал Тарку за хвост, и тот с шипением кидался на птицу. Ворон увертывался, подпрыгивал и хлопал крыльями, но не взлетал — разве только Тарка загонял его в озеро.
Днем Тарка спал в камышах на трясине в северной части озера. Если он не был слишком усталым после ночной охоты, он просыпался от трескучего «крон-н-н-н-нк» и спешил по берегу или среди водорослей играть с вороном. Как-то утром на небе показалось сразу пять птиц; они летели цепочкой — мать, трое воронят и ворон, — точно черное созвездие Ориона. Птицы сели на высокий травянистый косогор, подошли к воде, и птенцы стали наблюдать, как мать приманивает лягушек. Тарка подбежал было к ним, но тут пронзительно завопили воронята, гортанно закаркали вороны и принялись бить его клювами и хлопать по морде крыльями, оттесняя назад. Всякий раз, как Тарка всплывал, чтобы набрать воздуха, они набрасывались на него и так измытарили, что он навсегда зарекся приближаться к воронам.
Когда ветер рассеял семена пушицы, и осока, побурев под солнцем, поникла к земле, кроншнепы улетели на побережье и реки. Чертили небо кривым пунктиром коньки, но щебет их затихал, и вновь наступала тишина. Однажды после полудня тишина всколыхнулась, и на красно-коричневом гребне холма возникло подобие голой дубовой ветки. Это был олень-пятилетка. Высунув язык, он мчался на юг, к лесистым долинам. И снова на землю спустилась тишина. Но вот гребень перерезала вереница гончих, без единого звука бегущих от Цепей по следу оленя. Из своего гнезда в камышах Тарка следил за ними, пока они не растворились на горизонте, Не успел он улечься, как над западным склоном с шумом и свистом пронесся тетерев и полетел над озером; за косачом следовала серая тетерка с двумя тетеревятами. По укосу холма проскакали два всадника в красных костюмах, за ними — молодой фермер на неоседланном жеребце. Затем показался серый гунтер; лицо сидящего на нем охотника было таким же красным, как костюм. Остальные охотники появлялись поодиночке, через большие промежутки времени, на измученных лошадях.
В тот вечер Тарка расстался с озером и перешел по Цепям к ручью, который блестящей нитью вытекал из болот. Вместе с ним Тарка вступил в узкую лощину. Луна скрылась за горным хребтом. Примерно через милю у подножия горы ручей сворачивал на север, выточив себе русло в сером крошащемся камне. Лощина расширялась у Седого дуба; расколотый ствол дерева, черный, как его собственная тень в лунную ночь, испещрили блестящие дорожки слизняков. Рядом с Седым дубом стоял молодой дубок, укрытый им от зубов и рогов оленей, — юный сын у могилы отца.
И Тарка тронулся к морю по Дубовому ручью, который бежал по склонам и долам, разбивая луну на осколки и теряя их под купами деревьев на берегах. Голос ручья звенел по всему лесу, где барсуки искали мышей и черных слизней, струился от листа к листу и уходил в летнюю ночь.
Там, где Дубовый ручей встречался с другим, чтобы дальше вместе разыскивать море, Тарка напал на выдриный след. Он узнал запах Белохвостки и направился вверх по второму ручью — здесь до него проходили чужие выдры. На исходе ночи, плывя по заводи, выдолбленной в граните водопадом, Тарка увидел перед собой темный силуэт. Выдра медленно покачивалась на воде, голова ее ударялась о камни. Она была мертва уже несколько часов. Накануне свист играющих выдр услышал владелец здешних мест и поставил под завесой водопада капкан, закрепив его на выступе скалы, где выдры отдыхали после радостного купания в клокочущей пене. И выдры снова пришли сюда.
Железо тонет в воде, и сколько бы ни звали мать выдрята, она не могла долго выдержать с таким грузом на ноге.
Когда вздувшееся тело перевернулось, Тарка услышал звяканье металла и в страхе нырнул, оставив позади цепочку пузырьков.
К восходу солнца он пробежал две мили, пересек лес и поля — то стерню, где стояли чередой копны, то участки, засаженные свеклой и турнепсом, то пастбища для овец — и нашел третий ручей под горкой, которая звалась Нищенский привал. Тарка двинулся вверх по течению, мимо фермы, где по мелководью шлепали утки, и дальше, под мост, возле араукарии с листьями, острыми, как сорочьи клювы. Вот он миновал дома и мельницу на берегу, и вокруг раскинулись безлюдные луга, где распевали свои песни одни лишь жаворонки. Тарка плыл от берега к берегу в поисках убежища на день. В полумиле за мельницей он увидел камень с широким отверстием, наполовину скрытым в воде. Над ним нависала лещина. В то время, как Тарка забирался под камень, низкое августовское солнце зажгло зелень листьев золотом весны.
15
Разбудил его оглушительный собачий рев. Он увидел лапы, с плеском переступающие по мелкому дну, несколько черных носов и свисающие языки. Отверстие было слишком мало, чтобы туда прошла хоть одна голова. Тарка скорчился в ярде от входа, вдавился в холодный гранит. От страшного шума стало больно ушам.
На бурых камнях переката заскрежетали подкованные сапоги, застучали обитые железом острия охотничьих кольев.
— Отрыщь! Капкан! Менестрель! Отрыщь!
Тарка услышал звук рожка, и низкий вход посветлел.
— Отрыщь! Капкан! Капкан! Отрыщь!
Рожок пропел еще раз, потише — стаю уводили прочь. Под камень сунули кол и стали вслепую тыкать по сторонам, затем забрали. Тарка увидел сапоги, человечьи руки и морду терьера. Раздался шепот:
— Вперед, Сэмми. Взять!
С рук соскочил кудлатый коричневый песик. Сэмми унюхал Тарку, затем углядел его и стал пробираться к нему бочком. «Тяв-тяв-тяв-тяв!» Выдра не шевелилась, и терьер подполз поближе, вытянув голову и громко тявкая.
Тарка не вынес раздражающего его шума. Через минуту, раскрыв пасть и шипя, он двинулся мимо терьера; злобное тявканье перешло в пронзительный визг. Люди на противоположном берегу стояли молча и неподвижно. Они увидели голову Тарки, залитую солнечным светом, — свет падал сквозь деревья позади них и зажигал бурые плоские камни переката теплой желтизной. А Тарка увидел трех людей в синих куртках; люди не шевелились, и он скользнул в прозрачную, холодную воду. Она не покрыла ему спину, и Тарка вернулся к корневищам на берегу. Побежал, прячась в тени и под папоротником, своим обычным шагом. Один из мужчин заметил, что у выдр нет чувства страха.
Ни одна гончая не подавала голоса, но причина их молчания была не известна Тарке, да он бы и не понял ее. Он проснулся в смятении и страхе, он страдал от мучительного шума, он оставил опасное место и теперь убегал от своих недругов — людей. Когда он шел с поднятой головой вверх по ручью, все его чувства — обоняние, зрение, слух — были настороже, чтобы уберечь от гончих — его заклятых врагов.
Так как Илкертонский ручей был узкий и мелкий, выдре по охотничьим законам полагалось дать четыре минуты форы. Когда истекли эти минуты, Тарка услышал позади звуки рожка, голоса собак и крики егеря:
— Вот, вот, вот, вот! Пошел! Возьми! Вот, вот, вот, вот! Возьми!
Стая во всю прыть возвращалась к ручью. Гончие бултыхались в воду возле большого камня, пытались просунуть голову в дыру, разбивались на смычки или в одиночку спешили по мелководью за мокрым, дрожащим от возбужденья терьером и громко взлаивали, втягивая носом запах выдры.

Капитан и Менестрель «показывают» убежище у Илкертонского ручья.
Первым в погоню устремился Капкан, за ним — Кэролайн, Морячка, Капитан и Повеса. Они промчались мимо терьера, и Капкан в нетерпении свалил его с ног. Сэмми вскочил, дрожа всем телом, и бросился вслед.
Тарка погрузился в пронизанную солнцем воду по самые ноздри и замер. Он лежал бурой колодой наискосок к камням, на которых покоился его хвост. Там его и увидел егерь. Тарка поднял усатую голову и поглядел на него. Рядом раздавались голоса собак. От заводи, где был Тарка, ручей полого спускался вниз. Когда Капкан, идя по чутью, прыгнул в заводь, Тарка бесшумно нагнул голову и коричневой маслянистой пленкой скользнул под брюхом у пса, беззвучно вынырнул и двинулся по затянутым тиной камням. Прилизанная шерсть блестела на солнце. Казалось, он идет не спеша, у самых собачьих морд, чуть не наступая им на лапы.
— Пусть собаки сами его загонят! Не натравливай их, не то они разорвут его на куски!
Стая смешалась, гончие скололись со следа; запах выдры был похож на скрученную из многих прядей веревку, конец которой они пытались распутать. Но вот Канкан натек на выходной след и повел стаю вперед.
Он заметил Тарку, когда тот пробегал по плоским камням, где вода едва прикрывала ему хвост, и с вытянутым правилом бросился выдре наперерез. Тарка выскочил на берег. Затрещали, зашелестели засохшие ветки и листья живой изгороди — Тарка выбирался на луг. Он бежал по траве и слушал, как яростно ревет Капкан, этот огромный черно-белый пес, продираясь сквозь заросли лещины, колючей куманики и раскинувшей тонкие ветви жимолости. Пробежав с полсотни ярдов по лугу, Тарка влез на насыпь и спустился по откосу к шоссе. Гудрон жег ему лапы, но даже когда на него устремилось огромное темно-красное чудище, он не свернул на луг, где вереницей неслись гончие. Несколько раз содрогнувшись всем телом, чудище замедлило бег и остановилось, в нем, тыкая в выдру пальцами, поднялись фигуры людей. Тарка нырнул под автомобиль и снова выбежал на закатное солнце, слыша, как, перекрывая крики людей, доносится сзади разноголосый хор гончих, которые так рьяно взбирались на высокую насыпь, что сталкивали друг друга вниз.
Тарка побежал по укрытому тенью кювету, среди обрывков газет, банановой кожуры, апельсиновых корок, окурков и смятых коробок из-под шоколадных конфет. Перед ним возникло еще одно, на этот раз желтое чудище; оно росло с каждой минутой, из него высунулись люди и уставились вниз. Тарка промчался ярдов двести по дороге. Его душила вонь, оглушал шум, огнем жгло глаза. Задержавшись на миг в кювете, он прислушался к собачьему хору, звучащему теперь по-иному: собаки выбирались на шоссе. Тарка пробежал еще ярдов двести, затем вскарабкался на насыпь, пробрался сквозь пыльную траву и шиповник, цепляющийся за шерсть, и спустился по лугу к ручью. Плюхнулся в воду и поплыл; он плыл, пока перед ним не поднялись скалы и валуны. Влез на них и пошел дальше, бороздя мох и лишайники хвостом и оставляя за собой запашистый след. Подал голос мчавшийся впереди всей стаи Капкан.
В ручье — что на мелях, что в заводях — Тарка двигался ровно, не сбавляя хода, но и не торопясь, хотя и быстрее течения; он скользил вместе с потоком, пересекал затоны, огибал валуны, оставляя свой запах в мокрых оттисках лап и хвоста.
По зеленому, испещренному тенями лугу спешили люди, неподалеку послышались хриплые крики и звуки рожка. Гончие дружно взорвались ревом — Тарка понял, что они добежали до берега. Закружилась воронками под ударами перепончатых лап напоенная светом вода. Через тень и рябь, по омутам и перекатам Тарка уходил от собак. В лучах солнца ручей сверкал янтарным блеском, лоснилась гладкая бурая шкура выдры, когда ее спина на миг показывалась из воды. Тарка скользил неторопливым змееподобным движением. Гончие были уже недалеко.
За излучиной ручей протекал возле шоссе. Там выстроилось множество автомобилей. В них дожидались мужчины и женщины с украшенными зарубками кольями — «охотники» на колесах.
Перед Таркой вырос мост. Гончие гнались за зверем по пятам, и он не обратил внимания на людей, склонившихся над парапетом. Люди кричали, махали шапками, подбадривали собак. За мостом плавали утки; с громким кряканьем они вышли на берег и заковыляли во двор фермы. Поравнявшись с тем местом, где только что были птицы, Тарка тоже вылез и устремился за ними. Пытаясь взлететь, утки захлопали крыльями, но он догнал их колонну, врезался в нее, разметав птиц, и исчез. Рев Капкана звучал все ближе, за ним, впереди остальной стаи, валили Русалка и Капитан. Егерь, выжлятник и полевой сторож остались далеко позади, за живыми изгородями и насыпями.
У фермы гончие скололись. Озадаченно опустив носы к земле, они носились взад-вперед. Пронзительный визг Капитана сообщил, что Тарка прошмыгнул под воротами. Русалка побежала вдоль мокрых отметин в пыли, но свернула в сторону, увидев цепочку более крупных перепончатых оттисков. След спутался снова. Басовито взлаял Капкан, за ним другие гончие, однако настигли они только утку, которая в ужасе закрякала и забила крыльями. Какой-то человек с граблями в руке погнал собак прочь, крича на них и грозя ударить. Из глубины двора раздался голос Росинки, и гончие помчались к ней, но отпечатки лап привели их к другим воротам, и хотя они пытались их перепрыгнуть — не могли достать до верха и шлепались вниз. А под ворота ушла утка, не Тарка.
Запах выдры исчез. Гончие катались в пыли, подходили к людям и нюхали карманы, выпрашивая подачку. Руфус нашел кроличью шкурку и сожрал ее, Данник затеял драку с Весельчаком — в шутку, так как они побаивались друг друга, лишь Капкан отправился дальше. Гончие ждали, когда их поставят на след. Но вот подбежал потный егерь в белом, сдвинутом с красного лба котелке, за ним два выжлятника и собрали собак в стаю. Резкий утиный дух остановил гон.
А Тарка пробрался по дренажной трубе обратно в ручей и теперь отдыхал, отдавшись течению, с каждой минутой приближавшему его к журчащей мгле — узкой лесистой долине. Яркое расплывчатое пятно — зимородок. Сидя на ветке, он выглядывал жука или гольца. Зимородок увидел, как тень выдры разорвала светло-золотые ячейки сети, которую закинула рябь на каменное ложе ручья.
Проходя под крутым берегом мимо корневищ ивы, Тарка услышал тявканье терьера. Сэмми прополз по дренажной трубе за ним вдогонку и теперь, черный от липкой грязи, выглядывал из ее конца, нетерпеливо призывая своих рослых друзей. К тявканью Сэмми присоединился рев Капкана. Старый выжлец был на берегу, под трубой — он опять натек на след выдры там, где зверь коснулся камней. Тарка заметил его в каких-нибудь десяти ярдах и нырнул. Он плыл, отталкиваясь всеми лапами, вниз по течению; от его морды бежала тонкая струйка, ее тень на дне казалась золотой стрелкой, пущенной к морю.
И снова Тарка покинул воду и двинулся по суше, чтобы развеять свой запах. Он пробежал ярдов двадцать, когда на берег вылез Капкан, а за ним Весельчак и Данник. Собаки втягивали носом выдриный дух, стелющийся по земле. Тарка добрался до прибрежных деревьев, всего на одну длину тела опередив Капкана, и, как набухший чурбан, свалился в ручей. Капкан прыгнул следом, ляскнул зубами, но вода была другом выдре, и та скользящим грациозным движением увернулась от пасти, которая, сомкнись она на Таркиной голове, раздробила бы ему череп.
Могучие дубы не пропускали здесь солнечный свет, отражали эхом шум водопада. Ручей бежал, сужаясь, стремительным потоком, кружились воронки у покрытых водой камней. Гул становился все громче, неслись мелкие брызги. Тарку и Капкана мчало вперед. Через просвет в листве упал широкий солнечный луч и осветил дымку над падуном. Тарка скользнул вниз на тяжелых белых водных отвалах. Капкана швырнуло следом за ним. Оба исчезли в бурлящей пене. Но вот появилась маленькая коричневая головка и стала озираться, ища своего врага в порушенных пенных сотах. Рядом вынырнуло черно-белое тело; вытянув шею, гончая тщетно пыталась выбраться из потока, который тащил ее вниз. Тарка был господином водоворотов, они служили ему игрушкой. Он радостно качался на волнах. Вдруг высоко над ним пропел рожок. Вновь отдавшись течению, Тарка понесся вниз по ущелью в заводь, над которой громоздились к небу утесы, и стал искать убежища под кучей сочившихся влагой, заросших папоротником камней.
Он увидел под водой две ноги, рядом — два колеблющихся перевернутых их отражения, а над ними — расплывчатые очертания плеч и головы человека. Тарка свернул от рыболова обратно на стрежень, а когда поднялся, чтобы вдохнуть воздух, снова услышал звук рожка. По дороге на косогоре между егерем и выжлятником валила стая, перед ними бежали люди с кольями в руках; они торопились к мосту у подножия холма, чтобы устроить там заслон и не дать выдре уйти в море.
Капкан остался далеко позади. Он ослабел, хрипло дышал, был весь избит, голову покрывали ссадины, в глазах стоял туман, но пес по-прежнему плыл следом за Таркой. Тарка миновал еще одного рыболова, и крошечный перовидный крючок случайно вонзился ему в ухо. Закрутилась, разматываясь, вертушка: «ж-ж-ж-ж», — пока вся блестящая нить не прошла через пропускные кольца; удилище изогнулось дугой и вновь со свистом выпрямилось, когда лопнула леска.
Тарка увидел мост, под ним на камне фигуру человека и лица наверху. Услышал крики. Человек под мостом заорал, сдернул шапку и стал махать ею егерю, который, спотыкаясь на шатких камнях, спешил вместе со стаей по красной крутой дороге. Тарка вылез из последней заводи выше моста, пробежал по мшистому, уже залитому камню и скользнул у человека между ног.
— Ату его!
Когда Менестрель с плеском кинулся в ручей, Тарка успел миновать мост. Стая неслась через проем между концом парапета и склоном холма, голоса собак звенели под фермами, отдавались эхом от стен домов на высоком скалистом берегу.
Гончие прыгали в прозрачную воду среди гниющих автомобильных шин, битых бутылок, консервных банок, ведер, старых туфель и прочего выброшенного за негодностью хлама. Один раз Тарка повернул обратно; много раз он оказывался под ногами собак. Ручей был недостаточно глубок, чтобы прикрыть ему спину, и достаточно мелок, чтобы гончие могли двигаться вдвое быстрее его. Порой на Тарку наваливалась вся стая, готовая его разорвать, а затем маленькая головка появлялась у скалы, ярдах в десяти от сгрудившихся собак.
Между валунами и скалами, обросшими ракушками и космами морских водорослей, мимо изъеденных червями столбов, отмечавших во время прилива фарватер рыбачьим лодкам, выдра уходила от гончих. С каждого столба стремительно взлетала чайка и сердито кричала на них. Наконец Тарка достиг моря. Медленно вошел в подернутую зыбью воду и нырнул, увернувшись от зубов Менестреля в тот самый миг, как через стаю пробежал Капкан. Гончие заплыли за полосу прибоя, егерь погрузился по пояс, прочие остановились у кромки лениво плещущих волн. Говорили, будто выдру загнали чуть не до смерти и, возможно, ее носит теперь где-нибудь у отмелей. Прошло еще несколько минут, и егерь вынул из-за пазухи рожок. Только он набрал в легкие воздух, задержал дыхание и сложил губы, чтобы протрубить четыре долгие ноты отбоя, как в ярде от Капкана вынырнула бурая голова со свирепыми темными глазами. Тарка посмотрел на пса и прокричал: «Ик-янг!»
Голова скрылась. Подплыв под собаку, Тарка вцепился зубами в ее брылы и потащил под воду. Пес попытался вывернуться и укусить выдру, но ему это не удалось. На поверхность стали выскакивать пузыри: пес задыхался. Гончие не понимали, что происходит. Задние лапы Капкана слабо задергались в воздухе. Егерь с трудом подошел к нему и потянул к берегу, но Тарка разжал зубы, только чтобы передохнуть; набрав свежего воздуха, он снова подплыл под Капкана и снова схватил его. Лишь когда на Тарку набросилась вся стая, он выпустил своего врага и исчез в волнах.
Еще долго после того, как выжлеца откачали и стая повалила вверх по увалу холма, чайки летали над морем у устья ручья. Иногда одна из них опускала желтые перепончатые лапы, чтобы сесть на воду, и всякий раз, вспугнутая щелканьем белых зубов, снова взмывала вверх, в беспокойно кричащую стаю. На горизонте шел грузовой пароход, волоча по небу длинный хвост дыма. Над побережьем Уэльса клубились низкие тучи. Монотонный глухой шум гребного винта доносился в мирной безветренной синеве туда, где лежал Тарка, довольный и сонный, однако не терявший из виду бледно-желтых, глаз ближайшей птицы. Наконец чайкам надоело глядеть на него, и они улетели обратно к столбам. Перевернувшись на живот, Тарка зевнул, потянулся и спокойно поплыл вдаль.
16
Тарка плыл на закат. Он заметил расщелину в высоком красном утесе и скользнул туда на гребне волны. Волна разбилась, не дойдя до дальнего темного края пещерки; Тарка взобрался повыше, на выступ, куда не доставал прибой, и свернулся на холодном камне. Проснулся он, когда бакланы и чайки летели с тихого, как сумерки, моря на утес, где был их ночлег. Внизу, в каменных чашах между скалами, уже поднялась крутая зыбь — начинался прилив; среди зеленых и красных водорослей забегали в поисках пищи креветки и крабы. Внезапно недвижные прежде водоросли разметались под ударами выдриных лап. Тарка нашел краба, вылез с ним из воды, но краб оказался горьким, и, бросив его, Тарка двинулся на глубину.
С вечерним приливом к берегу подошла стая сельди, за которой следовали дельфины; когда они всплывали наверх набрать воздуха, их черные шкуры поблескивали в волнах. Некогда у этих теплокровных млекопитающих были уши, лапы и шерсть, но теперь их ушные раковины сделались крохотными, как острие колючки, а пятипалые лапы превратились в ласты. Их предки, в стародавние времена принадлежавшие к тому же клану, что предки выдр и тюленей, рано ушли в море и приспособились к жизни в новой стихии, когда тюлени еще ходили по суше. Детенышам, рожденным под водой, не нужна материнская спина, чтобы подниматься к животворному воздуху, ибо наследственная привычка превратилась у них в инстинкт.
Старый самец подпрыгнул с откоса волны неподалеку от Тарки и упал с громким плеском на спину, чтобы стряхнуть с кожи рачков-паразитов. Рядом самка кормила дельфиненка. Лежа под ней брюхом кверху, он вдыхал воздух, когда мать всплывала и кувыркалась. Тарка поймал сельдь и с удовольствием съел ее, сидя на камне, но, когда нырнул еще раз, увидел, что рыба ушла.
Неделю Тарка спал в заброшенной печи для обжига извести на лугу над ручьем, который спускался с небольшого отрога, куда не достигал прилив. В то время как выдра обследовала верховья, над болотами и пустошами прошли дожди, ручей вздулся, и Тарку вынесло обратно в море мутным ревущим потоком. Он направился на запад под высоким береговым обрывом, откуда каскадами низвергалась вода; днем отдыхал на поросших папоротником увалах.
Однажды Тарка проснулся от каких-то ужасных, невнятных звуков, которые струились по ветру высоко над ним. Он приподнял голову и услышал свист — казалось, с неба устремились на жертву соколы. С грохотом посыпались осколки камней, затем в воздухе мелькнули олень и три гончих и свалились со скалы. Снова наступила тишина, но скоро утесы зазвенели от криков морских птиц и галок. Слетелись вороны и канюки. В воздухе мелькали черные, белые, бурые крылья, раздавалось карканье, призывные крики и пронзительный визг. Около часа птицы дрались, отталкивая друг друга, но вот из-за восточного отвеса берега показалась моторка с человеком в красной куртке и распугала их. Увидев Тарку, спускавшегося с выступа, чайки окружили его шумной стаей, но он добежал до моря и нырнул. А ночью, когда, сидя на валуне, он ел угря, ветер донес до него запах Белохвостки.
На рассвете Тарка уже плыл у подножия Большого палача; он шел по следу, пока восходящее солнце не усеяло бликами морскую гладь, не напоило золотом эфира облака над холмами Уэльса.
В сумерках крысы, рывшиеся в водорослях, которые отлив оставил на побережье Дикой груши, дружно запищали, втянув острыми носиками мускусный запах «водяных ласок». Стуча зубами, они кинулись врассыпную, когда среди них промчались галопом их самые страшные враги. Вот одна крыса взлетела в воздух и вновь упала, прокушенная насквозь. Выдренок не был голоден, он убил ее просто так, для забавы. Затем нырнул за Белохвосткой, которая заботилась о выдрятах с тех самых пор, как их мать попала в капкан под водопадом.
Шесть часов спустя на побережье появился Тарка. Его свистящие, резкие крики пронзили плеск и удары волн на узкой прибрежной полосе из крошеного глинистого сланца. Тарка прошел по следу до выдриной постели под скалой и опять сбежал к морю. В заводи за Шиповниковой пещерой он снова почуял выдру. На дне лежала плетеная ловушка — верша с чем-то, что медленно поворачивалось то туда, то сюда вместе с лентами водорослей. Из щелей между прутьями торчали щупальцы темно-синего омара. Наевшись до отвала, омар пытался выбраться наружу, оставив выдренка, которого он пожирал. Выдренок не нашел выхода из верши, куда залез во время прилива, намереваясь съесть омара.
«Хью-и-ик!» Тарка не знал, что такое смерть. Ему никто не ответил, и он поплыл дальше среди мерцающих точек, испещрявших зыбь.
Бабье лето осеннего равноденствия, когда из поднебесья на папоротники звонкой трелью льется грустная песня жаворонка, внезапно сменили бури. Они срывали с деревьев листья, с ревом взбивали воду, закручивали барашки и развешивали на скалах белопенные гирлянды. Звезды и верхушки утесов все глубже тонули в туманной мгле, пока Тарка двигался на запад. Как-то ночью, когда он пил в заводи под небольшим падуном, его напугало громкое завывание; оно откатывалось от стен тумана, отголоском звучало вдали и опять возвращалось чуть слышным эхом, словно призрачные гончие вели во тьме гон. Тарка скользнул в воду и спрятался под водорослями, но мерные звуки не приносили вреда, и он перестал их замечать. На Бычьем мысу, на камне под белой башней маяка, сирены которого оглашали море, предупреждая моряков о смертоносных рифах, Тарка снова нашел след Белохвостки и радостно засвистел.
Так, пробираясь под каменистыми осыпями по бухточкам, где валялась ржавая обшивка разбившихся кораблей, Тарка дошел до конца земли. Занималась заря. Торчали из серого моря скалы, вспарывали, белили бурунами прилив, идущий через залив от Кошельного мыса к мысу Морт. Одна скала возвышалась над всей грядой — это был Утес смерти. На его вершине стояла большая черная птица, из глотки которой торчали рыбьи хвосты. Ее мокрые крылья были раскинуты в стороны, чтобы уравновесить набитый зоб. Это был большой баклан, прозванный рыбаками Пастором. Каждый день до наступления сумерек он стоял в этой неудобной позе на Утесе смерти, покачиваясь под грузом проглоченной рыбы.
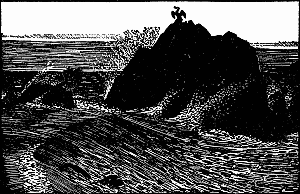
Утес смерти и Пастор на вершине.
Устав бороться с валами, что накатывали с океана, Тарка повернул у Утеса смерти и поплыл к земле. По угорью, покрытому ломаными корнями кермека и осколками серого камня, взобрался на тропу, отгороженную со стороны моря железным тросом. Соленые ветры разъели железо, превратили его в ржавую труху. Вереск над тропой оказался крепче железа, но его побеги были еще более обнаженные, чем корни.
За гребнем мыса, где не так разгуливал ветер, вереск стелился низкими кустиками. В зеленых впадинах, среди пощипанной овцами травы, росли грибы, крапчатые, как совиное оперенье. Небо все розовело, и Тарка нашел себе укрытие под разрушенным кромлехом — местом погребения доисторического человека, чьи кости давно обратились в прах и проросли на солнце вереском и травой.
Весь день Тарка проспал в тепле, а на закате сбежал вниз, к морю. Он плыл к югу наперерез течениям, которые вымывали в круче похожие на раковины бухты и неслись мимо скал в широкий залив. Длинные волны разбивались на отмелях, оставляя пену, похожую на грязно-белых тюленей. В барашках плавали окуни, ловили песчанок, поднятых прибоем со дна. Реявшая высоко в небе чайка увидела трепыхавшуюся на отмели рыбу и бурую ленту водорослей над ней. Чайка плавно скользнула вниз, но тут бурая водоросль стала на короткие лапы и втащила пятифунтовую рыбу на твердый сырой песок. «Кэк-кэк!» — сердито закричала чайка. «Тью-лип, тью-лип!» — галстучники вспорхнули и, трепеща крыльями, полетели всей стаей прочь. Появились новые чайки, сели рядом. Тарка пировал под шум крыльев и пронзительный визг. Насытившись, попил воды, тонкой струйкой текущей по широкому и мелкому песчаному руслу. «Хью-и-ик!» Он помчался галопом, опустив нос к земле. Взбежал на дюны, задевая сухие коробочки дикого ириса; оттуда посыпались круглые оранжево-красные семена. Мимо пустынной дороги, между засохшими стеблями крестовника и ворсянки, вверх по увалу к невозделанной вершине холма, сквозь папоротник, утесник и куманику спешил он по следам Белохвостки. Нашел голову кролика, которого она поймала, и поиграл ею, катая в лапах и свистя.
Песни жаворонков смолкли. Когда Тарка достиг вершины Пикуэльских песков, облака на востоке уже зарделись румянцем, и Дубовый холм в семнадцати милях соколиного пути казался лежащей на земле тенью. Тарка спустился в глубокий овраг, где по сухому руслу до самых прибрежных дюн росли утесник, боярышник и падуб. Овраг шел на юго-запад, стволы склонились на северо-восток, горькие и низкорослые от соли и ветра. Под кустом падуба, рождающего изуродованные цветы и лишенные колючек листья, истерзанного плющом, толще в обхвате, чем обвиваемый им ствол, Тарка забрался в кроличью нору, расширенную многими поколениями ее владельцев, и улегся в темноте.
Ветер порывами тянул по оврагу, шевелил жесткие сучья терна, с писком тершиеся друг о друга. Трещали и скрипели сухие ветви бузины, словно жалуясь на свои лишения. Чайки с криком делали виражи от холма до холма над сгрудившейся далеко внизу отарой. Под тусклым небом поблескивал песок. Вдоль всего темного основания мыса тянулось белое кружево бурунов. Ветер нес по оврагу брызги и рев моря. Тарка спал.
Проснулся он около полудня от голосов людей. Между увалами плыл туман. Тарка лежал неподвижно. Вот у посветлевшего входа что-то сказал человек, и в нору пополз зверек; Тарка встревожился: он вспомнил его запах. Глаза зверька мерцали розовым светом, на шее тенькал колокольчик. Тарка отполз подальше и выбрался через другой вход, за которым следил мокрый, дрожащий спаниель, сидя на взгорке за спиной человека с ружьем. При виде выдры спаниель отскочил, и Тарка заскользил вниз по оврагу, еще прибавив ходу, когда раздался лай, крик и два выстрела. Дождем посыпались веточки, но он продолжал бежать, скрытый колючим кустарником. На дно оврага, цепляясь за ветки деревьев, спустились двое мужчин, но за Таркой последовал один спаниель. Пес яростно лаял, однако не осмеливался подойти. Хозяин свистнул ему, и спаниель вернулся. Тарка спрятался под кустом куманики и уснул. Когда стемнело, он вылез из-под веток и стал взбираться по склону.
В поле, за изгородью, Тарка напал на кроличий след и кинулся по нему через согнутый ветром боярышник за каменную насыпь и снова на пустошь. Кролик лежал за кочкой, припав к земле; Тарке хватило одного укуса, чтобы его убить. Наевшись, Тарка попил дождевой воды из овечьего черепа, который валялся среди ржавых плужных лемехов, старых чугунных чайников, консервных банок и скелетов овец; часть из них была растерзана собаками и все — очищены от мяса воронами и воронами. Тарка поиграл овечьей лопаткой, потому что до нее мимоходом дотронулась Белохвостка. Бросившись на холодную кость, он цапнул ее зубами, словно это была его подруга. В ту ночь, пересекая насыпи и поля, Тарка находил для себя много игрушек.
След привел его к пруду в топком поле у подножия холма. Тарка нырнул, распугав камышниц. Поймал угря и поиграл с ним; на следующее утро дохлого угря нашли на илистом берегу рядом с оттисками когтистых лап и шерсти — там, где выдра каталась на спине. «Хью-и-ик!» Пройдя по трубе, несущей тонкую струйку воды в другой прудок, поменьше, Тарка оказался в саду приходского священника. «Хью-и-ик!» — вновь раздалось под ночным небом, где тучи то и дело застилали луну.
Тарка обогнул пруд и прополз через дыру под стеной в дальнем конце сада. За ней тек ручей. Он проходил вдоль кладбищенской ограды и бежал дальше, мимо домика с соломенной крышей, где перед очагом с кленовыми головешками сидели человек, собака и кот. Ветер занес в щель под дверями дух выдры, и кошка злобно зафыркала; распушив на спине шерсть и ударяя хвостом, она замерла у корзинки, в которой лежали котята. Когти выдры заскрипели по гальке у плоского камня, откуда, стоя на коленях, фермерские дочери промывали свиные потроха для мясного пудинга. Под камнем жил угорь, разжиревший на перепадавшей ему требухе. Высунь он хвост чуть подальше, Тарка схватил бы его зубами. Белохвостка тоже пыталась поймать угря в предыдущую ночь.
— Хью-и-ик!
Дверь домика распахнулась, мой спаниель с лаем выскочил наружу. «Скиррр!» — с подрезанной ветви вяза на кладбище взлетела сова. Из трубы под дорогой донеслось сердитое шипенье выдры. Я зажег спичку и увидел на красной грязи оттиск лапы с двумя когтями, точно такой же, как тот, что вел в море после Студеной Зимы.
Тарка исчез. Его путь пролегал в темноте и журчании по узкому укрытию трубы, по ручью возле палисадника у дома фермера, по другой трубе и вновь по ручью мимо фруктового сада, к заливному лугу внизу. Совы, охотившиеся вдали от моря, в долине, слышали пронзительный свист выдры.
— Хью-и-ик!
Часто след Белохвостки терялся: после того как здесь прошли выдры, дождь прибил песок и размыл отпечатки их лап.
Тарка двигался по ручью. У деревушки Крайд за поворотом дороги была запруда, на ее травянистых берегах рос боярышник, подстриженный в форме гриба-поганки. Пробираясь по краю пруда среди дикого ириса, корней боярышника и явора, Тарка увидел голову, глядящую на него из воды; от головы струился приятный запах. Тарка кинулся к ней — это была стоящая торчком коряга. Проплывая мимо, о нее потерлась Белохвостка. Тарка куснул корягу и направился дальше, понюхал деревянный затвор шлюза, вылез наверх и побежал по берегу мимо неподвижного, покрытого мхом мельничного колеса. Внизу, в гостинице, люди слышали его пронзительный свист. Залаяла собака, и Тарка свернул на узкую проселочную дорогу, которая поднималась на вершину холма. На сырых, истоптанных копытами участках дороги он снова напал на след — выдры пробегали тем же путем, вспугнутые той же собакой. Отпечатки вывели его в поле через насыпь, где в лунном свете чернели прямые стебли коровяка, на забывшую плуг стерню, колючую для перепончатых лап выдры. Морской ветер переломал здесь весь папоротник.
Внезапно Тарка услышал громкое бормотанье бурунов, увидел маяк за Увалами и радостно понесся по жнивью. Он бежал так быстро, что вскоре стоял на краю песчаных взлобков, куда залетали брызги прибоя. Спустился вниз по уступам, поросшим левкоем, — его листья уже рассыпались прахом в осеннем сне.

Тарка в Увалах на пути к эстуарию.
След шел через дюны с остриями песколюба к мшистым изложинам, где тянулись к небу бирючина и тупоголовый камыш. То и дело попадались кроличьи черепа и пустые раковины улиток. Тарка пересек Лошадиную топь — поташник, который там рос, возник из одного-единственного семечка, занесенного много лет назад с идущего по Атлантике грузового судна, — и добрался до дамбы перед входом в Брэнтонскую губу. Прилив принял Тарку на лоскутья пены, взбитой Двумя Реками, — здесь они встречались и болтали между собой. Тарка пробежал по западной дамбе и двинулся по выдринной тропе к пруду Бараньи Рога.
— Хью-и-ик!
Подплыл к деревянному мостику у сарая для лодок, к ракитам на островке.
— Хью-и-ик!
Тарка охотился в солоноватой воде, пока рассвет не притушил звезды; тогда он протиснулся сквозь тростники путем, которым ходил прежде, хотя и забыл об этом, и уснул в старом гнезде, где лежали кости и небольшой череп.

