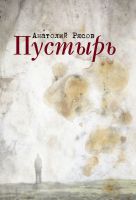Глава 4. 1995–1997 годы
Два года и три месяца. Это тянулось два года и три месяца. И вот теперь Орловы провожали Людмилу Анатольевну в последний путь. Организацию похорон взял на себя институт, в котором доцент Орлова проработала много лет, оставив по себе добрую улыбчивую память: все ценили ее доброту, оптимизм и умение не унывать ни при каких обстоятельствах. И все равно Александр Иванович не ожидал, что провожающих окажется так много: уверен был, что стоит человеку выйти на пенсию – и о нем тут же забывают.
Инсульт случился в тот день, когда Борис приехал и рассказал матери про потерю денег в финансовой пирамиде. Людмилу Анатольевну увезли в больницу, продержали пару недель, ставили уколы и капельницы, потом отправили домой. Лишенная возможности двигаться и говорить, она сохранила только разум, зрение и слух. Врачи ничего определенного не обещали, о перспективах хотя бы частичного восстановления говорили уклончиво и советовали не терять надежды.
Александр Иванович полностью отказался от работы и превратился в сиделку. Приехала Вера, оставив мужа в далеком сибирском городе: нужно было помогать Танюшке и Орлову, потому что Борис так и продолжал мотаться по всей стране в попытках заработать денег на лечение Алисы. Ходить в школу девочка не любила, хотя сама учеба не доставляла ей ни малейших трудностей:
– Меня дразнят, потому что у меня большой животик, – то и дело жаловалась она родителям. – Я не хочу туда ходить.
Слышать это было невыносимо. Но Вера, посовещавшись с Борисом, согласилась с его доводами о том, что нельзя забирать Алису из школы. Татьяна все больше погружалась в мутную беспросветную глубину, и если дать ей возможность не водить ребенка в школу и не забирать оттуда, она вообще перестанет выходить из дома. Она уже сейчас при каждой возможности ложится на кровать и отворачивается к стене, не вступая в разговоры и не отвечая на вопросы. Всем было понятно, что это депрессия и что Татьяне требуется лечение у специалиста, но Татьяна от любого лечения отказывалась категорически.
– Все деньги должны тратиться только на Алису, – говорила она. – Мне ничего не нужно, со мной все в порядке, я сама справлюсь.
Переубедить ее было невозможно. Она чувствовала себя виноватой не только в том, что так бездарно потеряла с трудом заработанные деньги, но и в том, что из-за этого у Людмилы Анатольевны случился инсульт. Вера моталась каждое утро из своей квартиры сначала к дочери, потом к Орлову, потом снова к дочери, и в конце концов переселилась к Татьяне окончательно. И ездить меньше придется, и дочь оставлять одну надолго страшно. Когда возвращался Борис, Вера Леонидовна уезжала к себе ночевать, но целые дни все равно проводила у дочери.
Жизнь семьи превратилась в ежедневный круглосуточный труд, и физический, и душевный. И было совершенно непонятно, закончится ли он когда-нибудь.
Александр Иванович ухаживал за обездвиженной женой старательно и со знанием дела. Кормил, мыл, перестилал постель, менял пеленки, делал массаж, боролся с пролежнями, давал лекарства строго по предписанной схеме. Часами сидел возле Люсеньки, читая вслух или что-то рассказывая.
– Милая, ты не поверишь, но сейчас я чувствую себя намного более на своем месте, чем все прошедшие годы, – говорил он. – Я ведь хотел стать врачом, облегчать страдания, помогать тем, кто болен, а вынужден был стать юристом. Наверное, я был неплохим юристом, я очень старался быть профессиональным, чтобы нормально зарабатывать и обеспечивать вас с Борькой, я не халтурил, работал честно и добросовестно. Даже репутацию какую-то заслужил… Но я не вкладывал душу в свою работу, понимаешь? Я всегда знал, что это не мое, это чужое. Чужая жизнь и чужая профессия. А вот теперь, когда я ухаживаю за тобой, я как будто снова вернулся к себе – настоящему.
Глаза Людмилы Анатольевны наливались слезами, и Александр Иванович заботливо и осторожно промокал их платком или тонкой бумажной салфеткой.
Он рассказывал ей о своем детстве, о родителях, о братьях и сестрах, о школьных товарищах и соседских мальчишках, с которыми дружил. Читал ей детективы, которые в изобилии продавались на книжных лотках возле метро. Обсуждал новости, старательно избегая всего, что могло бы разволновать больную. Никаких разговоров о захвате заложников в Буденновске, об убийстве Влада Листьева или о землетрясении в Нефтегорске. Зато подробный, сдобренный шутками, рассказ о новой моде на татуировки, которые в прежние времена были распространены в основном среди уголовников и моряков. О реконструкции Кремля. О широкомасштабной операции по борьбе с братками. О российско-американском экипаже «Шаттла».
В спальню перенесли телевизор и вместе смотрели «Куклы», фильмы, передачи Раздинского и Вульфа. Александр Иванович сам для себя постановил, что Люсенька ни одной минуты, ни одной секунды не останется в одиночестве. Если нужно было выйти на кухню или в туалет, он продолжал громко разговаривать с женой, чтобы она слышала его голос и знала: она не одна, ее не бросили. Уйти из дома Орлов позволял себе только тогда, когда кто-нибудь приходил, чтобы сменить его. Чаще всего это бывала Вера. Борис навещал мать, когда бывал в Москве. Первые несколько месяцев то и дело забегала Алла, потом ее визиты сделались все реже, а весной 1995 года она смущенно заявила:
– Саша, я уезжаю.
Орлов сперва не понял. Ну, уезжает, и что в этом нового? Она и так постоянно ездит туда-сюда.
– Я насовсем уезжаю. В Турцию, – пояснила Алла. – Выхожу замуж.
– За кого? – опешил он.
– За вдовца с маленькими дочками. Он азербайджанец, их сейчас много в Турцию переехало, язык-то практически один и тот же. Его жена умерла, девочкам нужна мать, а дому – хозяйка. Я согласилась.
– Что значит – согласилась? – удивился Александр Иванович. – Ты его любишь или нет?
– Ой, Саша, ну конечно же, нет. Какая может быть любовь, ты что? Это обычный договор. Я воспитываю детей и содержу дом, он содержит и обеспечивает меня. Но это будет хоть какая-то жизнь, не то что здесь… Я устала, Саша, я не могу больше ездить с этими огромными сумками, ночевать на таможнях, скрючившись в машине, все время трястись от страха, что кинут, отберут, ограбят, сожгут… Не могу больше. Мишке я все равно не нужна, вижу его хорошо если один раз в три месяца. Оставлю ему квартиру и уеду, пусть живет, как хочет.
– Но…
Он смотрел на дочь, постаревшую и измотанную годами «челночного» бизнеса и торговли на вещевом рынке, и ему казалось, что все происходящее нереально.
– Что – но? – насмешливо спросила Алла. – Мне пятьдесят три года, и тебе кажется, что в этом возрасте невозможно выйти замуж? Что я старая и никому не нужна?
Орлов откашлялся. Именно это он и думал, но не признаваться же.
– Сколько лет твоему жениху?
– Не беспокойся, тут все в порядке, никаких молоденьких альфонсов. Он старше меня на два года.
– И такие маленькие дети? – усомнился он.
– Это был второй брак. С первой женой он развелся, это было еще в Баку, потом женился на молодой девушке, она родила четверых девочек и умерла. У него свой бизнес, он торгует ювелиркой и кожей, все налажено.
– И такой выгодный жених не смог найти себе жену в Турции?
Алла пожала плечами.
– Наверное, мог. Но он хочет семью, основанную на понятных ему принципах, и жену, воспитанную в той же правовой культуре и в той же системе ценностей, что и он сам. Это его слова.
Орлов помолчал. Ну что ж…
– Ты сама скажешь Люсеньке? – спросил он.
– Конечно, – кивнула Алла. – Вот она проснется – и я с ней посижу, все ей расскажу. Ты сходи пройдись, Саша, проветрись. И знаешь, я хотела сказать…. Ну, в общем, я устала бояться за Мишку. Все эти его сомнительные занятия, маргинальные дружки… Я от любого телефонного звонка вздрагиваю: мне все время кажется, что это звонят из милиции, чтобы пригласить в морг на опознание. Иногда я думаю: лучше бы уж его посадили, я бы хоть меньше беспокоилась. Так вот, я подумала, что если в Турции у меня все сложится более или менее нормально, Мишка приедет в гости, увидит, что можно хорошо жить и без всякого этого криминала, и переедет к нам. Муж даст ему работу в одном из своих магазинов, потом, если Мишка себя хорошо покажет, может быть, и в партнеры возьмет. И все как-то наладится. Как ты думаешь, это возможно?
Такая идиллическая картина представлялась Александру Ивановичу поистине сказочной, а в сказки он не верил. Но если Алла верит – пусть. Люсенька всегда говорила: нельзя лишать человека надежды.
– Не страшно уезжать? – негромко проговорил он. – Все-таки ты выросла в этой стране, а там все чужое.
– Ну и пусть. Мне, видимо, так на роду написано. Я родилась в эвакуации, а не там, где выросли и жили мои родители, потом отцу… – Она запнулась и тут же поправилась: – Горлицыну предложили хорошую должность в другом городе в хорошей больнице, и они не стали после войны возвращаться в Полтаву, да и родных у мамы там не осталось. Мы переехали в Куйбышев. Потом я вышла замуж за Андрея и снова переехала, уже в Иркутск. Потом мы оказались в Москве. Где мой дом? Где мои корни? Я не знаю. Так какая теперь разница, где я доживу свой век?
Орлов так и не смог определить, сколько в словах дочери было горечи и сколько – безразличия.
– Когда ты уезжаешь?
– В конце мая, самое позднее – в начале июня. Надо документы оформить на рыночное место, продать повыгоднее.
– Значит, на День Победы ты будешь еще здесь? В этом году юбилейные торжества, много мероприятий, я почти от всех отказался, но есть такие, на которые не пойти нельзя. Ты сможешь мне помочь с Люсенькой? Побудешь с ней?
– Конечно! Даже не сомневайся, – заверила его дочь, – я буду сидеть здесь, сколько надо.
– Хорошо. – Он встал, вышел в прихожую и начал обуваться. – Тогда я пойду прогуляюсь, куплю нам чего-нибудь вкусненького к чаю.
Маршрут его прогулок теперь всегда был одним и тем же: именно по этим улицам и бульварам они гуляли с Люсей, пока она была здорова. Он шагал и мысленно продолжал разговаривать с женой, каялся в своих грехах и просил за них прощения. Все эти слова он произносил и мысленно, когда был один, и вслух, когда сидел у постели Людмилы Анатольевны, повторял снова и снова, как будто внутри вскрылся нарыв и с каждым словом наружу вытекал зловонный омерзительный гной.
– Знаешь, милая, я вот смотрю на нынешних девятнадцатилетних ребят и понимаю, что они еще совсем дети. А ведь нам с Саней тогда было по девятнадцать. Совсем пацаны. Конечно, мы сами себе казались уже взрослыми, мужиками, бойцами. А на самом-то деле… Двое насмерть перепуганных мальчишек, оказавшихся в лесу, без поддержки, без надежды, один из них – со смертельным ранением. Разве можно было от нас ждать разумных и правильных решений? Сначала была только одна мысль: как спасти Саньку. Потом, когда я понял, что его уже не спасти, на место этой мысли пришла другая: как облегчить его страдания. И только после его смерти я стал думать о том, как выжить самому. Удивительно, что я вообще в состоянии был хоть о чем-то думать. В тот момент Санькино предложение воспользоваться его документами и поменять имя показалось мне единственно правильным, спасительным. Я хотел выжить и воевать, защищать Родину, бить врага. Если бы я попал в плен, у меня как у русского был бы шанс на побег, а как у еврея у меня ни одного шанса не было бы. Это ведь только потом я понял, что у бежавших из плена жизнь оказывалась ужасной, они подпадали под подозрение и проходили бесчисленные проверки, им не верили и априори считали завербованными немецкими агентами, их отправляли в штрафбаты или даже в лагеря, а то и расстреливали без суда и следствия. Но в тот момент такое даже в голову не могло прийти. У меня были только три варианта: «дойти до наших», «плен и побег» или «плен и немедленный расстрел». И вот сейчас я оглядываюсь на себя, тогдашнего, и понимаю, что никак иначе поступить не мог.
Он просил прощения за многолетний обман, за Бориса, за Татьяну, за внучку, за инсульт Людмилы Анатольевны.
– Если бы я не лгал и не выдавал себя за Орлова, если бы сказал правду Верочке, она предупредила бы детей, и они, возможно, приняли бы какие-то другие решения. В любом случае болезнь Лисика не оказалась бы такой неожиданностью для них, они были бы готовы, и, как знать, может быть, у Борьки все сложилось бы иначе с бизнесом, и не было бы этой ужасной истории с пирамидой, и Танюшка не ушла бы в депрессию… И у тебя не было бы инсульта. Я во всем виноват, только я один. И нет мне прощения, – твердил Александр Иванович, глядя в глаза жены.
И те же самые слова он вновь и вновь произносил мысленно, вышагивая по бульвару среди едва покрывающихся нежной весенней зеленью деревьев. «Я остаюсь в одиночестве, – думал он. – Борька со мной не разговаривает, Алла уезжает, Люсенька не может говорить, Танюшка вообще почти рот не открывает, Вере не до меня. Остались только друзья, приятели и коллеги. Да, их много, но ведь они не знают правды обо мне, и с ними все снова получится ложью, притворством, маской. Может быть, было бы лучше, если бы я промолчал и ни в чем не признался? Лисику это не помогло бы, конечно, но отношения с сыном я бы сохранил. И как знать: если бы он не отвернулся от меня и продолжал рассказывать о своих делах, я бы помог советом, подсказал бы что-нибудь, в чем-то поддержал, от чего-то отговорил. И все было бы иначе…»
* * *
Два года и три месяца круглосуточного ухода за парализованной женой и беспрерывного круговорота мыслей о собственной вине.
Людмила Анатольевна скончалась ночью от инфаркта. Когда медики назвали причину смерти, Александр Иванович ушам своим не поверил:
– Как – инфаркт? – растерянно спросил он. – Этого не может быть…
– Может, – сказали ему. – Если был инсульт, значит, поражены сосуды, а где больные сосуды – там и инфаркт рядом. Так случается очень часто.
«Это мое наказание, – говорил себе Орлов. – Это я, а не Люсенька, должен был умереть от инфаркта еще тогда, тринадцать лет назад. Лучше бы умер. И не было бы всего этого кошмара. Все сложилось бы иначе, и Лисика зачали бы в другой день, и хромосомы поделились бы по-другому. Я должен был умереть от этого проклятого инфаркта, я, я!»
Мысль о том, что любимая жена умерла от болезни, предназначенной для самого Орлова, не давала ему покоя. Воспитанный пионерским, комсомольским и партийным мировоззрением, Александр Иванович был крайне далек от религиозного и тем более от эзотерического мышления, поэтому ответов на свои вопросы не находил. Да и сам вопрос никак не удавалось сформулировать внятно и четко. Просто жило внутри Орлова ощущение чего-то неправильного и тревожно-беспокойного.
Сороковины пришлись на середину января. Александр Иванович приехал на кладбище с самого утра и несколько часов простоял на сыром морозе, по привычке разговаривая с Люсенькой. Собраться договорились в два часа, к этому времени приехали Борис с Верой Леонидовной; Танюшку с Лисиком оставили дома, чтобы девочка не простудилась. Еще в течение часа подходили друзья и коллеги Людмилы Анатольевны, потом все поехали в ближайшее к дому Орловых кафе, где для поминального обеда был зарезервирован небольшой зал. Уже в середине скорбной трапезы Орлов почувствовал озноб, заложенность в груди и в носу, начала побаливать голова. К вечеру он свалился с высокой температурой.
– Не вздумай ко мне приезжать, – сказал он по телефону Вере Леонидовне, с трудом проталкивая слова сквозь приступы удушающего кашля. – Не дай бог это вирус какой-нибудь, Лисика заразишь. И вообще, я отлично справлюсь сам, у меня полный дом лекарств, ты же знаешь. Мне ничего не нужно.
– К тебе Борька заедет, – ответила Вера.
– Не нужно! Подцепит от меня заразу, и Лисик…
– Не волнуйся, он завтра улетает, заедет к тебе с утра, принесет продукты и все, что нужно, и от тебя прямо в аэропорт, домой возвращаться не будет, так что никакой угрозы для ребенка нет, – успокоила его Вера.
Борис действительно приехал утром, коротко поздоровался с отцом, осмотрел припасы в холодильнике и кухонных шкафах, сухо осведомился, был ли врач и выписал ли какие-нибудь рецепты. Сходил в магазин и в аптеку, разложил покупки, отдал лекарства.
– Сынок… – начал было Александр Иванович, но Борис решительно перебил его:
– Если бы ты не скрывал свое происхождение, мы давно могли бы уехать в Израиль, где болезнь Гоше хорошо знают, а теперь, когда открыли препараты, еще и лечат. Но ты обманывал нас, и мы вынуждены жить здесь. Жизнь в депрессии – это жизнь в аду. И жизнь рядом с ребенком, обреченным на медленное умирание, это тоже жизнь в аду. И жить, думая, что ты виноват в болезни и смерти свекрови и в разрушенной семейной жизни матери, тоже, знаешь ли, нелегко. Моя жена живет в этом аду только из-за твоей лжи. А мы с тетей Верой смотрим на это каждый день. Извини, но я не могу относиться к этому равнодушно и делать вид, что у нас с тобой все хорошо. Выздоравливай.
Больше он не произнес ни слова, и только щелчок замка во входной двери известил Орлова о том, что сын ушел.
Еще пару дней ему было совсем худо, потом поне-многу Орлов начал приходить в себя и поправляться. Захотелось читать, и не что-нибудь из обширной домашней библиотеки, а такое, где могли найтись ответы на мучившие его, но так и не сформулированные вопросы. Он позвонил давнему знакомому, букинисту, который был когда-то клиентом адвоката Орлова. Давным-давно, еще в 1960-е годы, этот человек, влюбленный в творчество Анри Матисса, по каким-то своим каналам договорился, что из Великобритании привезут роскошный альбом с репродукциями знаменитого француза, но расплатиться за него нужно будет долларами, а не рублями. Валютные операции были запрещены, и букиниста, пытавшегося по крохам насобирать нужную сумму, кто-то сдал. Благодаря усилиям адвоката срок дали условный. А знакомства Орлова в среде московских любителей и знатоков книги стали с того момента активно расширяться.
Объяснить букинисту, какие книги он хотел бы прочесть, оказалось непросто. Орлов долго и путано рассказывал о своем инфаркте, о смерти жены, о болезни внучки, стараясь не вдаваться в излишние подробности и ненавидя себя за то, что многолетняя ложь теперь мешает говорить правду. Его собеседник-букинист был старым человеком, но ясности ума не утратил.
– Кажется, я понял, Александр Иванович, – ответил он в конце. – Когда вы сможете заехать? Я подберу вам литературу.
Пришлось сказать и о своей болезни, которая никак не позволит в ближайшее время приехать за книгами.
– Да о чем вы говорите? Я сам привезу!
– Неловко вас беспокоить, – смутился Орлов.
– Никакого беспокойства! Скажите мне адрес и время, когда вам удобно, и я все привезу. Буду рад повидаться, мы с вами давненько не встречались, я уж грешным делом подумал, что чем-то вас обидел. Не знал, что у вас такие печальные обстоятельства.
Рувим Наумович, старик букинист, приехал через два дня. Александр Иванович чувствовал себя уже намного лучше, только очень быстро уставал и мучился одышкой. Увидев солидные фолианты в кожаных переплетах, Орлов полез за бумажником, но был остановлен решительным жестом гостя:
– Это подарок.
– С какой стати?
– У вас в этом году семидесятипятилетие, я не путаю?
– Да…
Ему действительно в этом году исполнится 75. Совсем забыл…
– Значит, память меня пока не подводит, – удовлетворенно улыбнулся букинист. – Вот это и будет моим подарком к юбилею. И не вздумайте отказываться.
– Спасибо, – растроганно ответил Орлов. – Как-то забываешь в повседневной жизни, что ты уже старик, а как день рождения отмечаешь – так и понимаешь, что все главное позади, а впереди совсем немного осталось.
– Ну вот и глупости! – решительно возразил Рувим Наумович. – Мне восемьдесят семь стукнуло, а я бодр и весел и помирать пока не собираюсь. У меня, знаете ли, планов громадье на ближайшие годы! Хочу осуществить хотя бы малую часть своих мечтаний, благо теперь ездить можно повсюду, лишь бы деньги были. Да и деньги-то, в сущности, нужны не такие уж большие, проезд можно устроить совсем недорого, и дешевых отельчиков много повсюду.
– И куда же вы собрались, уважаемый Рувим Наумович? – поинтересовался Орлов.
– Меня интересуют кладбища, – сообщил букинист. – Преимущественно, конечно, русские, но и кое-каких европейцев хотелось бы навестить в местах их последнего упокоения. Так что первоочередные мои устремления – Франция и Германия. Жаль, что Моцарта похоронили в общей могиле, я бы и его навестил. Кстати, если у вас есть родня, упокоенная за границей, то скажите, где, я найду, цветочки от вас положу, привет передам.
Орлов смешался. К такому повороту он не был готов.
– Да вроде… даже не знаю, – пробормотал он. – Мама, конечно, знала точно, кто и где похоронен, но она умерла, когда я был младенцем еще, а отец этим как-то не интересовался. Так что можно считать, что зарубежных могил у меня нет.
– Печально, печально, – покачал головой Рувим Наумович. – Что же, никого из родственников по линии вашей матушки вы не застали?
– Никого. Все эмигрировали, кроме мамы и ее отца, моего деда. Деда расстреляли в девятнадцатом, еще до моего рождения, осталась одна мама. Она умерла в двадцать четвертом году от дифтерии.
Рувим Наумович неожиданно оживился.
– Любопытно, очень любопытно. – Его глаза заблестели интересом. – А почему же, позвольте спросить, ваш дед не уехал вместе со всеми? Он поддерживал большевиков? Был при них в больших чинах?
– Да бог с вами! – рассмеялся Орлов. – Мой дед был ученым, криминалистом, он считал, что его долг – служить делу борьбы с преступностью, и не важно, какая на дворе власть, важно, чтобы преступники были пойманы и изобличены.
– А матушка ваша? Почему она не уехала?
– Она ждала с фронта своего жениха, моего отца. Мама была квалифицированной медсестрой, во время империалистической работала в госпитале, а когда мне было чуть больше года, ее отправили на борьбу с вспышкой дифтерии куда-то за Урал, на границу с Казахстаном. Вернее, это теперь считается границей с Казахстаном, а в те годы это была территория Киргизской автономной республики, а Оренбург был ее столицей. Мама заразилась и умерла.
– Прискорбно, прискорбно. – Рувим Наумович снова сочувственно покачал головой. – Могилу навещаете?
Орлов судорожно сглотнул. Опять ложь. Неужели это никогда не кончится?
– Увы – нет. Отец рассказывал, что население деревни было совсем темным, и, несмотря на разъяснительную работу приехавших медиков, люди считали, что болезнь настолько заразна, что трупы нужно сжигать. Так что навещать нечего.
На самом деле Саня Орлов говорил ему когда-то совсем другое. Его мать, Ольга Александровна, действительно была отправлена в составе бригады медиков на вспышку дифтерии и действительно умерла в этой глухой деревне, но похоронена была в обычной могиле, и Саня с отцом ездили туда каждый год. Навещать могилу совершенно постороннего человека Орлову не хотелось, да и ехать далеко, поэтому сначала Люсе, а потом и всем остальным он рассказывал придуманную им же самим ложь о диких нравах и непросвещенности местных жителей и о полном уничтожении тел умерших от дифтерии.
– Ну, про могилу вашего деда я не спрашиваю, ибо с расстрелянными и так все понятно, – заключил букинист. – Ваш батюшка, помнится мне – вы говорили, погиб при обороне Ленинграда, так что и об этом вопросов не задаю. А те, кто эмигрировал?
– Жена деда, моя бабка, была немкой, она с младшими детьми уехала в Германию, потом перебралась в Австрию. Были еще родственники, врачи, они уехали в самом начале века по линии Красного Креста в Панаму, там свирепствовала желтая лихорадка, врачей не хватало. Они остались в Латинской Америке, и никаких сведений о них у меня нет.
Чтобы прекратить обсуждение неприятной для себя темы, Орлов предложил гостю попить чайку, на что Рувим Наумович согласился с видимым удовольствием. К чаю, правда, нашлось только изрядно подсохшее печенье – выходить в магазин за продуктами Александр Иванович пока еще не решался. К счастью, обнаружилась баночка клубничного джема, по всей вероятности, купленная Борисом: сам Орлов клубнику не любил и такой джем никогда не купил бы. Наверное, сын просто забыл вкусы своего отца. Или вообще не думал о них, когда делал покупки. Ах, Борька, Борька…
Допивая третью чашку заваренного по всем классическим правилам чаю, Рувим Наумович вновь вернулся к интересующему его вопросу:
– Я ведь не зря спрашиваю вас о покойных родственниках, дорогой мой Александр Иванович. В тех книгах, которые я вам принес, вопросам рода и предков уделяется очень большое внимание. Поэтому если вы не готовы думать в этом направлении, то вам и читать их бесполезно. Мне вы можете ничего не отвечать и не рассказывать, если не хотите, воля ваша. Но когда вы начнете читать, вы поймете, что без знания своего рода, своих корней, своей истории у вас все равно ничего не выйдет. Если заинтересуетесь, то могу рекомендовать вам более современную литературу на эту же тему, на Западе она в большой моде, там много пишут, а у нас теперь и переводят. У меня-то, сами понимаете, интересы лежат в области изданий далеко не современных, потому и книги я вам принес старинные.
Слов букиниста Орлов в тот момент не понял, но ничего больше спрашивать не стал. Проводив гостя, вернулся на кухню, вымыл посуду, аккуратно вытер и поставил на полку чашки и блюдца, ложечки сложил в ящик, протер влажной тряпочкой стол и, предвкушая удовольствие, уселся в кресло, приготовившись изучить подаренные книги.
Подарок оказался действительно дорогим: три книги, изданные между 1850 и 1870 годами. Такие издания в нынешнее время просто по определению не могут стоить дешево. Орлов осторожно погладил пальцем кожаный переплет верхнего тома, и снова в его памяти всплыло то ощущение: он сидит на крыльце дома, в котором вырос и в котором жили совершенно посторонние люди, и нащупывает вырезанные когда-то ножиком на ступеньке свои инициалы. Болезненно сдавило грудь, на глазах выступили слезы.
Он глубоко вздохнул, открыл книгу и начал читать.
* * *
Несколько следующих дней прошли как в тумане. Орлов читал, думал, снова читал, перечитывал, возвращаясь на несколько глав назад. Он забывал поесть и принять лекарства, выныривая из глубины роящихся бессвязных мыслей только тогда, когда звонил телефон. Перевернув последнюю страницу третьей книги, он выпил кофе, принял душ, оделся потеплее и вышел в стылую февральскую морось.
Он шел медленнее обычного – сказывалась слабость после болезни, но Александр Иванович твердо решил не возвращаться домой до тех пор, пока мысли не придут в относительный порядок.
Примерно через полтора часа он понял, что можно возвращаться. И домой, и к жизни вообще. К той жизни, которая у него есть, потому что другой все равно уже не будет. Он зашел в магазин, порадовавшись, что теперь есть такая удобная штука, как супермаркет, и не нужно мотаться из булочной в «Молоко» и из овощного в гастроном, универмаг и в «Хозтовары», а можно все купить в одном месте.
Дома он в удобном ему и привычном порядке разложил покупки, сварил гречневую кашу на ужин и овощной суп на завтрашний обед. Позвонил Вере Лео-нидовне и предупредил, что завтра после обеда приедет навестить внучку. Сел к письменному столу, открыл блокнот и составил список дел на ближайшие дни.
Он не знал, откуда пришел ответ на мучивший его вопрос: из книг ли, подаренных букинистом, или из подсознания. Но ответ был. И казался он настолько простым и очевидным, что оставалось только удивляться, почему Орлов не додумался до этого раньше.
Тридцать два года этот ответ был перед его глазами, а он не видел, не замечал, не понимал. Анна Юрьевна Коковницына, приехавшая из Парижа, рассказавшая свою горестную историю и считавшая, что ей необходимо исправить ошибку своего отца. Она приняла Михаила Штейнберга за настоящего потомка Раевских и была уверена, что передала содержимое сигарной коробки своего деда по назначению. Она заблуждалась. И с того момента у него, у Александра-Михаила Орлова-Штейнберга, находились чужие вещи, к которым он не имел никакого отношения и которые нужно было вернуть законным владельцам. Как вернуть? Где их искать? Коковницына говорила, что пыталась найти их, но не нашла никого, кроме Александра Орлова, а уж у нее-то возможностей наверняка было больше, чем у живущего за «железным занавесом» рядового адвоката. Но Коковницына искала живых потомков рода Раевских. А из прочитанных книг Александр Иванович понял, что это совсем не обязательно. Прах к праху.
Он должен поехать туда, где умерла мать Сани Орлова, Ольга Александровна, и похоронить то, что передала Коковницына в ее могиле. Вот тогда все будет правильно. И может быть, ему самому станет хоть немного легче. А может быть, и не только ему… Он не знал, можно ли верить тому, что написано в этих старых книгах. Проживший всю жизнь в материалистическом безбожии, Александр Иванович не умел мыслить категориями «кармы», «энергетики», «ауры» и «астральных тел». Но смотреть, как страдают его близкие, как болеет и угасает его внучка, как ненавидит его сын, как заживо хоронит себя невестка, было невыносимо. Люсенька всегда говорила, что нужно бороться до конца, нужно пробовать все варианты, даже самые невероятные, нельзя отступаться и опускать руки. И пусть то, что он задумал, глупо и смешно, пусть оно бессмысленно и не принесет никакой пользы, – он, Орлов, все равно должен сделать это, чтобы не казнить себя за то, что не сделал.
* * *
То, что в 1924 году именовалось «глухой деревней», за последующие 70 лет превратилось в довольно крупный поселок городского типа, выросший вокруг большой текстильной фабрики. До Оренбурга Орлов летел самолетом, потом несколько часов на поезде и еще три часа автобусом – и он был на месте. На автовокзале Александр Иванович сразу заметил нескольких пожилых женщин, стоящих с написанными от руки плакатиками: «Комнаты недорого». Неторопливо окинув взглядом каждую из потенциальных домовладелиц, он выбрал самую пожилую – сухощавую, опрятно одетую, интеллигентного вида женщину в очках. Длинная клетчатая юбка торчала из-под потертого пальто с куцым, когда-то рыжим, воротником. С первого же взгляда было понятно, что для женщины сдача комнаты – не бизнес, а средство выживания. «Наверное, бывшая учительница, – решил Александр Иванович. – Или чиновница какая-нибудь из советско-партийных учреждений».
Орлов подошел к ней. В глазах старой женщины вспыхнула надежда.
– Желаете комнату снять? – спросила она чуть дрожащим голосом. – Здесь недалеко, дом хороший, пятиэтажка, правда, без лифта, но все удобства, чисто, и если желаете, могу предложить столоваться у меня…
– Желаю, – улыбнулся Александр Иванович. – Вы давно здесь живете?
– Всю жизнь, – удивленно ответила женщина. – А для вас это важно?
– Тогда тем более желаю. Пойдемте?
От автовокзала до дома действительно было совсем недалеко, минут пять-семь средним шагом.
– Я смотрю, у вас много предложений о сдаче комнат, – заметил Орлов. – Неужели есть спрос?
– Ну а как же! У нас ведь текстильный комбинат, с зарплатами беда, денег нет, поэтому платят товаром. Кто как может, тот так и сбывает. А продукция у нас на комбинате очень хорошая и востребованная: полотенца, постельное белье, скатерти, салфетки. Вот и съезжаются без конца покупатели, оптом затариваются и увозят в другие регионы продавать. Только так и выживаем.
– А гостиница?
– Да что вы, какая у нас гостиница! Было что-то вроде Дома колхозника, но давно, теперь пришло в полную негодность. Правда, нашелся инвестор, который предложил построить у нас небольшой, но приличный отельчик, но администрация ему не разрешила.
– Почему же? Разве плохо, если в городе будет приличный недорогой отель?
– Как же вы не понимаете! – В голосе женщины зазвучала досада. – Если будет отель, значит, у него будет хозяин, и вся прибыль от приезжающих пойдет ему в карман. А сейчас отеля нет, и мы, пенсионеры, имеем хоть какую-то возможность заработать прибавку к пенсии.
– Вообще-то это странно, – скептически усмехнулся Орлов. – Насколько я понимаю современные реалии, администрация обязательно должна была согласиться на предложение инвестора, потому что такое предложение подразумевало очень приличный откат. Кто ж откажется от дармовых денег? Или у вас администрация необыкновенно честная?
Женщина, не замедляя шага, бросила на Орлова испытующий острый взгляд.
– Администрация у нас обыкновенная. А вот инвестор был иностранцем и давать взятки не собирался. У них в Америке так не принято, там мир цивилизованный.
– Инвестор – американец? – изумился Орлов. – В первый раз слышу, чтобы американцы захотели строить маленький недорогой отель вдали от туристических маршрутов. Или вы что-то путаете, или здесь что-то нечисто.
Женщина распахнула дверь подъезда, поднялась на третий этаж, открыла квартиру и сделала приглашающий жест рукой:
– Прошу. Посмотрите комнату. Если вас устроит – будем знакомиться и договариваться об условиях. Вы ведь даже цену не спросили.
Квартира была двухкомнатной, необыкновенно чистенькой и уютной. Маленькую комнату хозяйка оставила для себя, комнату побольше сдавала. Орлова все устроило.
– Александр Иванович, – представился он.
– Елена Денисовна. – Хозяйка протянула ему морщинистую руку, которую Орлов осторожно пожал. Ему казалось, что ее хрупкие косточки сломаются в его мощной ладони. – И откуда же вы к нам пожаловали, Александр Иванович?
– Из Москвы.
– По делам? Или так, погулять?
Орлов улыбнулся. Строчка из песни Окуджавы про Леньку Королева прозвучала в разговоре естественно и непринужденно, как обычные слова.
– По делам, – ответил он.
– Бизнес? – В голосе женщины ему почудилась легкая брезгливость.
– Нет, семейное. Хочу найти могилу матери, она была медсестрой, умерла здесь в двадцать четвертом году во время вспышки дифтерии. Я ведь потому и спросил, давно ли вы здесь живете: без помощи местных старожилов мне не обойтись.
Елена Денисовна с любопытством посмотрела на него.
– Уж не сын ли вы Ольги Орловой?
– Да, – кивнул Александр Иванович.
– Ну надо же… Так вы ничего не знаете? Вы вообще были здесь когда-нибудь?
– Был, – привычно солгал Орлов. – Давно, еще до войны. После войны как-то не довелось. А что я должен был знать?
Она вздохнула.
– Давайте-ка выпьем чаю, или лучше я вас ужином накормлю, вы же с дороги. Вы, кстати, кто по образованию?
– Юрист.
– Странно. – Елена Денисовна пожала плечами. – Если юрист, то должны бы знать, что захоронение, за которым в течение пятидесяти лет никто не ухаживает, считается бесхозяйным, или, в просторечии, – бесхозом, и кладбищенская администрация вправе распорядиться этим местом по своему усмотрению. Что же вы тянули так долго?
Орлов не знал, что ответить, и отправился в крошечную ванную помыть руки, после чего закрылся в своей комнате, чтобы переодеться. Сменил несвежую сорочку, сверху натянул джемпер потоньше – в квартире было тепло, достал тапочки, переобулся. Когда появился в кухне, на столе стояла тарелка с дымящимся супом и нарезанный толстыми ломтями хлеб на блюдечке.
Он был настолько голоден, что даже не мог понять, вкусный ли суп. В последний раз он ел в самолете, покупать же еду в аэропорту, на железнодорожном или автовокзале не рискнул: не хватало еще отравиться в поездке! Пока он ел, Елена Денисовна поведала, что сразу после войны здесь развернули строительство комбината, начали возводить жилье, школы, поликлинику и больницу, поселок быстро разрастался, и в пятьдесят втором году было решено снести старое кладбище и на его месте разбить городской сквер. Кладбище, как и положено, находилось рядом с церковью, которую разрушили еще в двадцатые годы.
– Так оно и шло с тех пор, – журчал голос Елены Денисовны. – Пока в восемьдесят девятом не появился Евгений Степанович Муромов. Вот тут-то все и началось!
А начались настоящие чудеса. Сначала поселковый совет объявил, что в сквере будет воздвигнут памятник – мемориал всем советским медикам, погибшим во время борьбы с эпидемиями и опасными болезнями. Мемориал начали возводить, а в поселке тем временем открылся краеведческий музей, директором которого и единственным сотрудником стал Муромов.
– Памятник очень красивый получился, – говорила хозяйка, прихлебывая чай маленькими глоточками. – У нас-то, кроме школ и пары техникумов, ничего нет, а вот в соседних райцентрах есть медучилища, так к нам в сентябре – октябре целыми делегациями оттуда приезжают каждый год. Решили, что будет такая традиция: посвящение в студенты у памятника погибшим медикам. Приезжают первокурсники, цветы возлагают, все торжественно, целая церемония. Весь поселок приходит смотреть на такую красоту.
Орлов слушал эту историю, как сказку, и не верил ни одному слову. Хотя, конечно, про делегации к мемориалу Елена Денисовна вряд ли придумала, а вот все остальное вызывало у Александра Ивановича очень большие сомнения. Кто такой этот Муромов, если стоило только ему приехать – и начали возводить мемориал? И с чего вдруг вспомнили о врачах, погибших столько лет назад? Если Муромов – толстосум, имеющий свои интересы на территории поселка или на комбинате, то с какой стати ему заниматься краеведением? Одно с другим никак не вязалось.
– Так что на могилу матери у вас вряд ли получится сходить, – заключила хозяйка. – Теперь уж той могилы нет, а вот цветы принести к памятнику вы вполне можете.
* * *
Измученный длинным переездом, Орлов спал крепко и без сновидений. Проснувшись, обнаружил на кухонном столе завтрак: накрытую белоснежной салфеткой мисочку с сырниками. От одного вида золотистых корочек у Орлова потекли слюнки. Под край мисочки была подсунута записка, сообщавшая, что Елена Денисовна ушла «на базар», а ключи от входной двери висят на крючке в прихожей: маленький ключ – от верхнего замка, ключ побольше – от нижнего.
Александр Иванович быстро, но с аппетитом позавтракал, запер квартиру и отправился искать сквер, досадуя на себя, что не спросил дорогу еще вчера у той же Елены Денисовны. Ему почему-то и в голову не пришло, что ее может не оказаться дома, когда он проснется.
Возле соседнего подъезда на лавочке сидел древний старичок с газетой в руках. Он оказался глуховат, и свой вопрос Орлову пришлось задавать как минимум раза четыре, но зато ответ он получил вполне четкий: дойти до автовокзала, повернуть налево, дальше по прямой примерно с километр.
– А музей?
– А? – Старик приставил согнутую ладонь к уху.
– Музей! – почти крикнул Орлов.
– А музей-то – это совсем рядышком, только в другую сторону. Назад иди, мимо школы, и сразу за школой будет музей.
Александр Иванович решил сперва зайти в музей. Для осуществления задуманного ему необходимо было найти документы по кладбищу, и если их нет в самом музее, то его директор хотя бы подскажет, где их можно поискать.
Он легко нашел здание школы, миновал его и увидел небольшое симпатичное строение с вывеской у входа. «Ну, поглядим, что ты за птица – Евгений Степанович Муромов, волшебник местного разлива», – ехидно подумал Орлов, толкая массивную, покрытую лаком деревянную дверь. После яркого мартовского солнца глаза с трудом привыкали к полумраку, и Александр Иванович услышал голос прежде, чем обрел способность четко видеть.
– Здравствуйте, день добрый, проходите, пожалуйста. Чем могу служить?
К нему быстрыми шагами двигался, вернее, катился упругий колобок.
– Одну минутку, я включу освещение. Когда никого нет, я электричество выключаю в целях экономии.
Вспыхнули светильники, и Орлов встретился с сияющей широкой улыбкой. Невысокий полный, но очень подвижный мужчина лет пятидесяти сверкал блестящей лысиной, стеклами очков и белоснежными зубами. Костюм-тройка сидел на нем безупречно, сорочка и галстук подобраны в тон. Как-то это не вязалось с привычным, давно сложившимся образом музейного работника, да еще в такой далекой от центра провинции.
– Евгений Степанович? – неуверенно спросил Орлов.
– Он самый. Чем могу быть полезен? Желаете заказать экскурсию? Или у вас частные вопросы?
– Скорее, частные. Вы могли бы уделить мне время?
– Да сколько угодно! – радостно заулыбался Муромов. – В шестнадцать часов мне надо быть в школе, я веду там кружок любителей истории родного края, а до шестнадцати я совершенно свободен, как Винни-Пух до пятницы. На сегодня не запланировано ни одной экскурсии. Прошу ко мне в кабинет, я отвечу на все ваши вопросы, если смогу.
«Сюр какой-то, – думал Орлов, идя следом за директором музея на второй этаж. – Для музейного работника он слишком хорошо одет. Но в то же время ведет кружок по истории, значит, это его специальность. Здание явно новое или недавно отремонтированное, деньги вложены немалые. Откуда? Неужели поселковая администрация расщедрилась? Маловероятно. Сейчас с бюджетными деньгами всюду плохо. Кто-то инвестировал? Но кто? И зачем? Зачем кому-то открывать в этом захолустье краеведческий музей? Бред какой-то…»
Кабинет у Муромова был тесным, заваленным папками, бумагами и книгами. На столе стоял компьютер, не такой, как у самого Орлова – из бывших в употреб-лении, а новый, последнего поколения, очень дорогой. «Ну и музей! – мысленно ахнул Александр Иванович. – Темная история».
– Внимательнейшим образом вас слушаю, – заявил Муромов, усевшись за свой стол и предложив посетителю занять один из двух свободных стульев, стоящих вдоль стены. Остальные стулья были заняты папками и какими-то картами и схемами.
– Меня интересует место захоронения Ольги Александровны Орловой, медсестры из Москвы, она умерла здесь в тысяча девятьсот двадцать четвертом году от дифтерии, – начал Александр Иванович заготовленную заранее фразу. – Мне сказали, что старое кладбище снесли, но, возможно, где-то остались планы с указанием могил…
Он не сразу обратил внимание на то, как стало меняться лицо Муромова: на нем поочередно проступали изумление, восторг, потом недоверие и будто бы сомнение.
– Позвольте-позвольте, – быстро заговорил директор музея. – Вы приезжий?
– Да, из Москвы.
– У мемориала еще не были?
– Нет, я только вчера приехал и вот сегодня прямо с утра – к вам. А в чем дело?
– Если бы вы посетили наш мемориал, вы бы увидели на нем имя и портрет Ольги Александровны Орловой. Мемориал стоит точно в том месте, где когда-то находилась ее могила.
– Как?! Не может быть!
– Может. Таково было условие заказчика.
– Погодите, погодите. – Орлов потряс головой, словно отгоняя наваждение. – Я ничего не понимаю. Какое условие? Какого заказчика?
Муромов смотрел на него глазами безумца. Наверное, именно таким мог бы быть взгляд человека, нашедшего сокровище после долгих лет бесплодных поисков. «Нет, он действительно историк, – мелькнуло в голове у Александра Ивановича. – Я знаю этот взгляд. Я видел его столько раз у Люсеньки… Но непонятно, что это за заказчик с его условием. И вообще: откуда деньги на все это?»
– Давайте-ка познакомимся как следует, – проговорил Муромов дрожащим от возбуждения голосом. – Мое имя вам известно, должность тоже, а вот сами вы не представились и причину своего интереса никак не пояснили.
– Орлов, Александр Иванович, пенсионер, адвокат, москвич.
Брови директора поднялись над тонкой оправой очков.
– Орлов? Александр Иванович? То есть вы…
– Да, – кивнул Орлов, – я ее сын.
– Мне рассказывали, что на могилу Ольги Александровны до войны каждый год приезжали ее муж и сын. А после войны их здесь ни разу больше не видели.
– Да знаете… как-то после войны все было сложно. Нужно было страну восстанавливать, профессию получать, свою жизнь как-то обустраивать… А потом стало известно, что кладбище сровняли с землей и разбили сквер. Могилы больше нет. Потому и не приезжал.
«Сколько еще я буду врать? – тоскливо думал Александр Иванович. – Видимо, до гробовой доски. Нет мне спасения…»
– Понимаю, понимаю, – покивал Евгений Степанович. – А сейчас почему все-таки приехали? Узнали, что мемориал открыли?
Он сам подсказал ответ, и Орлов не замедлил воспользоваться невольной помощью директора музея.
– Знаете что, Александр Иванович? – Муромов поднялся из-за стола и потянулся за висящей в углу на вешалке курткой. – А пойдемте-ка мы с вами в одно тихое местечко, выпьем кофейку и поговорим. А потом я провожу вас к нашему мемориалу.
– Может, лучше наоборот? Сначала к мемориалу, потом кофе?
– Нет уж, – твердо возразил директор. – Сперва мы с вами поговорим. Я должен многое вам объяснить, прежде чем вы придете на место, где была похоронена Ольга Александровна.
Они вышли из здания музея, снова прошли мимо школы и мимо дома, в котором снял комнату Орлов, свернули в переулок и оказались в сумрачном полуподвальном помещении, где стояло всего три столика, но зато не было ни одного посетителя, и в воздухе витал запах вполне приличного кофе.
– Итак, Александр Иванович, вернемся в тысяча девятьсот восемьдесят девятый год, – торжественно начал Муромов.
«Он точно историк», – снова подумал Орлов.
* * *
Евгений Степанович Муромов родился в Смоленске сразу после войны. Семья была большой, все трудились, как могли, а на интерес Жени к истории смотрели косо: нечего над книжками рассиживаться, надо идти вкалывать и зарабатывать, чтобы прокормить младших. Он очень хотел поступить в институт, но вместо этого пошел в техникум, потом в армию, а потом на завод: зарплата рабочего была несоизмеримо выше студенческой стипендии. Спустя несколько лет он все-таки поступил в институт и получил высшее образование, правда, заочно: необходимости зарабатывать никто не отменил. Был Евгений активным и энергичным, его стали продвигать сначала по комсомольской, потом по профсоюзной линии. Профессионально заниматься историей он так и не нашел возможности, хотя любви к предмету не утратил. Женился, родились дети.
Прошли годы, началась перестройка, разрешили частнопредпринимательскую деятельность, Евгений Степанович воспользовался старыми знакомствами и пристроился к сфере общепита: кооперативные кафе позволяли неплохо заработать. Когда стали создаваться совместные предприятия, начали появляться и неведомые ранее заморские продукты, за которыми экспедитора Муромова отправляли в Москву. В одной из таких поездок все и началось…
Машина, под завязку загруженная коробками с яркими пакетиками и бутылками с золотистыми этикетками, прочно застряла в пробке на улице Горького: впереди случилась большая авария с несколькими автомобилями, все полосы проезда оказались перекрыты. Евгений Степанович выскочил из машины, добежал до места аварии, оценил перспективу и сказал водителю:
– Час как минимум.
– И чего будем делать? – лениво поинтересовался водитель, которого вполне устраивала возможность подремать: машины стояли наглухо, никто не двигался даже на сантиметр.
– Хочешь – поспи, – предложил Муромов. – А я на улице постою.
Они застряли прямо напротив большого книжного магазина, и Евгений Степанович увлеченно рассматривал выставленные в витрине книги, не забывая, однако, поглядывать на проезжую часть, чтобы успеть разбудить водителя, если транспортный поток вдруг оживет. Когда рядом раздался незнакомый мужской голос, Муромов даже не сразу сообразил, что слышит русскую речь – грамматически безупречно правильные фразы произносились с сильным акцентом и с чужеземной интонацией.
– Извините, я не говорю по-английски, – пробормотал он, не оборачиваясь.
– А разве я говорю с вами не по-русски? – удивленно возразил голос.
Только теперь Муромов повернул голову, чтобы увидеть собеседника. Перед ним стоял мужчина, возраст которого Евгений Степанович затруднился бы определить. Вроде ровесник… Но волосы густые, как у молодого человека. Сам-то Муромов начал лысеть уже в тридцать. Кожа гладкая, но вокруг глаз множество морщинок. Да и одет как-то несерьезно: джинсы, футболка, сумка на длинном ремне.
– Простите, я не расслышал, что вы сказали, – смущенно проговорил экспедитор.
– Так увлеклись? Какая же книга вас так заинтересовала?
Теперь Муромов гораздо лучше различал слова, произносимые с сильно смягченными согласными. Он ткнул пальцем в лежащий за стеклом богато иллюстрированный том.
– О, вы знаток истории?
– Да какой там знаток! – Евгений Степанович махнул рукой и улыбнулся. – Так, балуюсь.
И зачем-то пояснил:
– Вообще-то я экспедитор, живу в Смоленске, в Москву за товаром приезжаю. Вон моя машина стоит. Водитель отдыхает, а я вот вышел книги посмотреть.
Он рад был скоротать ожидание беседой, а иностранец, судя по всему, никуда не торопился и начал с видимым интересом задавать вопросы. Евгений Степанович глазом моргнуть не успел, как оказалось, что он выложил перед незнакомцем всю свою жизнь, как на ладони. То и дело он увлекался, забывая, что разговаривает отнюдь не с соотечественником, потом внезапно спохватывался и принимался разъяснять понятные каждому русскоговорящему речевые обороты и идиомы, но иностранец каждый раз только улыбался и кивал:
– Я понял, я вас отлично понял.
– Откуда вы так хорошо знаете русский язык? – удивился Муромов.
– Я учил его практически с самого рождения. Моя бабушка была из России, она учила своему родному языку всех своих детей и внуков.
Они проговорили битых полтора часа, пока «Скорая» увезла пострадавших, а поврежденные машины наконец эвакуировали.
– Я обязательно приеду в Смоленск, – сказал на прощание иностранец. – Это старинный город, там есть что посмотреть.
– Приезжайте! – горячо поддержал его Муромов. – Вот вам моя визитка, позвоните мне, когда приедете. Я вам все покажу и расскажу лучше любого экскурсовода.
Встреча показалась ему забавной, даже приятной, но в то, что этот американец приедет в Смоленск, Евгений Степанович не верил. Каково же было его изумление, когда через три дня новый знакомый, представившийся Эдди Фаррелом, позвонил ему вечером домой.
– Я в Смоленске, – заявил Фаррел. – Ваше предложение остается в силе?
Муромов попросил у работодателя три дня за свой счет и с упоением отдался любимому занятию, показывая гостю город и рассказывая об истории родного края. На третий день Фаррел пригласил Евгения Степановича отобедать в самом дорогом ресторане.
– У меня к вам деловое предложение, – начал он, когда с закусками было покончено и ждали основное блюдо.
Суть предложения состояла в том, чтобы поехать в Зауралье, в Оренбургскую область. От такого странного начала Муромов опешил.
– Насовсем? Что я буду там делать?
– А что захотите, – широко улыбнулся Эдди. – Для меня важно, чтобы было найдено одно захоронение и на его месте воздвигнут монумент в память о медиках, погибших при борьбе с эпидемиями и опасными болезнями. Я богатый человек, Евгений. Очень богатый. Я спонсирую всю работу от первого до последнего цента. Для меня важно, чтобы памятник был построен и чтобы имя медсестры Ольги Орловой было увековечено. Сколько это будет стоить – меня не волнует. Но я сам не могу заниматься данным проектом, и мне нужен человек, которому я могу это поручить и которому могу доверять. Мне кажется, вы – как раз такой человек.
– Но почему именно я?
– Не знаю. – Улыбка Эдди стала еще шире. – Мне кажется, это задача вам по плечу. Вы хороший опытный организатор, вы умеете находить общий язык с самыми разными людьми, и вы любите историю. Для меня этого достаточно. Простите, если я нарушаю ваши личные границы, но позволю себе высказать предположение, что вы живете не своей жизнью и занимаетесь не своим делом. Ваша настоящая любовь – история, конкретнее – краеведение, и я даю вам возможность этим заняться.
– Вы знаете меня так мало, – усомнился Муромов, сердце которого уже бухало в груди от неожиданно открывшейся перспективы. – Как вы можете быть во мне уверены?
– А я и не уверен. Но у моей бабушки были в воспитании детей и внуков три главных пункта: русский язык, тренированная память и умение отличать людей, идущих своей дорогой, от людей, которые эту дорогу не нашли. Русский язык я выучил, как видите, вполне успешно. Память тренировал усердно. Но самое главное – я научился за очень короткое время выбирать правильных людей. Именно поэтому я не просто принял наследство, а приумножил его многократно. А наследство мне досталось очень большое, можете мне поверить. Мой дед был одним из богатейших нефтепромышленников Техаса в начале века.
Муромов смотрел на Эдди во все глаза. Он, конечно, видел в американских фильмах всяких чудаковатых миллионеров, но не предполагал, что можно вот так запросто сидеть с одним из них за столом, есть салат «Столичный» и разговаривать по-русски.
– Если вы согласитесь, – продолжал между тем Фаррел, – мы с вами съездим на место, познакомимся с руководством, я решу с ними финансовые вопросы, открою счета и подпишу все необходимые бумаги. Заодно представлю вас в качестве моего доверенного лица. Вы будете жить в этом поселке и следить за расходованием средств и ходом работ. Найдете художника, закажете ему проект мемориала, согласуете со мной. В общем, будете моими глазами, ушами, руками и языком. Разумеется, вы будете получать достойную зарплату. И поскольку, вы уж меня простите, я не очень доверяю чиновникам в вашей стране, мне нужно, чтобы вы остались в поселке и постоянно наблюдали за сохранностью мемориала. Поэтому вам придется уговорить свою семью переехать. Но взамен…
Эдди сделал паузу, рассматривая принесенную официантом отбивную, проткнул кусок мяса вилкой, оценил выступивший сок и усмехнулся.
– Что взамен? – севшим голосом спросил Евгений Степанович, опасаясь, что сейчас ему огласят, какую именно «некорректную» услугу он должен будет оказать Фаррелу в обмен на высокую зарплату.
Но он ошибался. Миллионер Фаррел имел в виду совсем другое.
– Если вы бросите свою налаженную жизнь в Смоленске и решитесь переехать за Урал, я должен буду компенсировать эту жертву, и одной только зарплаты, пусть и весьма высокой, для этого недостаточно. У вас есть мечта? Вот представьте себе, что вы приехали в довольно большой поселок, практически город, и вам сказали: делай то, что хочешь. Что бы вы ответили?
Муромов колебался недолго. Этот странный миллионер действительно умел видеть людей. Эдди Фаррел совершенно точно определил: истинная любовь и настоящее призвание Евгения Муромова – краеведение.
– Если бы у меня был административный ресурс и достаточно денег, я бы открыл краеведческий музей, занимался бы им сам и сделал бы всю экспозицию своими руками, – без колебаний ответил Евгений Степанович. – И хорошо бы, чтобы это было совсем новое для меня место, о котором я ничего не знаю. Люблю начинать с нуля. Я бы изучил всю историю края, начиная с глубокой древности, поднял бы литературу, залез в архивы…
Фаррел удовлетворенно кивнул.
– Значит, я не ошибся в вас. А ваша супруга? Она согласится переехать?
– Надеюсь, что согласится. Дети у нас уже взрослые, с нами не живут. Жена у меня учительница, а учителя всюду нужны. Но у меня вот какой вопрос: где будет лежать моя трудовая книжка? Я должен где-то официально работать или хотя бы числиться, иначе могут быть неприятности.
Фаррел задумался. Такая проблема ему в голову, видимо, не приходила.
– А вы сами имеете представление о том, как решается этот вопрос? – спросил он.
– Конечно. Просто я думал, может, у вас есть какие-то требования. А так-то…
– Требование, Евгений, у меня только одно: нужно найти в местных архивах план уничтоженного кладбища, определить в плане точное месторасположение захоронения Ольги Александровны Орловой и возвести монумент на этом самом месте. Это условие должно быть соблюдено досконально, иначе весь проект не имеет смысла. Если вы беретесь за него, то я, со своей стороны, даю вам слово, что профинансирую организацию и функционирование музея, который вы откроете и которым будете руководить.
– А кто такая эта Орлова?
– Видите ли… – Фаррел загадочно усмехнулся. – В сущности, мне она никто. Ольга Александровна – Орлова по мужу, ее девичья фамилия – Раевская. Моя бабушка была воспитанницей в семье Раевских, они взяли ее из приюта совсем крошкой. Ольга Орлова – одна из прямых потомков рода Раевских. Бабушка очень ее любила. Узнав о том, как трагически сложилась судьба Ольги, я захотел сделать что-нибудь в память о ней. Бабушка подала мне в этом смысле хороший пример: другие Раевские, тоже медики, похоронены в Латинской Америке, и мы до сих пор ухаживаем за их могилами. Моя бабушка в девичестве носила фамилию Рыбакова, у нее нет кровного родства с Раевскими, но она до самой смерти считала их своей семьей.
Голова у Евгения Степановича шла кругом. Предложение выглядело невероятно заманчивым и столь же неосуществимым. Он совершенно не представлял себе, как можно финансировать американскими деньгами строительство памятника в России, да еще в строго определенном месте. Какое юридическое лицо создавать? Как составить договор? Как убедить местные власти? Как провести по бухгалтерии? Какие нужны для этого разрешения и согласования?
– Нужен опытный юрист, – нерешительно заметил Муромов.
– Хорошо. Найдите его и договоритесь, – немедленно откликнулся Фаррел.
– И с местной властью непросто будет решать вопросы. Понимаете, Эдди, сейчас такое время… Все хотят заработать. Все хотят урвать свой кусок.
– Если вы о взятках, то я их давать не буду, – отрезал Фаррел. – Это не мой стиль ведения дел. А вот опытный юрист, который составит все бумаги так, чтобы чиновники, от которых зависит решение вопроса, остались довольны, действительно нужен. Я готов переплачивать, но по документам все должно быть абсолютно законно. Вступать в конфликт с советской властью в мои планы не входит.
Он задумчиво покачал головой и улыбнулся каким-то своим мыслям.
– Бабушка рассказывала, что брать мзду борзыми щенками всегда было фирменным стилем русского чиновничества. Ваша страна опасна и непредсказуема. Я не хочу рисковать. Так вы готовы дать мне ответ, или вам нужно время, чтобы подумать?
– Я бы ответил уже сейчас, но мне надо переговорить с женой.
– Хорошо. Завтра после обеда я уезжаю. Надеюсь к этому времени получить ваш окончательный ответ.
– А если я откажусь?
– Значит, я буду искать другого человека. Послезавтра я улетаю домой, но как только позволят дела – сразу же вернусь и займусь поисками.
– Вам так легко дают визу, – с нескрываемой завистью проговорил Муромов. – А мы тут сидим и света белого не видим. Хорошо вам, американцам.
– Ну, положим, визу советское посольство дает не так легко, как вам кажется: ваше КГБ в каждом туристе с Запада видит шпиона. Но ваш Горбачев разрешил совместные с иностранным капиталом предприятия, и я тут же открыл небольшой бизнес, который позволяет мне получать долгосрочные разрешения на въезд в вашу страну. Прибыли этот бизнес, конечно, никакой не приносит, а если и приносит, то русские партнеры ее крадут, но я не обращаю на это внимания. Мои убытки в данном случае всего лишь плата за возможность прилетать в СССР в любой момент, когда мне вздумается.
На следующий день Эдди Фаррел получил от Евгения Муромова твердое «да, согласен», а через два месяца они в компании с юристом и бухгалтером вылетели из Москвы в Оренбург. Как обычно случается, препоны ждали их в неожиданных местах, зато там, где предвиделись какие-то трудности, все проходило на удивление гладко. Юрист и бухгалтер работали сутками напролет, составляя варианты документов, которые тут же печатала нанятая на месте машинистка. Муромов нервничал, опасаясь, что из затеи американца ничего не выйдет. И только Фаррел выглядел безмятежным и уверенным в успехе.
– У меня всегда все получается, – говорил он, – потому что я правильно выбираю людей, которым поручаю работу.
Гостиницы в поселке не было, но председатель поселкового совета с первой же минуты понял, что прибыл «дорогой» гость, то есть богач, которого можно доить. Уже через пару часов вопрос с жильем был решен: Джеймсу Эдуарду Фаррелу-младшему и сопровождающим его лицам предоставили дачу первого секретаря райкома партии. Районный центр находился недалеко, и дачу партийный руководитель организовал себе именно в здешних, весьма живописных, местах.
Трудности и проблемы громоздились одна на другую, и Евгению Степановичу казалось, что через эту гору препятствий он не переберется никогда. И все-таки все закончилось. Как и обещал Эдди, все получилось.
Муромов нашел одинокого алкаша, с готовностью сдавшего ему полдома за совсем смешную ежемесячную плату. Эдди улетел в США, Евгений Степанович привез жену, нашел место, куда можно было пристроить трудовую книжку, и принялся за работу. Через два года мемориал героям-медикам был открыт, а еще через год в краеведческом музее директор провел первую экскурсию.
* * *
– Я понимаю, вам не терпится пойти к мемориалу, но прежде, чем я вас туда провожу, я должен рассказать еще одну вещь… – Муромов замялся. – Это может оказаться не очень приятным для вас, но у меня нет права скрывать.
Орлов недоуменно смотрел на собеседника. Вся рассказанная им история звучала слишком волшебно, чтобы ей можно было верить. И по опыту Александр Иванович знал, что такие сказочные истории зачастую рассказывают именно для того, чтобы потом огласить неприятные факты. Дескать, все так хорошо начиналось, и кто же мог ожидать…
– Мне с самого начала показалось странным, что такая опытная медсестра, какой считалась Ольга Александровна, все-таки заразилась дифтерией. Препараты были в наличии, их сами московские медики и привезли с собой. Почему же она умерла? Как такое могло получиться?
– Может быть, препаратов не хватало, и она не сочла возможным использовать их для себя? – предположил Орлов.
– Нет, – покачал головой Евгений Степанович, – я очень тщательно проверял всю историю этой вспышки дифтерии, а в последние годы, когда стали доступны многие архивные данные, даже запрашивал Москву и получил ответ. Препаратов было достаточно.
– Тогда что вы имеете в виду? Что Ольга Александровна… – Орлов запнулся и, пересилив себя, выговорил: —…Что моя мать была недостаточно квалифицированной, неопытной? Что не соблюдала меры предосторожности при контактах с заболевшими? Не распознала сама у себя симптомы заболевания? Что ее репутация одной из лучших медицинских сестер – дутая величина?
– Боже упаси! – замахал руками Муромов. – Я ни в коей мере не подвергаю сомнению репутацию и квалификацию вашей матушки. Но вопрос меня заинтересовал, и я начал в нем копаться. Уж коли мне поручено увековечить память, то следует досконально изучить не только жизнь, но и смерть усопшего. Я принялся искать старожилов, которые помнят ту вспышку дифтерии и московских докторов. Они, знаете ли, поведали мне немало любопытного.
– Это, должно быть, очень старые люди, – заметил Орлов недоверчиво. – Вряд ли можно полагаться и на их память, и на их разум. Для того, чтобы осознанно излагать события двадцать четвертого года, человек должен родиться не позже тысяча девятьсот десятого. Впрочем…
– Именно! – подхватил Евгений Степанович. – Им и сейчас-то еще девяноста нет, а ведь я разговаривал с ними лет шесть-семь назад. Но ваши сомнения я полностью разделял, поэтому спрашивал не только у них, но и у их детей, которым родители вполне могли давным-давно по секрету что-то рассказать. И внуков вниманием не обошел. Записывал их слова, анализировал, сопоставлял детали. Собственно, первые подозрения зародились во мне совершенно случайно. Я задал вопрос одному старику: почему медсестру Орлову похоронили здесь, а не отправили тело в Москву? В общем-то вопрос был глупым, просто я мыслил в тот момент современными категориями: цинковые гробы, самолеты, заморозка, бальзамирование, ну, вы понимаете, о чем я. В двадцать четвертом году в глухой деревне, от которой только до железной дороги нужно добираться на подводе несколько дней, а потом еще поездом, да летом, в жару… Конечно, вопрос я задал по недомыслию, но вот реакция того старика меня удивила. Вместо того чтобы сразу объяснить мне все эти простые вещи, он стал отводить глаза и бормотать что-то невнятное. Ну, тут я в него и вцепился, как клещ. Как почуял: что-то здесь неладно.
Он замолчал и начал крутить в пальцах алюминиевую ложечку, которой размешивал сахар в своей чашке. Александр Иванович терпеливо ждал.
– Ваша матушка была убита, – наконец выговорил Муромов. – Мне очень жаль.
– Как – убита? – оторопел Орлов. – Кто ее убил? За что? И почему это скрывали? Почему всем говорили, что она заразилась дифтерией?
– Ольга Александровна приглянулась кому-то из тех, кто был прислан устанавливать и поддерживать советскую власть в деревне. «Глухой» деревню называли потому, что она находилась далеко от трассы, а вовсе не потому, что она была маленькой. Большая была деревня, как в те времена говорили – «громкая». Даже не деревня, строго говоря, а село: ведь здесь и церковь своя была. Ольга Александровна взаимностью не ответила, более того, проявила резкость. А очарованный ею деятель был пристрастен к самогону, злоупотреблял, и вообще был человеком грубым и жестоким. Когда медсестру Орлову обнаружили на опушке леса с проломленным черепом, ни у кого не было сомнений. Все знали, кто убил, как убил и почему. Местные активисты и партийцы были, разумеется, не заинтересованы в том, чтобы предать преступление огласке и опорочить представителя советской власти, в деревнях и без того большевиков не жаловали. Поэтому, несмотря на расползавшиеся по деревне слухи, было объявлено, что Орлова заразилась дифтерией и умерла, а то, что у нее якобы проломлен череп, всего лишь пустые домыслы сплетников, которые только и ждут возможности попугать доверчивых крестьян страшными историями. Кто-то поверил, кто-то – нет. Особо сильно сомневавшихся и не боявшихся говорить об этом вслух – а таковых набралось человека три-четыре – перед всем сходом поставили к стенке, то есть публично расстреляли как контрреволюционеров, агитирующих народ против светлых идей. Нравы были ужасными в те времена, сами понимаете, и методы у советской власти оказались не лучше, как ни прискорбно. Но расстрел людей испугал, разговоры смолкли.
– А врачи? – изумленно спросил Орлов. – Они ведь должны были знать правду. Почему же они ее никому не рассказали, когда вернулись в Москву?
– Отличный вопрос! – Муромов назидательно поднял палец. – И мне он тоже пришел в голову. Поэтому я запросил данные обо всех врачах и сестрах в той бригаде. Впрочем, «бригада» – это громко сказано. За Уралом в тот момент были отмечены четыре вспышки дифтерии, всего было направлено одиннадцать человек, по два-три медика на точку. Один врач и одна или две медсестры. Вместе с Ольгой Александровной здесь работал доктор Потемкин. Когда дифтерию удалось победить, он уехал. И знаете что?
– Догадываюсь, – вздохнул Александр Иванович. – До Москвы он не доехал.
– Да что там «до Москвы»! Он даже до железной дороги не доехал. Тело так и не нашли. Пропал без вести. И этот факт послужил для меня еще одним подтверждением того, что со смертью вашей матушки не все гладко. Одним словом, Александр Иванович, я вам сведения выложил, а уж верить в них или нет – решайте сами. Но я чувствовал себя обязанным проинформировать вас обо всех обстоятельствах. Вот теперь, если хотите, можем и к мемориалу пройти.
«Что я должен чувствовать? – спрашивал себя Орлов, идя рядом с директором музея по выщербленной мостовой, перемежавшейся то и дело длинными участками немощеной дороги. – Что должен чувствовать человек, узнавший, что его мать, которую он считал умершей от болезни, на самом деле убил пьяный насильник семьдесят лет назад? Я не знаю. Не могу себе представить. Как странно все складывается: стоило мне сказать своим близким правду – и я начал погружаться в собственную ложь все глубже и глубже. Почему так получается? Если верить тому, что написано в книгах, подаренных Рувимом, все происходит закономерно и правильно, и задача человека – понять эту закономерность и извлечь из нее урок. Какой урок я должен извлечь? Что нельзя лгать? Но я сказал правду, и стало только хуже. И что мне теперь делать?»
Сквер, к которому привел Муромов, выглядел уныло: черные и темно-серые голые деревья, под ногами – хлюпающий подтаявший грязный снег вперемешку с огромными лужами; скамейки в основном пустовали, только на одной из них, усевшись на спинку и поставив ноги на сиденье, компания крупногабаритных подростков распивала пиво.
Евгений Степанович заметил, что по лицу Орлова мелькнуло выражение тоски и безнадежности, но он истолковал это по-своему:
– Сейчас, конечно, сезон такой, когда красоты нигде нет. Вот если бы вы летом приехали, вы бы застали совершенно другую картину. Вы, наверное, идете и думаете о том, что шагаете по трупам. Я угадал? Посмотрите направо: вот и памятник. Мы почти дошли.
Орлов молча кивнул. Разговаривать не хотелось. Чем ближе они подходили к мемориалу, тем больше он волновался.
Что ж, если проект действительно согласовывался с заказчиком, то Орлов не мог не признать, что вкус у Джеймса Эдуарда Фаррела-младшего был хорошим. Никаких традиционных чаш со змеями. Три высоких, неправильной формы, камня: черный, серый и белый, асимметрично расположенные на квадратной гранитной площадке.
На черном камне высечена надпись: «Ольга Александровна Орлова, 1895–1924». И чуть ниже – текст: «Мы должны жить Верой, Надеждой и Любовью: это наша опора, этим мы должны дышать, но надо помнить, что, как ни велика Вера, как ни благословенна Надежда, Любовь выше всего. Войно-Ясенецкий».
На сером: «Памяти всех медиков, погибших при борьбе с эпидемиями и опасными болезнями». И цитата из Пастера: «Я непоколебимо верю, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной, что народы сойдутся друг с другом не для разрушения, а для созидания, и что будущее принадлежит тем, кто сделает более для страждущего человечества».
На белом камне высечена горящая свеча, которую голландский хирург Николас ван Тюльп в семнадцатом веке предложил считать эмблемой врачебной профессии, и его знаменитый девиз: «Светя другим, сгораю сам».
– К сожалению, на момент работы над мемориалом мне не удалось раздобыть ни одной фотографии Ольги Александровны, – сказал негромко Муромов. – Конечно, было бы лучше, если бы здесь был высечен ее портрет.
– У меня есть фотографии, – ответил Александр Иванович. – Я бы вам их дал. Но вы ведь даже не попытались найти меня. Почему?
– Заказчик не разрешал. Не забывайте: все начиналось в восемьдесят девятом, когда еще была советская власть, КГБ и все такое. Я тоже предложил ему поискать родственников Орловых, но он ответил, что, насколько ему известно, в живых остался только сын Ольги Александровны, и если его вдруг начнет разыскивать гражданин США, который к тому же не является его родственником, это может быть расценено в инстанциях неблагоприятным образом. Эдди не хотел, чтобы у вас были проблемы. А я, со своей стороны, поговорил с местными, узнал, что после войны никто на могилу Орловой не приезжал и вообще никто больше захоронением не интересовался, ну и решил, что раз сыну все равно, то и искать его незачем. Простите великодушно, если я был не прав.
«Коковницына, – понял Александр Иванович. – Она нашла потомков Сандры Рыбаковой, она же говорила об этом. Наверное, после встречи со мной Анна Юрьевна написала им, что Александр Орлов жив-здоров, но своими корнями и историей своей семьи ни в малейшей степени не интересуется. И Фаррел счел меня отрезанным ломтем. А может быть, и в самом деле опасался навредить мне. Ведь Александра Иннокентьевича Раевского подозревали в связях с агентами империализма только потому, что его родственники жили за границей. И не просто подозревали, но и расстреляли за это. При советской власти иметь родственников за границей было не комильфо, этот вопрос отдельным пунктом стоял в каждой анкете, заполняемой для отдела кадров, даже если ты устраивался на должность дворника или уборщицы».
Он снял перчатку с правой руки, прикоснулся пальцами к черной поверхности камня, стоящего у самого края гранитной площадки. Камень, посверкивающий в лучах еще холодного солнца, оказался на удивление теплым.
– Скажите, Евгений Степанович, почему камни стоят именно так, а не иначе?
– Черный камень установлен точно над могилой Ольги Александровны. А остальную композицию художник уже подстраивал под оговоренное условие.
Значит, ему здорово повезло. Если бы черный камень стоял в центре площадки, добраться до земли под ним было бы крайне затруднительно. Но он стоит у самого края. Что это? Просто удача? Или, как написано в книгах Рувима, знак, что решение принято правильное?
* * *
На обратном пути они остановились перед домом, где снимал комнату Орлов.
– Вот здесь я и остановился. – Александр Иванович кивком головы указал на подъезд. – У Елены Денисовны.
– Долго еще планируете пробыть в наших краях? – поинтересовался директор музея.
– Самое большее – пару дней.
– Потом домой, в Москву?
– Да.
– Александр Иванович, должен предупредить: я непременно расскажу о вас Эдди. Уж не знаю, одобряете вы это или нет, но утаивать такую информацию от заказчика я не имею права. Сегодня же вечером позвоню ему, у них как раз утро будет. Возможно, он захочет с вами встретиться или хотя бы поговорить по телефону. Что мне ему сказать?
Орлов вытащил из бумажника визитку, протянул Евгению Степановичу.
– Здесь и телефон, и адрес. Буду рад знакомству.
Конечно, знакомству он рад не будет, и никакой Фаррел-младший ему не нужен. Снова придется врать, врать, врать… Но ни одной уважительной причины для отказа от контактов с внуком Сандры Рыбаковой Александр Иванович Орлов придумать не смог.
Квартирная хозяйка Елена Денисовна оказалась человеком деликатным и никаких вопросов Орлову не задавала, вполне удовлетворившись сказанными накануне словами о том, что он приехал по семейным делам. Однако услышанное от Муромова направило мысли Александра Ивановича в определенном направлении. Какой-то американец хотел построить в городе небольшой отель… Уж не Фаррел ли?
– Он самый, – подтвердила хозяйка. – Имени не знаю, но это точно тот, кто заставил нашу администрацию памятник врачам поставить. Он когда в первый раз приехал – никак не мог себе жилье найти, чтобы было удобно и прилично, так его на райкомовской даче поселили. Вот тогда он и решил, что нам отель нужен. Ну, с нашими порядками на одних только взятках разориться можно, он и отказался. А потом бандиты всякие наезжать начнут, как теперь принято. Конечно, неприятно, что нравы наши отпугивают весь мир, но нам, пенсионерам, только на руку, что приезжим негде селиться, – повторила Елена Денисовна то, что уже говорила вчера.
Результатом ее утреннего похода «на базар» оказался изумительного вкуса грибной суп с перловкой и тушеная говядина. Поблагодарив Елену Денисовну за трапезу, Орлов ушел в свою комнату и прилег на подозрительно скрипящий диван. Когда-то очень давно, еще студентом-первокурсником, когда он был Михаилом Штейнбергом, он читал одну из любимых книг отца – «Очерки гнойной хирургии» Войно-Ясенецкого. И строки из трудов именно этого знаменитого хирурга он увидел сегодня на памятнике Ольге Александровне Орловой, молодой женщине, матери маленького сына, не дожившей до тридцати лет и погибшей во имя своей профессии. А он? Что он сделал? Предал все, что только смог предать: своих предков, свою семью, память, свои мечты стать врачом, самого себя. Вся его семья была расстреляна только потому, что отец не захотел оставить тяжелых нетранспортабельных больных. Иосиф Ефимович Штейнберг был Врачом, именно так, с заглавной буквы. Руфина Азиковна могла уехать в эвакуацию без мужа, увезти детей, но она осталась, потому что для нее понятие «семья» было священным и тоже писалось с заглавной буквы. Если выжить, то всем. Если умирать, то вместе.
А их сын на все это наплевал и прожил жизнь с русской фамилией.
Даже когда умирала Люсенька, Орлову не было так тяжко, как в эти несколько часов, которые он провел, лежа в темноте на стареньком диванчике. Его одолевали мысли – одна чернее другой. За стенкой негромко работал телевизор: Елена Денисовна смотрела какой-то фильм. Когда звуки смолкли, Орлов вышел и осторожно постучался в комнату хозяйки.
– Я вас не потревожу, если вернусь поздно? – спросил Александр Иванович.
– Вы уходите? – удивилась та. – Уже почти одиннадцать.
– Хочу прогуляться, подышать воздухом, иначе не смогу заснуть.
– Вы не беспокойтесь, – улыбнулась женщина, – возвращайтесь, когда захотите. Скорее всего я и вовсе еще спать не буду, я ведь ложусь поздно, а встаю чуть свет, бессонница у меня.
Орлов тщательно собрался, несколько раз перебирая в голове последовательность действий и прикидывая, все ли имеется, что может понадобиться. Упаковал все в сумку, перекинул ремень через плечо и вышел в темноту. С уличным освещением в поселке было совсем плохо, приходилось ориентироваться только по свету из окон, но дорогу Орлов запомнил, да она и несложная.
Сквер тонул во мраке. Ни одного фонаря не было. Несколько раз Орлов ступал в лужи, которые днем, при свете, удавалось обходить стороной, промочил ноги, но не обратил внимания. У него была цель. И цель эта уже совсем близка.
Вот и мемориал. Ночью все три камня казались одного цвета. Орлов снял перчатки, снова медленно провел пальцами по выгравированной надписи, задержавшись на слове «Орлова». В какой-то момент ему почудилось, что в слове нет последней буквы «а» и это памятник на его собственной могиле. Но наваждение исчезло так же быстро, как и появилось. Достав из сумки складной широкий нож, Александр Иванович присел на корточки и принялся выкапывать ямку под краем гранитной плиты. Земля была еще мерзлой и поддавалась плохо, но он в конце концов справился. Дрожащими руками вынул из пакета часы, кольцо и записку. Что он делает? Зачем? Он что, сошел с ума?
Он должен это сделать. Если в книгах Рувима Наумовича есть хотя бы одно слово правды, то он должен. Прах к праху.
Завернув то, что привезла ему Анна Юрьевна Коковницына, в маленький полиэтиленовый пакетик, Орлов положил его в ямку, засыпал землей, тщательно утрамбовал. Вот и все. То, что принадлежало роду Гнедичей-Раевских, вернулось к своим законным хозяевам.
С трудом разогнув затекшую спину, Александр Иванович расстелил большой кусок полиэтилена на площадке перед черным камнем, сел и снова прикоснулся к памятнику.
– Простите меня, Ольга Александровна, – шепотом заговорил он. – Простите, что не смог спасти вашего сына, хотя и очень старался. Простите, что украл его имя и его жизнь. Но я сделал все от меня зависящее, чтобы не опорочить эту жизнь. Я жил честно, насколько это вообще возможно, учитывая мой обман. Я так и не узнал, что же произошло в вашей семье и почему эти предметы оказались у Коковницыных, но теперь они снова у вас. Вам не о чем больше волноваться, Ольга Александровна. Покойтесь с миром.
Ему показалось, что ледяной камень под пальцами стал не просто теплым – горячим. «Как услужливо восприятие, – подумал Орлов. – Всегда готово тебя обмануть. А ты и рад обманываться…»
* * *
Автобус отходил от автовокзала в час дня. Позавтракав, Александр Иванович выяснил у хозяйки, где можно купить цветы. Ему хотелось найти лилии. Чтобы получилось, как в той песне Шуберта, которую Сане Орлову пела мать вместо колыбельной:
Где страданье в сердце навеки замрет —
Там лилии белой цветок опадет…
Но лилий на прилавке, конечно же, не оказалось. Пришлось выбирать из того, что есть. Купил огромный букет, дошел до сквера, положил цветы перед памятником Ольге Орловой, постоял несколько минут, склонив голову, после чего вернулся на квартиру, чтобы взять вещи. У него оставалось еще немного времени, вполне достаточно, чтобы дойти до музея и проститься с Муромовым.
– Уже уезжаете? – с сожалением произнес директор. – Вы говорили «день-два», я думал, вы еще побудете, в музей придете, я бы вам местные легенды рассказал… Я вчера позвонил Эдди, он очень обрадовался, что вы нашлись и что посетили наш мемориал! Собирается в самое ближайшее время прилететь в Москву, чтобы лично познакомиться.
«Только этого мне не хватало», – с досадой подумал Орлов. Но вслух сказал, разумеется, нечто совсем иное, более приличествующее ситуации.
Дорога домой прошла незаметно: при любой возможности, едва удавалось присесть, Александр Иванович засыпал. Он даже не подозревал, насколько устал за последние годы. Войдя в московскую квартиру, он в полубессознательном состоянии принял душ и рухнул в постель, после чего проспал без малого сутки.
Наверное, он спал бы и дольше, но его разбудил звонок телефона.
– Добрый день. Я могу говорить с Александром Ивановичем?
Абонент мог и не представляться. Акцент был настолько сильным, что не оставалось никаких сомнений: звонит Джеймс Эдуард Фаррел-младший.
* * *
– Вы представить себе не можете, какой была наша Сандра! – сверкая ярко-голубыми глазами, говорил Фаррел. – В разговорах с посторонними я, разумеется, называю ее бабушкой, но поскольку вы – член семьи Раевских, то с вами я буду называть ее только так, как было принято у нас в семье, то есть просто Сандрой.
– Вы хорошо ее помните? – вежливо осведомился Александр Иванович.
Он не нашел, да и не старался особо найти повод уклониться от встречи с Фаррелом. Встречаться не хотелось. Но Орлов сказал себе, что должен пройти весь путь до конца и заплатить по всем счетам.
– Разумеется, я ее помню, – с недоумением ответил Эдди. – Сандра умерла в восемьдесят пять лет, я был уже совсем взрослым. А знаете, как она умерла? Неудачно упала с лошади. Она каталась верхом до последнего дня.
– В восемьдесят пять лет? – не поверил Орлов.
– А что, вам это кажется глубокой старостью? – рассмеялся Эдди. – Уверяю вас, что восемьдесят пять – прекрасный возраст, во всяком случае, у нас в Америке. Но среднестатистический американец – это одно, а наша Сандра – нечто совсем особенное. Вы знаете, почему она оказалась в нашей стране?
Александр Иванович неопределенно пожал плечами. Из собранных Люсенькой материалов он знал, что Александра Рыбакова под именем Сандры Фишер выступала в качестве джазовой певицы, потом вышла замуж за техасского богача. Ну, раз была певицей, стало быть, именно для выступлений и приехала в США.
– Не угадали, – радостно ответил Фаррел. – Она приехала в качестве концертмейстера-репетитора с одной труппой, но эта работа была для нее всего лишь возможностью оказаться в Чикаго. Истинной ее целью было убийство Дегаева. Можете себе представить? Сандра решила, что может найти и убить того, кого не смогли найти и уничтожить самые опытные агенты из числа сочувствующих социалистам.
– Дегаев? Кто это?
– Агент охранки, который помог арестовать Веру Фигнер. Неужели вы не знали?
Александр Иванович виновато вздохнул. О Вере Фигнер он, разумеется, помнил из школьного курса истории, а вот имя Дегаева, равно как и обстоятельства собственно ареста революционерки как-то ускользнули от внимания. Впрочем, если агент Дегаев был не профессионалом охранного отделения, а завербованным народовольцем, то и немудрено, что в официальной истории такую фигуру постарались аккуратно обойти: не украшает она моральный облик революционеров.
– Откуда вам это известно? – спросил он.
– Сандра сама рассказала. Она вообще не стеснялась рассказывать о себе даже неприятные вещи, умела посмеяться над собой, над своими ошибками и заблуждениями. Она говорила, что в детстве очень любила подсматривать и подслушивать. А если представлялась возможность, то даже рылась в бумагах старших родственников и почитывала их дневники. Люди обычно стесняются признаваться в подобном поведении, и даже если их уличают – отнекиваются и отпираются до последнего. Но наша Сандра ничего не стеснялась. Всегда говорила нам с сестрой: «Дети, вы не должны ни из кого делать кумиров. Я хочу, чтобы вы знали, какой на самом деле была ваша бабушка, и любили меня такой, какая я есть. А если вы не сможете любить меня такой, какая я есть, значит, такая у меня судьба и я сама в этом виновата».
– Сколько лет вам было, когда умерла Сандра?
– Двадцать три. Я родился в тридцать пятом, Сандра умерла в пятьдесят восьмом. Как видите, у меня была возможность пройти с бабкой хорошую школу. Моей сестре повезло больше, она старше меня на четыре года, соответственно, Сандра занималась ею на четыре года дольше.
– Школу? Что вы имеете в виду?
– Она учила нас русскому языку, заставляла тренировать память. У самой Сандры память была просто феноменальной от природы, ее детям и внукам такого таланта, конечно, дано не было, но она считала, что мы должны стараться и тренироваться. В обучении она могла быть очень жесткой.
– Неужели лупила? – улыбнулся Орлов.
– Конечно, нет, что вы! Но требовала строго. Находила возможность чувствительно наказать. Или просто язвила. Но вы не подумайте, что Сандра была злой, ни в коем случае. Она была доброй и щедрой, постоянно занималась благотворительностью. Если бы вы знали, сколько баталий ей пришлось вынести с моим дедом, чтобы уговорить его давать деньги на больницы, на школы, на помощь беднякам!
Они сидели в баре гостиницы в центре Москвы. Именно здесь и остановился Эдди Фаррел. Приглашать американца к себе домой Орлов не захотел, опасаясь, что скромная двухкомнатная квартира покажется миллионеру слишком убогой. Да и нейтральная территория представлялась Александру Ивановичу более удобной: встречаться с Фаррелом он отнюдь не рвался, и если ему захочется уйти – он всегда сможет это сделать, сославшись на занятость и неотложные дела. А из дома гостя поди-ка выгони, если он не собирается уходить и намерен еще пообщаться!
В прежние годы, до болезни жены, Александр Иванович часто бывал в ресторанах, барах и кафе: его клиенты предпочитали встречаться именно там, особенно те клиенты, за защиту которых адвокат Орлов стал браться, когда все старались заработать деньги на лечение Алисы. Но за последние два с половиной года он ни разу, если не считать поминок по Люсеньке в день похорон и сороковин, не посетил подобные заведения и теперь непроизвольно отмечал все изменения: цены, выбор напитков, внешний вид посетителей, музыка. У большинства сидящих за столиками людей имелись мобильные телефоны, горделиво выложенные на видное место, а в девяносто четвертом такие телефоны были еще мало кому доступны: слишком дороги. То ли сами телефоны подешевели за это время, то ли люди разбогатели…
Орлов поражался тому неподдельному интересу, с которым Фаррел расспрашивал о его жизни, о семье, о работе. Зачем американскому миллионеру все это знать? Внезапно в памяти всплыли слова, сказанные директором музея Муромовым: Эдди Фаррел умеет отличать людей, живущих своей жизнью, от людей, идущих чужим путем. Наверное, все дело именно в этом. Фаррел идет своим истинным путем, поэтому может любить людей, искренне интересоваться ими, открывать их для себя и самому открываться им. А вот он, Александр Орлов, прятал от всех себя настоящего, скрывал, врал и притворялся, и другие люди были ему неинтересны. Есть ли какая-то связь между этими обстоятельствами? Может, есть, может, и нет. Но факты налицо: из всего рассказанного Муромовым Александр Иванович помнил едва ли половину, а о своей квартирной хозяйке Елене Денисовне не знал вообще ничего: ни сколько ей лет, ни чем она занималась, пока работала, ни какая у нее семья. Да, он пробыл в поселке совсем недолго, но ведь он не задал Елене Денисовне ни одного вопроса о ней самой. Ни одного! Не в том ли дело, что весь внутренний ресурс Александр Иванович Орлов тратит на поддержание маски, и на интерес к другим людям его просто не хватает? Или им руководит подсознательный страх откровенности, открытости и сближения: тебе расскажут правду, а ты в ответ должен будешь либо солгать, изображая ответную открытость, либо остаться закрытым и ничего не говорить о себе и тем самым поставить под сомнение искренность отношений. Сложно все это…
– В начале шестидесятых, уже после смерти Сандры, – рассказывал Фаррел, – я получил письмо от госпожи Коковницыной, проживавшей во Франции. Она разыскивала оставшихся в живых потомков рода Раевских. Эта дама проделала огромную работу, можете мне поверить! Из ее письма я узнал, что сын Александра Игнатьевича, Константин, погиб во время тренировочного полета на аэроплане, когда ему было лет двадцать или около того, а младшая дочь, Наташа, скончалась во время эпидемии испанки, свирепствовавшей в Европе. Судьба Элизы, их матери, осталась до конца не проясненной, но, судя по всему, она попала под бомбежку во время Второй мировой. Госпожа Коковницына спрашивала, не знаю ли я, что стало с другими членами семьи, и я в ответ написал ей, что Игнатий и Валерий Раевские похоронены в Мексике и что Сандра встречалась с ними, пока они еще были живы, а впоследствии ухаживала за их могилами. Теперь эта почетная обязанность перешла ко мне и моим детям, а также к моей старшей сестре и ее семейству. После встречи с вами Коковницына снова написала мне. Опираясь на ее впечатления, я сделал вывод, что будет лучше, если я не стану вас искать и пытаться с вами связаться. Я знаю, что она собиралась вам что-то передать, какие-то семейные реликвии. Передала?
– Передала, – подтвердил Орлов. – Но я не имею ни малейшего представления, что это за предметы, откуда, каким образом оказались у Коковницыных и почему их непременно нужно было вернуть Раевским. Часы и перстень, вероятно, принадлежавшие Григорию Гнедичу, и записка, выполненная неизвестно кем. Может быть, вы что-то об этом знаете?
– Григорий Гнедич… – задумчиво повторил Эдди. – Сандра много рассказывала про дядюшку Поля, князя Павла Николаевича Гнедича, и несколько раз упоминала, что старший брат дядюшки Поля, Григорий, был убит и ограблен разбойниками в какой-то роще… Название трудное, я не запомнил.
«Значит, действительно убит, – подумал Орлов. – Но не на дуэли, как я предположил, а от руки преступника. Что же означает записка с таким странным текстом?»
– А про Коковницыных Сандра ничего не говорила?
– Нет, – покачал головой Фаррел, – такое имя даже не упоминалось. Во всяком случае, когда я впервые получил письмо от госпожи Коковницыной, имя показалось мне совершенно незнакомым. Впрочем, Сандра много рассказывала о своем увлечении социалистическими идеями, и однажды какая-то похожая фамилия проскользнула в ее рассказе. Сандра говорила, что этот человек был из дворян, сочувствовал революционерам и помогал и финансово, и участием в конкретных делах, и даже был ранен во время какой-то истории с листовками и типографией. Собственно, рассказывала Сандра об этом только в связи с Игнатием Раевским, потому что раненого помогала выхаживать его любовница. Но о Коковницыне ли шла речь – не поручусь.
Стало быть, не судьба Александру Ивановичу Орлову выяснить до конца, что же за история случилась с предметами, переданными Анной Юрьевной Коковницыной. Ну что ж…
Мимо их столика прошла группа молодых мужчин с короткими стрижками и наглыми лицами. Все одеты подчеркнуто спортивно. Типичная современная униформа «братков». В одном из них Орлов узнал Михаила Хвылю, своего внука. Михаил, занятый разговором по мобильному телефону, не заметил Александра Ивановича. Раздобревший, раздавшийся в плечах и в груди, он теперь ничем не напоминал того мальчишку, которого Орлов увидел впервые в 1979 году. Восемнадцать лет назад… Как быстро летит время!
«Братки» уселись за самый дальний столик, Орлов оказался к ним спиной, а вот сидящий напротив него Фаррел отлично их видел.
– Удивительно, что в такие приличные места пускают людей в спортивной одежде, – заметил Эдди. – Я и в прошлые приезды это замечал. Мне объяснили, что это бандиты, и хозяева заведений просто боятся с ними связываться. Это так?
– Так, – кивнул Орлов. – Но не всегда. Случается, молодые люди просто стремятся выглядеть, как «братки», чтобы внушать к себе страх и уважение, а на самом деле ни к какой бригаде они не принадлежат. Такая своеобразная мода, что ли…
В дверях бара показался мужчина в куртке, накинутой поверх милицейской формы. Быстро оглядев зал, он уверенно направился к столику, за которым сидели Михаил и его спутники. От наблюдательного Фаррела форменные брюки нового посетителя не укрылись, и на губах его появилась саркастическая улыбка.
– Похоже, этих «братков» сейчас будут арестовывать. Любопытно посмотреть, как это происходит в вашей стране.
Александр Иванович, хорошо понимавший российские реалии, сильно в этом сомневался. И оказался прав. Через короткое время Фаррел, исподтишка глядящий на дальний столик, произнес:
– Они дали ему что-то круглое. Как будто кусок резинового шланга.
– Зеленое? – усмехнулся Орлов. – Это доллары. Пачку скручивают и перетягивают аптечной или банковской резинкой. Никакого ареста не будет. Бандиты платят милиции за крышу.
– Так открыто?! – изумился Фаррел. – Я знал, что у вас так принято, но полагал, что милиционеры должны скрывать свое сотрудничество с криминалом.
– Они ничего не боятся. Все друг друга покрывают. А кто отказывается покрывать, того либо убирают, либо покупают, либо подставляют так, чтобы строптивец оказался по уши в грязи и перестал сопротивляться.
– Птенцы гнезда Реброва, – усмехнулся американец.
– Петрова, – машинально поправил Александр Иванович. – Правильно говорить: птенцы гнезда Петрова, именно так называли сподвижников Петра Великого.
– Я знаю. Но я имел в виду как раз частного пристава Реброва. Сандра много о нем рассказывала. Она слышала о Реброве от Павла Гнедича, дядюшки Поля. Был в Москве, в Арбатской части, частный пристав по фамилии Ребров. Удивительный человек! Фальсифицировал доказательства, отправлял невиновных на каторгу, устраивал провокации, одним словом, творил полное беззаконие. И что самое поразительное – ничего не боялся. И ничего не стеснялся. Признаться, я не вполне верил этим историям, очень уж невероятными они казались мне, мальчишке, выросшему в середине двадцатого века в Америке. А теперь своими глазами вижу: ничего у вас не изменилось. Дело Реброва живет и побеждает. Кажется, именно так говорили у вас когда-то о Ленине?
Да, быстро все меняется… Всего несколько лет назад, до 1991 года, произнести подобные слова, да еще в общественном месте и в разговоре с малознакомым человеком, было бы немыслимым. Думал ли адвокат Орлов, родившийся в 1922 году, прошедший войну, переживший страх репрессий и антисемитизма, член КПСС, что доживет до того времени, когда можно будет открыто, ничего не опасаясь, брать взятки, крышевать бандитов и иронизировать над именем Ленина?
Окно бара выходило на Новый Арбат. Орлов заметил, что его собеседник то и дело поглядывает на улицу.
– Вы кого-то ждете? – спросил Александр Иванович.
– Нет, просто наблюдаю, как пустеет проезжая часть. Середина дня, поток машин должен увеличиваться, а здесь все наоборот.
– Наверное, правительственную трассу перекрывают, чтобы освободить проезд для кого-то из высших руководителей.
– О-о! – расхохотался Фаррел. – Я слышал об этой вашей манере уступать дорогу власти. Кстати, если верить Сандре, то этой традиции уже лет сто, можно юбилей справлять. Первым такое требование ввел Великий князь Сергей Александрович, он в конце девятнадцатого века стал генерал-губернатором Москвы и велел убирать экипажи с Тверской улицы, когда он изволит проезжать. Нет, решительно в вашей стране ничего не меняется. И для чего нужны были эти семьдесят лет советской власти, чтобы снова вернуться к порядкам, которые существовали при царском режиме? Не понимаю.
Орлову подумалось, что представился удобный повод увести разговор от личных и семейных тем в область общественно-политическую, что избавило бы его от необходимости притворяться потомком Раевских. А там и саму встречу можно свернуть. Но Фаррел, как оказалось, политику обсуждать не намеревался. Его больше интересовала семья Александра Ивановича.
– Ваш сын, должно быть, рад, что ушел из милиции в частный бизнес. Если он честный человек, то с такими коллегами, какого мы только что видели, ему было бы трудно ужиться, – предположил Эдди. – Или я не прав, и ваш сын сожалеет, что слишком рано ушел со службы и лишил себя возможности зарабатывать подобным же образом?
Орлов не собирался рассказывать про Алису. Но сейчас слова как будто сами вырвались из него: он просто хотел защитить сына, его репутацию, его имя.
Фаррел слушал внимательно, ни разу не перебив. Орлов старался быть кратким и уже почти закончил, когда мимо их столика проследовала группа все тех же «братков», только теперь в обратном направлении. У самого выхода Михаил вдруг обернулся, нашел глазами Александра Ивановича и приветственно улыбнулся. Орлов кивнул в ответ.
– Ваш знакомый? – спросил Эдди, проследив за взглядом Орлова.
«Мой внук», – подумал Александр Иванович.
– Сын наших друзей. Родители – приличные люди, отец – театральный режиссер, мать – актриса. А сын получился вот такой… Бывает.
– Бывает, – согласился Фаррел. – В вашей стране все бывает.
* * *
Джеймс Эдуард Фаррел-младший был человеком далеко не бедным, и в Москву прилетал на собственном самолете. Но был он также и человеком деловым, то есть очень занятым, посему тратить лишнее время на пребывание в России не мог. Ответ он просил дать как можно быстрее. Самое позднее – завтра к вечеру. Сразу после полуночи он собирался улетать.
Выйдя из бара, Александр Иванович направился к станции метро «Библиотека имени Ленина». На станции «Парк культуры» он не вышел, а доехал до «Проспекта Вернадского». Нужно было срочно поговорить с Борисом.
Дверь открыла Татьяна, сильно исхудавшая, почти до прозрачности. При виде стоящего на пороге свекра выдавила из себя вымученную улыбку.
– Здравствуйте, дядя Саша.
За все годы замужества она так и не изжила привычку называть Орлова дядей Сашей, как приучилась с раннего детства. Да и Борис именовал тещу не иначе как тетей Верой.
В прихожую вышел Борис, даже не пытаясь скрыть сердитого недоумения.
– Что случилось? – спросил он резко, не поздоровавшись.
– Надо поговорить, – коротко ответил Александр Иванович. – Давай выйдем на улицу.
Борис молча накинул куртку, всунул ноги в кроссовки, взял ключи. О том, что отец ездил на могилу Ольги Раевской, он не знал, поэтому объяснять ситуацию предстояло крайне осторожно. Александр Иванович уже смирился с тем, что ему придется в очередной раз лгать сыну, если тот начнет задавать уточняющие вопросы. Об этой поездке он предупредил только Веру Леонидовну, потому что не мог просто взять и исчезнуть из Москвы на несколько дней, не поставив никого в известность. Ни Татьяна, ни сын Орлову сами не звонили, но Вера звонила ежедневно, и если бы он сутки напролет не подходил к телефону, она бы начала беспокоиться: семьдесят четыре года, недавно похоронил жену, в анамнезе инфаркт… Не отвечает на звонки – значит, что-то случилось.
– Не буду тратить время на подробности, они не столь важны, – начал Орлов-старший сухим деловым тоном. – В семье Раевских была приемная дочь, Александра Рыбакова, она уехала в начале века в Америку и вышла там замуж. Ее внук – очень богатый человек. Он готов оплачивать лечение Лисика столько, сколько будет нужно.
Александр Иванович сделал паузу, чтобы дать возможность сыну прийти в себя и осознать услышанное. Борис потрясенно молчал.
– Но есть один нюанс, очень существенный, – продолжил Орлов. – Этот человек считает меня настоящим потомком рода Раевских. Кровным родственником. И вызвался нам помочь именно поэтому, а вовсе не потому, что ему некуда девать деньги. Если он узнает, что на самом деле я – Михаил Штейнберг, присвоивший себе чужое имя и чужую биографию, никакой помощи от него не будет. Ты когда-то упрекнул меня в том, что я лишил вас с Таней возможности самим принимать решение. Так вот, больше я эту ошибку не повторю. Я могу завтра рассказать Фаррелу правду. А могу промолчать и продолжать выдавать себя за Раевского. Теперь решение за тобой.
Борис отступил на шаг, присел на низенькое ограждение, отделяющее тротуар от чахлого узкого газона вдоль дома, закрыл лицо ладонями. Плечи его вздрагивали, и Орлов понимал, что сын плачет. Хотелось обнять его, утешить, поддержать, пообещать, что все будет хорошо… Но Александр Иванович неподвижно стоял и ждал. Чего он ждал? Он и сам не знал. Но внутри, в глубине души, оживало ощущение, впервые испытанное им ночью у памятника Ольге Орловой: вот теперь все происходит правильно.
Прошло несколько минут, прежде чем Борис поднял голову и отер лицо тыльной стороной ладони.
– Пап, прости меня, если можешь. Я такой козел… Спасибо тебе. У меня не было и нет никакого права судить тебя, ты поступал так, как было лучше для нас с мамой. На меня просто какое-то помрачение нашло… Я понимал, что надо поговорить с тобой, попросить прощения, помириться, но мужества не хватало. И я все время надеялся, что ты окажешься сильнее и умнее меня и сделаешь первый шаг. Спасибо, пап.
* * *
– Мамуля, может, все-таки останешься до лета? В мае у нас с Борей годовщина свадьбы, потом мой день рождения и день рождения Лисика, отпраздновали бы все вместе, а потом ты бы уже поехала к своему Семенычу.
Татьяна была по-прежнему истощенной, но лицо ее посветлело, и глаза оживились. Джеймс Эдуард Фаррел-младший слов на ветер не бросал и выполнял свои обещания быстро и точно. Препарат для ферментозаместительной терапии уже привезли в Москву, и Алисе провели первый курс капельниц. Убедившись, что дочь начала приходить в себя и с лечением внучки вопрос решился, Вера Леонидовна засобиралась к мужу, с которым виделась после отъезда в Москву совсем редко. Олег Семенович, конечно, прилетал при любой возможности, но возможность такая, учитывая его должность, появлялась далеко не каждую неделю.
– Ты еще вспомни, что у меня семидесятипятилетие осенью, – со смехом сказал Александр Иванович, помогая Вере застегнуть туго набитый чемодан. – Если тебя послушать, то Верочке нужно остаться до осени, а потом Новый год, потом Рождество, а там и май не за горами, и все по новой. Отпусти мать, у нее муж там не присмотрен.
Загрузили вещи в новую, только на днях купленную машину Александра Ивановича, отвезли Татьяну домой, чтобы она успела встретить Алису после школы, и поехали на вокзал. Бориса в Москве не было: поняв, что можно больше не заниматься бизнесом, таящим в себе столько угроз и опасностей, он решил довести до конца последнюю заключенную сделку и выйти из дела, к которому и душа не лежала, и способностей не было.
– Буду готовиться к вступлению в адвокатуру, – сказал Борис отцу. – На следствие не вернусь, эти акулы ментовского бизнеса меня просто порвут. А вот адвокатура – как раз то, что нужно. И знаешь, пап, я тут подумал… Хорошо, что все так получилось. Если бы я не был вынужден снять погоны и заняться коммерцией, меня бы уже сто раз посадили бы. Я бы не выжил в этой новой ментовке.
Сын переживал, что не сможет проводить тещу, к которой относился всегда очень нежно и уважительно. Но теплоход с партией машин нужно было встречать именно тогда, когда Вера Леонидовна собралась уезжать, а откладывать встречу с мужем она ни за что не соглашалась. Уже тогда Александру Ивановичу показалось, что у этой торопливости есть еще какая-то причина, но он решил не делать поспешных выводов.
А вот теперь внимательно наблюдавший за тем, как прощаются мать и дочь, Александр Иванович не упустил выражение облегчения, мелькнувшее на лицах у обеих. Неужели между Верой и Татьяной происходит что-то такое, о чем он не догадывался?
Когда Вера Леонидовна снова уселась рядом с ним на переднее пассажирское сиденье, Орлов спросил:
– Веруша, у вас с Таней все в порядке?
Вера Леонидовна усмехнулась.
– Заметил, да?
– Заметил. Расскажешь?
Она помолчала.
– Хорошая у тебя машина. Молодец, что купил. Сам-то доволен?
Орлов понял, что Вера тянет время. Ну ладно, поговорим о машине.
– Очень доволен. Давно мечтал о такой. Но сперва возможностей не было, иномарки у нас не продавались, ты же знаешь. А когда они стали доступны, мы ничего не тратили, на лечение копили, все откладывали.
– Да, – кивнула Вера Леонидовна, – спасибо Фаррелу. Теперь все, что было отложено на лечение, можно потратить на жизнь. За границу съездить не собираешься? Сейчас все в Турцию ездят, говорят, очень недорого и отдых хороший. Опять же с Аллой повидался бы.
– Да куда мне в Турцию в мои-то годы, – рассмеялся Александр Иванович. – В сезон – жарковато для сердечников, в межсезонье там и делать нечего. А у Аллы и так все нормально, она звонит регулярно. Нет уж, если ехать, то куда-нибудь в Европу. Хочу Польшу увидеть, Чехию, Германию, Венгрию. Обязательно поеду. Так что у тебя с Танюшкой-то?
Вера вздохнула то ли удрученно, то ли печально.
– Знаешь, Саша, я ни разу в жизни ни перед кем не извинилась. Ни у кого не попросила прощения. Я же «Верка, которая всегда права». Я привыкла чувствовать себя всегда и во всем правой. А раз я права, то извиняться мне не за что. Не знаю, откуда во мне появилось это качество, само ли родилось или кто-то воспитал, но оно было и есть. Я никогда и ни по какому поводу не испытывала чувства вины. А Танюшка, наоборот, сразу начинает чувствовать себя виноватой, что бы ни случилось. Я сумбурно говорю, да?
– Ничего-ничего, я понимаю. Только не понимаю, в чем конфликт.
– Да нет никакого конфликта! Просто мы с ней разные, мы не понимаем друг друга. Танюшка чувствовала себя виноватой в том, что мне пришлось бросить Олега и жить в Москве. И чем дольше я жила в Москве и помогала ей, тем больше виноватой она себя чувствовала. В какой-то момент я вдруг заметила, что она тяготится моим присутствием. Можешь себе представить, как мне стало обидно? Я бросила мужа, работу, учеников, налаженный быт и примчалась, чтобы помочь ей, а она явно сторонится меня, избегает, радуется, когда я ухожу.
– Ты ничего мне не говорила…
– Люсенька болела, ты сидел с ней неотлучно, мы с тобой виделись только тогда, когда я приезжала, чтобы освободить тебя и дать возможность навестить Лисика. В общем, у тебя было забот выше головы, и я ничем таким с тобой не делилась. Но я много думала, все пыталась понять, что же такое происходит у меня с дочерью. Почему оно происходит? Так ничего и не придумала, поэтому просто взяла и спросила.
– Ну и правильно сделала. Что она ответила?
– Что чувствует себя виноватой в той истории с деньгами, в болезни Люсеньки, в том, что я бросила мужа и примчалась в Москву. Короче, во всем подряд. Больше она ничего мне не объяснила, а я не поняла, какая связь между ее чувством вины и тем, что она не радуется моему присутствию. Только потом до меня дошло. Суть именно в том, что я не понимаю. Не понимаю, потому что сама никогда не чувствовала себя виноватой. Я не знаю, что это такое: испытывать чувство вины. Оно мне неведомо. И я, вся из себя такая уверенная в себе и всегда и во всем правая, постоянно мельтешила перед глазами у Танюшки, которая, наоборот, чувствовала себя кругом виноватой. Ей и так трудно, тяжело, беспросветно, а тут еще я – вечный раздражитель, живое напоминание о ее вине. Я не могу понять, что она думает, что ощущает, потому что не была на ее месте. А она никогда не была такой уверенной, как я, и тоже не может меня понять. В общем, как говорится, сытый голодного не разумеет.
Орлов молчал. Что тут скажешь?
– И еще я много думала о том, почему Танюшка выросла не такой, как я. Вроде бы моя родная дочь, и я ее воспитывала, всегда была рядом, подавала пример. А она получилась совсем другой.
– Веруша, но это же совершенно понятно, – улыбнулся Александр Иванович. – Если ты живешь рядом с человеком, который всегда и во всем прав, то автоматически выходит, что любое твое мнение, не совпадающее с его мнением, – неправильное. Любой твой поступок, не одобренный этим правым, – неправильный. То есть ты не прав и виноват тотально, всегда и каждую минуту. Вот тебе и вся причина. У уверенного в себе родителя просто по определению не может быть такого же уверенного в себе ребенка.
Вера грустно рассмеялась.
– Похоже, что ты прав. А если наоборот? Если родитель не уверен в себе и часто испытывает чувство вины, тогда как?
– Тогда именно наоборот. Ребенок видит, что родитель сомневается, признает ошибки и извиняется. И думает: «Если мама или папа передо мной извинились, значит, они не правы, а прав как раз я». И получаются уверенные в себе, ни в чем не сомневающиеся детки. Насмотрелся я на них, когда брал защиту малолеток. И на них, и на их родителей.
Орлову удалось найти удобное место для парковки перед вокзалом. Состав уже подали, но вагоны еще не открыли. Александр Иванович и Вера Леонидовна стояли на перроне, поеживаясь на ветру: апрель был холодным и сырым.
За стеклом двери показалась фигура проводницы, послышался лязг дверных петель. Можно было заходить в вагон. Поставив чемодан под полку в двухместном «спальном» купе, Александр Иванович обнял Веру.
– Ну что, давай прощаться, путешественница.
Вера крепко расцеловала его в обе щеки. Орлов уже перешагнул порог купе, когда Вера тронула его за руку.
– Саша, а это очень плохо, что я не умею чувствовать себя виноватой?
Он улыбнулся.
– Это тебя спасло, Веруша. Иначе ты бы просто не выжила во время войны, да и потом тоже. И не было бы у тебя Танюшки. И вообще, ничего бы не было. Счастливой дороги!
Он прошел вдоль платформы, вышел на привокзальную площадь, сел в машину. Правильно ли он ответил Вере? Правильно ли жить без чувства вины? Он не знал. Так же, как не знал, где граница между недопустимой правдой и допустимой ложью. Если бы не его ложь, Алиса до сих пор не получила бы лечения. Но если бы он не лгал, она, вполне возможно, давно уже лечилась бы в Израиле или где-то еще. Если бы…
Но история ведь не знает сослагательного наклонения.
И все всегда происходит именно так, как должно происходить.
Он завел двигатель и нажал кнопку магнитофона, в который еще со вчерашнего дня была вставлена компакт-кассета с любимыми записями. И самой первой на этой кассете была записана песня Шуберта «Мельник и ручей». Колыбельная, под которую засыпали Ольга Раевская и ее сын Саня Орлов.
Красивый сочный баритон заполнил пространство салона:
Но если страданья любовь победит,
То в небе, играя, звезда заблестит…
Орлов собирался ехать домой, но внезапно изменил маршрут, свернул в переулок, выехал на параллельную улицу и через двадцать минут входил в контору, в которой проработал много лет. Что ему делать дома одному? Ему скоро исполнится 75, всего 75, разве это возраст? Он еще поработает! Если возьмут, конечно…
– Александр Иванович! – радостно воскликнул заведующий. – Как вовремя вы зашли! Срочно нужна ваша консультация: у нашего молодого коллеги проблемы с квалификацией, подключаем коллективный разум, а завтра начинается процесс. Документов много, не успеваем разобраться, там присвоение или все-таки мошенничество. Виктория, несите материалы, сейчас Александр Иванович посмотрит…
Значит, возьмут. И он еще поработает.
Мы не верим во вмешательство Воли Божией, но зато слишком много приписываем воле человеческой. Двое упали в воду, один утонул, другой выплыл – значит, первый утопил второго. И мы, анализируя волю человека, коченеющего в воде, приписываем ему нашу логику и вкладываем ему в голову адские планы, совершенно забывая, что нам, спокойно здесь сидящим, столь же мало доступна логика захлебывающегося в предсмертной судороге человека, как и его мозгу с нарушенным кровообращением недоступны наши спокойные размышления. Выхватив из массы пристрастных и сбивчивых свидетельских показаний какой-либо шаблонный мотив, вроде ревности или мести, мы от этого мотива чертим прямую линию до загадочной драмы и говорим: «Какая удивительная ясность: вот измена, вот ревность, вот убийство!» Мы оперируем этими понятиями и выстраиваем их, как солдат на смотру, забывая, что в жизни все идет по совершенно другому порядку, что каждое явление, каждый акт воли человеческой имеет не один, не два, а сотни постоянно изменяющихся, постоянно борющихся мотивов, которых мы не можем ни проследить, ни взвесить. Мы забываем, что все наши тонкие планы и расчеты ежедневно рушатся на наших глазах и что намеченные нами пути всегда внезапно пересекает то, что мы называем «случаем». Пора, давно пора отрешиться нам от наивной веры в какую-то предустановленную гармонию между ходом мысли в нашей голове и ходом событий кругом нас.
Из защитительной речи М. Г. Казаринова на судебном процессе по делу Укшинского.
Конец
Назад: Глава 3. 1990–1994 годы
На главную: Предисловие