Откуда есть-пошла русская душа?

Как часто мы слышим и читаем о «широкой русской душе», об «истинно русской бесшабашности», о том, что мы по- прежнему надеемся на русский «авось» и тому подобное. Власть таких стереотипов поразительна. Мне особенно запомнилось, как телеведущая Анэля Меркулова в одном интервью определила русский характер: «Мы можем завидовать, делать гадости, поджигать, грабить, убивать друг друга, но в горе объединиться, вместе опуститься вниз и подняться до невероятных высот» (МК, 12.10.95). Вот спрашивается, если мы убиваем друг друга, то это не горе? И куда еще ниже можно вместе спуститься? А поубивав и ограбив друг друга, до каких зияющих высот мы должны подняться?
Разумеется, многие люди воспринимают высказывания о национальном характере примерно так же, как описания, скажем, козерогов в гороскопах, или как рассуждения о том, что брюнетки темпераментные, блондинки глупые и т. п. Тем не менее, национальные стереотипы тиражируются массовой культурой, воспроизводятся в анекдотах и т. п. А политики и рекламщики зачастую сознательно пытаются их обыгрывать.
Кажется, что этот облик русского человека — удалого, широкого и душевного, склонного к безудержному веселью и загулу, переходящему в тоску, существовал искони. Его черты закреплены в языке, в частности в отдельных словах. О таких словах мы с соавторами написали в книжке «Ключевые идеи русской языковой картины мира» (Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д., 2005). Некоторые русские слова — например, душа, судьба, тоска, счастье, разлука, справедливость, обида, попрек, собираться, добираться, постараться, сложилось, довелось, заодно мы называем «ключевыми» словами русской языковой картины мира, потому что они дают ключ к ее пониманию. Они лингвоспецифичны, так как содержат в своем значении концептуальные конфигурации, отсутствующие в готовом виде в других языках (в книжке проводится сравнение с наиболее распространенными языками Западной Европы). Направление исследований, представленное в книге, в значительной степени восходит к идеям Анны Вежбицкой.
Так что же, «русская душа» — это и вправду наследие далеких предков? Между тем само представление о нации как некой коллективной личности, обладающей, подобно отдельному человеку, своим особым характером, появляется в культуре достаточно поздно — во второй половине XVIII в., в философии Гердера, с одной стороны, и Руссо (сочетание национальный характер впервые встречается у него) и других идеологов французской революции — с другой. Так, И. Г. Гердер, немецкий писатель-просветитель, философ и собиратель народной поэзии, создал теорию народной поэзии как выражения духовной жизни и «нравов» народа. В 1773 при участии Гете был опубликован целый сборник «О немецком характере и искусстве», где Гердер опубликовал «Отрывок из переписки об Оссиане и песнях древних народов», ставший литературным манифестом «Бури и натиска». Между прочим, это сейчас нам кажется вполне естественным интерес к фольклору, никто не возмущается, даже когда диссертации пишутся о таких его «низких» жанрах, как анекдоты. А ведь когда-то вообще не было идеи, что собирание и изучение народных песен для чего-то нужно и что в них что-то там отражается. Идеи Гердера были в России весьма популярны, особенно в кружке Н. М. Карамзина. Гердер писал и о славянах, так что русские гердерианцы свой народ, вероятно, воспринимали отчасти сквозь призму высказываний Гердера. В конце XVIII — начале XIX вв. концепция нации как целостной личности, единство которой основано на кровном родстве и закреплено общностью обычаев и языка, продолжала активно развиваться в немецкой философии, например у Ф. Шлегеля. А об увлечении немецкой романтической философией в России что и говорить.
Популярные в Европе идеи в то время попадали в Россию практически немедленно и интенсивно обсуждались. Уже в 1783 г. Д. И. Фонвизин на страницах «Собеседника любителей российского слова» задает Екатерине II вопрос: «В чем состоит наш национальный характер?» — Ответ: «В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных». Ответ этот свидетельствует скорее об отсутствии в тот момент устойчивого культурного стереотипа. Однако работа над его созданием продолжалась.
Одним из первых текстов этого рода является, по-видимому, следующий фрагмент из «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790 г.):
Лошади меня мчат; извощик мой затянул песню по обыкновению заунывную. Кто знает голоса руских народных песен, тот признается, что есть в них нечто скорбь душевную означающее. <…> Посмотри на рускаго человека; найдеш его задумчива. Если захочет разогнать скуку, или как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что либо случиться не по нем, то скоро начинает спор или битву. — Бурлак идущей в кабак повеся голову и возвращающейся обагренной кровью от оплеух, многое может решить доселе гадательное в Истории Российской.
Нельзя не заметить, что сам образ русского человека, нарисованный Радищевым, очень близок к представлению, бытующему и теперь. Но с современной точки зрения этот текст выглядит как обратный перевод с какого-то иностранного языка. Дело в том, что в современном русском языке все эти смыслы устойчиво выражаются другими словами: тоска, удаль, загул и т. д. Так это было уже в языке Пушкина: хрестоматийное четверостишье из стихотворения «Зимняя дорога» (1826 г.) по содержанию поразительно похоже на приведенное рассуждение Радищева: «Что-то слышится родное / В долгих песнях ямщика: / То разгулье удалое, / То сердечная тоска…»
Пожалуй, можно сказать, что весь круг соответствующих стереотипов был сформулирован уже в программной статье Н. Надеждина «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности», опубликованной в 1836 г. в «Телескопе», и дожил до сегодняшнего дня практически без изменений. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть, например, в многочисленные сочинения Н. Бердяева о русской душе, или в «Заметки о русском» Д. С. Лихачева. Надеждин, в частности, писал:
Да и что такое Европа — Европа? Наше отечество, по своей беспредельной обширности, простирающейся чрез целые три части света, наше отечество имеет полное право быть особенною, самобытною, самостоятельною частью вселенной. Ему ли считать для себя честью быть примкнутым к Европе, к этой частичке земли, которой не достанет на иную из его губерний?
Как тут не вспомнить хрестоматийное равняется четырем Франциям!
Нам в каком-то смысле повезло. В отличие от многих европейских языков, интенсивное формирование современного литературного русского языка замечательным образом хронологически совпало с формированием национального самосознания. Отсюда две важных особенности русской культурно-языковой ситуации. Во-первых, стереотипы «национального характера» выражены в русском языке особенно ярко: ведь они складывались в период, когда язык, обычно весьма консервативный, был пластичен и готов к закреплению новых смыслов. Во-вторых, русской культуре и до сих пор свойственна повышенная языковая рефлексия и представление о непереводимости русских слов и понятий. Изучение истории труднопереводимых русских слов показывает, что они напитывались культурной спецификой в основном на протяжении XIX века.
Итак, культурный миф русского национального характера начал складываться в конце XVIII в., а лексическое оформление для него было найдено несколько позже, но к 30-м годам XIX в. оно уже было вполне устойчивым. Далее этот культурный стереотип был существенно обогащен во второй половине XIX в., и ключевую роль сыграли здесь тексты Достоевского. Чего стоит одно слово надрыв (в психологическом смысле), которое тоже вовсе не «из глубины веков», а из романа «Братья Карамазовы». Между прочим, если раньше переводчики романа ограничивались примечаниями по поводу этого слова, автор нового немецкого перевода и вовсе оставила слово nadryv как есть, пояснив: если уж слово перестройка не переводится, то о надрыве что и говорить.
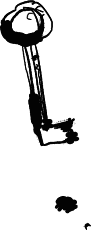
Назад: Особое приглашение
Дальше: «Достоевский надрыв»

