Глава 41
ТРОЯНСКАЯ ЛОШАДКА
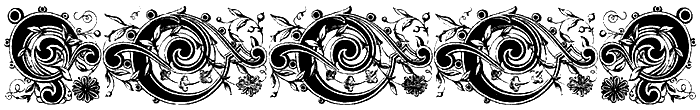
У идеи был автор, и звали его Вергилий.
Подобно многим французским революционерам, профессор Корнель боготворил древних римлян. Как раз в тот момент, когда мой отец пришел к нему, он был занят чтением второй книги «Энеиды»: «Как был захвачен город». В Трою вкатили гигантского деревянного коня с греками в животе. Город побежден, стены полыхают, Гекуба рыдает…
А не проделать ли тот же трюк в меньшем масштабе?
Сказано — сделано: профессор Корнель приобретает вырезанную из кедра лошадку немного больше метра в высоту, полутора метров в длину и выдалбливает у нее в брюхе полость, достаточно объемную, чтобы вместить ребенка. Затем приделывает к копытам колесики, с помощью шила просверливает отверстия для дыхания, прикрывает полость выдвигающейся панелью с потайной щеколдой… и, проработав два дня, объявляет, что все готово.
— Готово к чему? — спрашиваю я.
— Готово к использованию. В тот же вечер ваш отец пронес ее внутрь. Это было седьмого июня.
Седьмого июня. Тем же числом датировано письмо, которое он оставил матери перед уходом. «Важное дело… небезопасное… я могу не вернуться…»
Вот, значит, что это было за дело: проникнуть в Тампль в наемном экипаже с профессором Корнелем и выдолбленной изнутри лошадкой.
— О, они, конечно, были поражены при виде вашего отца, катящего за собой деревянную лошадку. Но он очень спокойно объяснил ситуацию. Сказал, Комитет поручил ему доставить — что он придумал? — ах да, мирное приношение. От Пруссии.
— И они поверили?
— Ну конечно, пришлось подделать кое-какие бумаги.
Выяснилось, что в профессоре Корнеле пробудился дремавший прежде дар. Используя входные визы отца в качестве образца, с помощью бумаги, свечи и чернил он воссоздал личную подпись гражданина Матье вкупе с уникальной печатью Комитета общественной безопасности. Сходство с оригиналом было такое, что совпадал даже оттенок воска: цвета прогорклого масла.
Выглядели бумаги безупречно, для личного же подтверждения приказа было слишком поздно. Так что лошадке позволили проникнуть внутрь.
— И что дальше?
— Ваш отец лично занес лошадку в камеру Луи Шарля.
— Зачем?
— Разве не ясно? Чтобы посадить мальчика внутрь.
— Но как вы предполагали вынести лошадку обратно? Не вызывая подозрений?
О, для этого предназначался другой документ, доставленный тремя часами позже. Тоже «от Комитета», тоже поддельный. В нем объявлялось, что вышеуказанную лошадь надлежит незамедлительно убрать из башни.
— Всего через три часа?
— Поймите, юноша, на нас играло одно важное обстоятельство: всем известная непредсказуемость Комитета. Все знали: благословляемое на закате вполне могло к рассвету превратиться в незаконное. То же, судя по нашим документам, произошло и с лошадью: «Вторично рассмотрев вопрос, Комитет пришел к заключению, что никакой сын тирана не должен веселиться, пока французским детям недостает хлеба». Я сейчас уже забыл, как мы это дословно сформулировали, но звучало убедительно.
— И все получилось. Вашего отца опять впустили. Выделили даже двоих солдат, чтобы те помогли ему стащить лошадь вниз по лестнице.
— Но разве после ухода отца камеру не осмотрели? — спросил я. — Он писал, что стража заглядывала к Луи Шарлю по нескольку раз за ночь. И с проверки же начиналось каждое утро.
— Разумеется, камеру осматривали, — невозмутимо отвечает Папаша Время. — Для этого мы и пронесли внутрь другого мальчика.
И тут на сцену опять выходит Леблан.
Посредством тайных расспросов он разыскал женщину — прачку, бывшую проститутку Фелисите Нуво, — которая в последние дни Марии Антуанетты входила в штат королевской прислуги и стала, с немалым риском для собственной безопасности, одной из самых рьяных защитниц королевы. Она поклонялась этой женщине и не считала нужным скрывать свои чувства. Никто и никогда не проявлял к ней такой доброты, как королева, говорила Фелисите, не обращался с ней так милостиво, так (за неимением более подходящего слова) по-христиански.
Фелисите особенно любила вспоминать день, когда ее собственного сына привели навестить мать. Королева ласково заметила, как очарователен этот ребенок. И насколько — «вы только представьте, как с этими словами она смахивает слезу со своей благородной щеки!» — насколько он похож на ее сыночка, Луи Шарля. Скорбь королевы так глубоко тронула Фелисите, что позже она решила распрощаться с криминальным прошлым и посвятить жизнь памяти Марии Антуанетты.
Леблан пригласил ее в кафе и там, после нескольких бокалов, предпринял рискованный шаг и поведал ей свой план. Еще до заката она стала его соучастницей.
— Соучастницей?
— Ну да. — Папаша Время растерянно заморгал. — Ее сын должен был отправиться в башню, а Луи Шарль — выйти на свободу.
— Но что она за мать, если согласилась на такое?
— Мать, потерявшая надежду. Ее сын, видите ли, умирал. В нищете, без какой-либо надежды на поправку. Надо полагать, она рассудила, что в башне, по крайней мере, его каждое утро будет навещать доктор Карпантье, в остальное время за ним присмотрит Леблан. С ним будут делать какие-то физические упражнения, играть. На площадке для прогулок он будет дышать свежим воздухом. И не стоит забывать, что за всем этим последуют приличные похороны. Она не могла себе этого позволить, а ей хотелось, чтобы на могилку поставили камень. Пусть даже с неправильным именем.
Будучи искренней роялисткой, она не могла себе представить, что на могилу Луи Шарля не поставят надгробную плиту. Что его тело швырнут в общую могилу, а вместо камня будет несколько лопат извести…
— Так значит, когда отец в тот день въехал в ворота башни, в чреве деревянной лошади находился этот другой мальчик…
— Совершенно верно. Бедняга, он совсем на ладан дышал, но перед тем, как мы задвинули панель, он все-таки сказал нам, что ему удобно там, внутри. Нашел в себе силы. Такой маленький и слабый, но с такими очаровательными манерами.
Три часа спустя отец повторно явился в Тампль с новым поддельным приказом, согласно которому «прусский подарок» следовало незамедлительно забрать. Профессор Корнель тем временем тихо поджидал в двух кварталах от Тампля, с багажной каретой наготове. Ночь была жаркая и влажная, стрекотали сверчки, булыжники мостовой медленно отдавали тепло…
Но профессор ни на секунду не поддался дремоте. Разве можно было? Время тянулось мучительно медленно. Час. Два часа. Отец все не появлялся.
— Признаюсь, пару раз я впадал в отчаяние и думал, что с ним покончено. Что-то, наверное, пошло не так, другого объяснения я не находил. В то же время я не решался ни на какие действия. Все, о чем я мог размышлять, — это как сообщу ужасную новость вашей бедной матери.
— Как вдруг — о, должно быть, сильно за полночь — он появился! Катя за собой эту дурацкую лошадь.
— Мы пристроили ее в задней части экипажа, оба забрались внутрь и тронулись — о, путь был неблизкий! Ваш отец все время направлял. «На углу поверните направо… Теперь налево… Опять направо…» Что касается меня, то я понятия не имел, куда мы едем. Я лишь полагал, что они — ваш отец и Леблан — предусмотрели укрытие, какой-нибудь коттедж в тихом месте. Никогда бы не подумал, что этим укрытием окажется дом, у которого мы остановились.
— И что это был за дом?
— Квартира Фелисите Нуво.
— Прачки?
— Совершенно верно! Как сейчас помню, она жила на улице Контор-Сен-Жерве. Местечко не из тех, где хочется гулять ночью одному.
— И что дальше?
— Ваш отец отодвинул шпингалет и открыл панель в брюхе лошади. Извлек мальчика — очень, очень осторожно. А потом на руках отнес его наверх, в квартиру мадемуазель Нуво.
— Но что это был за мальчик? — Я едва сдерживался. — Дофин или второй, которым его хотели подменить?
— Не имею понятия! — воскликнул старик и пожал плечами, адресуя этот жест небесам. — Мое дело было караулить экипаж, поэтому я ни разу не видел ребенка в лицо. К тому же мальчики действительно походили друг на друга. Чтобы отличить одного от другого, требовалось внимательно приглядеться. Вы понимаете, к тому моменту, как ваш отец возвратился, меня буквально распирало от любопытства — но он пресек все вопросы. Весьма решительно. Произнес лишь: «Все в порядке».
Те же слова он сказал матери, когда вернулся.
— Естественно, я… я стал спрашивать, что он имеет в виду. Довольно долго он хранил молчание, а потом просто… повторил свои слова еще раз. «Все в порядке». И больше ничего.
— С тех пор он никогда не заговаривал об этом вечере?
— О нет. И я, сказать по правде, не предпринимал попыток что-либо из него вытянуть.
Я рассматривал старика, словно видя его впервые. Изможденная улыбка, усталое лицо. Подумать только, этот человек был отцом-вдохновителем столь грандиозного и опасного замысла. И до последней минуты не обмолвился о нем ни словом.
Но что же все-таки я от него узнал? Истина по-прежнему не найдена — она лишь загнана в более узкий коридор, в двухчасовой промежуток между моментом, когда отец вошел в Тампль, и моментом, когда он из него вышел. Где-то на этом временном отрезке лежит разгадка. Судьбы Луи Шарля. Участи отца. Всего.
И я ничуть не ближе к ней, чем был раньше, а время Папаши истекает на глазах. Он жует беззубым ртом, его взгляд плывет… На много ли вопросов он еще сумеет ответить?
— Что вы подумали, — спрашиваю я, — когда услышали, что Луи Шарль умер в тот самый день?
— Что подумал? Я не знал, что думать. Мальчик, заключенный в башне, вполне мог умереть. Но кем был этот мальчик? — Он умолкает, обдумывая варианты. — Так что я не сильно удивился бы, если бы мне сказали, что дофин жив и по сей день. Хотя… хотя в таком случае это, наверное, было бы известно?.. Ах да, я вспомнил еще кое-что из слов вашего отца. Это случилось много месяцев спустя. К тому времени он уже забросил медицинскую практику. Мы сидели за чашкой кофе — вы совершенно правы, в «Афинском мудреце». Он был пугающе спокоен. Спокоен, как воздух перед грозой, — впрочем, в те времена он уже всегда пребывал в мрачном расположении духа. «Знаешь, — сказал он, а глядел, я помню, в чашку, — есть одна вещь, которую я не могу себе простить». Я спросил, что это за вещь, и он ответил: «Я решил, что жизнь одного ребенка важнее жизни другого». И перед тем как мы расстались в то утро, он добавил: «Ты был прав, Юниус. Я и в самом деле ненастоящий республиканец».
Свет уличного фонаря на углу незаметно бледнеет, растворяется в сиянии наступающего утра. Место у заброшенного колодца, где сиживал, бывало, Барду, пусто, не считая пары голубей, что-то выклевывающих между досками настила. Издалека доносятся крики трубочиста, по булыжной мостовой грохочет телега водовоза.
Больше мне никогда не доведется ни беседовать с Папашей Время, ни смотреть на этот дом. И все же меня тяготит совершенно другое.
— Что случилось с Фелисите Нуво? — спрашиваю я.
— Не знаю. Через несколько дней я специально заглянул навестить ее и, возможно, разузнать что-нибудь, но не нашел ни следа. Ни ее, ни ребенка. Соседи, похоже, решили, что она покинула город, чтобы избежать ареста. В те времена, знаете ли, роялистам жилось несладко.
— А ее сын? Как его звали?
— Звали… — повторяет Папаша Время. — Как же его звали…
Его глаза тускнеют, щеки западают… Внезапно лицо старика озаряется, словно внутри у него, откуда ни возьмись, разгорелась искра, и он каркает:
— Ха! Вергилий! Именно так его и звали! Разве не знак, что его послали нам небеса? О, Эктор, вы сейчас уходите, скажите, не могли бы вы помочь мне… монетой-другой? На дилижанс до Вернона? Спасибо, вы так добры. А насчет свадьбы, я в отчаянии, что не могу пригласить вас, но моя невеста хочет, чтобы торжество проходило в узком кругу. Такая, знаете ли, простая девушка. Надеюсь, вы поймете…
Назад: Глава 40 ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЮНИУСА
Дальше: Глава 42 РОДИМОЕ ПЯТНО

