Книга: Черная башня
Назад: Глава 11 ИСЧЕЗНУВШИЙ ДОФИН
Дальше: Глава 13 ДРЕВНЕЕ ИСКОПАЕМОЕ ПОДАЕТ ГОЛОС
Глава 12
ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ПОПУГАЯ
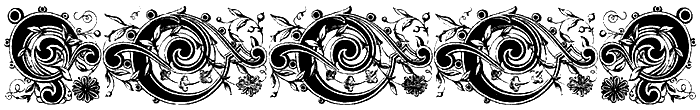
Я вырос на тихой улице в тихом доме, а потому поневоле стал тонким ценителем и знатоком молчаний. Еще мальчиком я с легкостью отличал молчание раннего утра от молчания позднего вечера. Молчание мужа от молчания жены. А также молчание надежды от молчания отчаяния… если слушать достаточно долго, то поймешь, что все и вся молчит в своем собственном тембре.
Но ни разу я не слышал ничего, подобного молчанию Видока: оно тянется с момента, когда мы покинули дом баронессы, до минуты, когда мы вышли на улицу Суффло. Это молчание едва сдерживаемое, раздираемое множеством эмоций. Представьте, как перед вами бесшумно раздувается свиной мочевой пузырь. От такого молчания можно прийти в ужас, а когда оно будет, наконец, нарушено, испытаешь глубокое облегчение.
— Почему вы не сказали, что вашего отца звали так же, как и вас?
Видок по-прежнему одет как старый солдат, но ничего стариковского в его голосе нет: этот голос сотрясает палатки торговцев, сбивает плавильный горшок с костра уличного лудильщика… продирается сквозь густой туман, по-прежнему окутывающий все здания вокруг Пантеона.
— Почему вы не сказали, что в мире существует еще один доктор Карпантье? Вы не… вам не пришло в голову, что мне это будет интересно?
— Но он не был доктором.
— Что это значит?
— Это значит… что он бросил медицину, когда я был еще ребенком. Стал зарабатывать на жизнь полировкой стекол. Сколько я помню, никто никогда не обращался к нему: «доктор Карпантье».
Здесь я должен вмешаться и заметить… что я лукавлю.
Потому что время от времени, примерно с частотой лунных затмений, кто-нибудь, не слишком близкий нашему семейству — каменщик, нищий попрошайка, отдаленно знакомый чиновник Министерства юстиции, одним словом, человек, чья связь с моим отцом была слишком туманна для моего разумения, — оговаривался и называл отца доктором Карпантье. В лицо.
В такие моменты я всегда пристально наблюдал за ним, но даже сейчас затрудняюсь описать его реакцию. Он никогда не исправлял ошибку, он просто предоставлял обращению повиснуть в воздухе. На первый взгляд могло показаться, что он чувствует себя оскорбленным; только позже становилось понятно, что на самом деле он испытывал смущение, словно внезапно из детской показалась старая нянька и одним словом вернула его обратно, в босоногое детство.
Я к тому, что оно его пугало, это обращение.
Так что вы без труда поймете, почему я приучился не ассоциировать отца со словом «доктор». И почему позже, когда я сделал целью своей жизни пробиться сквозь окружавший его панцирь, я не нашел более эффективного способа, чем самому назваться… доктором.
— Хмм.
Такова была первая реакция отца, когда я сообщил, что поступаю в Медицинскую школу.
Второй реакцией стало:
— Хмм.
Признаюсь, на мгновение этот занавес абстрагирования от всего, за которым он прятался, все же приподнялся. На его лице явственно изобразилась тревога, словно я у него на глазах стал кашлять мокротой. Смотреть на меня дальше было выше его сил.
Думаю, его волнение оказалось бы значительно слабее, знай он, сколько времени уйдет на осуществление моей мечты. В те времена, на заре Реставрации, казалось, мне никогда не стать врачом.
Так что можно понять, почему молодой человек не возражает, когда к нему с незаслуженным титулом обращается незнакомец, к тому же еще и мертвый. Не стану отрицать, мне нравилось считаться доктором Карпантье, пусть это и длилось недолго. Хочется думать, что удовольствие быть доктором я получал за нас обоих.
И если при этом я не слишком задумывался о другом докторе Карпантье… что ж, предоставьте мне такое право. Даже мой отец не хотел иметь с ним ничего общего.
— И когда он откинулся?
Голос Видока, мрачный и гортанный, возвращает меня к реальности. Я смотрю на него непонимающим взором.
— Когда он умер? — переводит Видок. — Ваш несчастный папа, когда он умер? Как давно он жует одуванчики с корней?
Если вам хочется, чтобы о смерти говорили туманно и уклончиво, то с Видоком вы ошиблись дверью.
— Год, — отвечаю я. — Год с половиной.
— Какие у вас точные внутренние часы. «Год. Год с половиной»…
— Хорошо, восемнадцать месяцев, так вам больше нравится? И еще двадцать один день и… и одиннадцать часов…
Слегка нахмурившись, он касается креста Святого Людовика.
— Похороны, наверное, были скромные, — замечает он.
— Он не хотел пышности. Точнее, мать не хотела. Была небольшая служба, минут на пять, не дольше.
— Кто присутствовал?
— Никого постороннего. Мать и я… да еще Шарлотта, и все.
Впрочем, нет, был кое-кто еще. Теперь я вижу — в темном склепе памяти маячит четвертая фигура. Скрюченная, как запятая, в мешковатом одеянии, фигура склоняется над открытым гробом, дыша характерным запахом шерсти и парафина…
— Папаша Время.
— Надо же! — ухмыляется Видок. — Это аллегория, доктор?
— Нет… Папаша Время — давний друг нашей семьи, вот и все. У него есть настоящее имя…
— Какое?
— Хмм, кажется, профессор Расин. Нет, подождите, его имя Корнель…
В этот момент меня с удивительной силой пронзает другая мысль:
«Если бы отец оказался сейчас здесь».
— Не было сообщений в газетах? — уточняет более спокойным тоном Видок. — Поминальных служб?
Я отрицательно качаю головой.
— Следовательно… — глядя вверх, он снимает кивер, — известие о его гибели, вероятно, так и не дошло до незабвенного месье Леблана. Он погиб, разыскивая человека, который уже умер. Ангелы рыдают.
В этот момент раздается еще один голос. Отнюдь не ангельский.
— Добрый день, месье Эктор.
Перед нами Рейтуз, в облаке фрака, в почти безупречном обрамлении портика Пантеона. Золотые пуговицы, кружевное жабо и общее впечатление дерзости — вероятно, он только что проспал лекцию о гражданских правонарушениях.
— Вы меня не представите? — Улыбаясь, он сверкает пенсне в сторону Видока. — Могу я полюбопытствовать, к кому имею честь обращаться?
— Будете иметь честь получить моим сапогом по заднице, если не исчезнете.
Важно отметить, что эти слова произносятся абсолютно ровным голосом, однако намерения Видока столь недвусмысленны, что действуют даже на непрошибаемую самоуверенность Рейтуза. Разве придет в голову ожидать такой прыти от старой развалины, ветерана армии Людовика Пятнадцатого, — поневоле остолбенеешь!
— Послушайте, — побледневшие губы Рейтуза искривляются в улыбке, — не вижу никакой необходимости в подобных действиях.
Вместо ответа Видок хватает его за отвороты фрака и приподнимает над землей. Рейтуз, вися в тридцати сантиметрах над ее поверхностью, перебирает ногами в воздухе. Глаз у него дергается, он весь дрожит, до самой последней нитки одежды, и все же улыбка не покидает его лица, несмотря на рык Видока.
— Я неясно выражаюсь? Неясно?
Мощный бросок, и Рейтуз приземляется на внушительном расстоянии от того места, где начал полет.
— Подумайте о престарелых родителях! — бросает Видок. — Брысь отсюда!
Внимательно, словно доктор, изучающий клинический случай, он наблюдает, как Рейтуз нашаривает шляпу, нахлобучивает ее и, не оглядываясь, трусит в ближайшую подворотню.
— Этот ваш папа, — произносит Видок, переводя взгляд на церковь Валь де Грае. — Он о дофинах никогда не упоминал?
— Нет. Он был сыном нотариуса. А мать из семьи торговцев картофелем. Это не тот круг, где имеют дело с особами королевского происхождения.
— Ах, не сомневаюсь, что вам известна старинная поговорка. «Чудные времена, чудные знакомства». А какое уж время чуднее Революции?
Тут он делает нечто неожиданное: просовывает руку мне под локоть и осторожно тянет за собой. Теперь мы прогуливаемся по этим узким, мягко идущим под уклон улочкам: два буржуа, наслаждающихся свежим воздухом, только что из Итальянской оперы.
— Я жил в Аррасе, — говорит Видок, — когда началась свистопляска. Видел там одну женщину, век ее не забуду, гражданку Лебо. Была простой монашенкой в монастыре Вивьер, когда якобинцы насильно выдали ее за кюре Нювилля. Оказалось, родственные души. Она решала, кто враги Республики, он отвечал за то, чтобы за свои грехи они заплатили смертью. Я стал свидетелем того, как они казнили месье Вьюпонта за прегрешения его попугая. По-видимому, гражданка Лебо подслушала, как попугай выкрикивает: «Да здравствует король!» Не прошло и недели, как обладатель попугая расстался с головой. Саму птицу пощадили, передали этой самой гражданке на перевоспитание. Она, наверное, все еще его перевоспитывала, когда пришли уже за ней.
С полуулыбкой он наклоняется ко мне.
— Такое уж было время, — шепчет он. — Женщина духовного звания превращалась в женщину из народа и проводила свои дни, перевоспитывая попугая-роялиста. Три состояния, пережитых за эпоху одной Республики.
Я и не заметил, как мы оказались на улице Святой Женевьевы. Опять мы на том же углу. Опять я разглядываю потрескавшуюся штукатурку фасадов, покосившийся колодец, черную грязь сточных канав, саму улицу, такую крутую, что редкая лошадь рискнет по ней скакать. Странно, но в этот момент видимая сквозь медленно тающие лохмотья тумана улица кажется более реальной, чем обычно.
— Значит, вы считаете, что мой отец имел дело с Бурбонами, — замечаю я.
— Возможно, — отвечает он, пожимая плечами. — Единственная проблема, доктор, что все могущие пролить свет на эту историю уже мертвы. И если вы не найдете способ заставить мертвых говорить, боюсь, буду вынужден классифицировать вас как объект пустой траты моего времени.
С этими словами он ослабляет хватку. Вежливо кивает, желает мне приятного вечера и вновь превращается в ветерана забытых войн, шаркающего по Вьей-Эстрапад. Только две детали разрушают иллюзию: правая нога, которую он слегка подволакивает — менее убедительно, чем следовало бы при старой ране, — да лукавая улыбка, расцветающая морщинками на его лице, когда он оглядывается.
— Самое время хорошенько познакомиться с вашим родителем. Как считаете, Эктор?
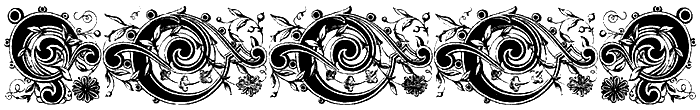
28 термидора II года
Необходимо переговорить с Баррасом/комиссарами касательно ограничений. Мне разрешено видеть Шарля только на протяжении часа рано утром. Все время в присутствии стражи — никакая откровенность между мной и пациентом невозможна. Если я хочу более длинного свидания, то должен обратиться в Комитет за три дня до желаемой даты.
Все остальное время Шарль проводит в камере в полном одиночестве. Ни огня, ни свечи. Единственные звуки, которые он слышит, — грохот засовов; стук глиняной миски, просовываемой в окошко; голоса, приказывающие ложиться; голоса, которые периодически будят его ночью.
До заключения мальчик, по свидетельствам очевидцев, был живым и веселым; шесть месяцев в камере полностью его изменили: взгляд остановившийся, в поведении никаких признаков интереса к миру.
Еда чрезвычайно плохая. Дважды в день суп, водянистый, безвкусный. Обрезки мяса. Ломоть черного хлеба. Кувшин воды. Объяснил Баррасу, что плохое питание и длительное заключение значительно ослабили пациента. Выразил желание лично сопровождать Шарля на короткие прогулки. Теперь ожидаю решения Комитета общественной безопасности.
Сегодня утром Шарль спросил, почему я им занимаюсь. Я ответил: «Потому что это моя обязанность».
«Но вы ведь меня не любите», — сказал он.
«Совсем наоборот», — ответил я.
Очевидно, хорошее отношение вызывает у него более сильную тревогу, нежели грубость. Узнать больше о том, как с ним обращались раньше.
3 фруктидора
Есть прогресс. Шарль теперь может преодолевать более длинные дистанции б/поддержки. Однако по-прежнему испытывает боль в коленях, лодыжках.
Только что получил сообщение из Комитета: прогулки разрешены. Пациент может покидать камеру на 10 минут, не дольше. Каждый раз в сопровождении меня + 2 стражника.
По зрелом размышлении обратился с дополн. петицией. Учитывая повышенную чувствительность пациента к солнечному свету, прогулки лучше планировать на предвечернее время. Ожидаю решения Комитета.
6 фруктидора
Просьба удовлетворена. Теперь требуются 3 дополнительных сопровождающих.
7 фруктидора
Не похоже, чтобы перспектива покинуть камеру радовала Шарля. Выражает сомнение по поводу всей идеи. Согласился пойти со мной только после того, как я пообещал, что в любую минуту он сможет вернуться.
В качестве меры предосторожности я наложил ему на глаза повязку. Осторожно вывел из камеры. Караульные следовали за нами на расстоянии 3 метров. Подошли к лестнице — это 1-я лестница, на которую ступила нога пациента на протяжении 1+ года. Он всем телом наваливался на мою руку. Ему было оч. трудно подниматься — ноги не раз подгибались. Когда мы достигли вершины башни, дыхание пациента стало оч. тяжелым. Я усадил его на скамейку, чтобы он отдышался и мог опять встать.
Здесь площадка = галерея, с нее открывается вид на двор Тампля + близлежащие улицы. Мы постояли, и вдруг Шарль, не спрашивая меня, одним движением сорвал с глаз повязку. Стоял, моргал в свете сумерек. Смог продержать глаза открытыми 5-10 секунд, не больше.
Постепенно фокус его внимания сместился к звукам. Спросил меня — какая поет птица? Я ответил, что соловей. Да, кивнул он. Правильно. Потом стал спрашивать о других звуках: производимых водоносами и метельщиками улиц, разносчиками фруктов, катящимися дилижансами, о стуке топоров или грохоте падающих досок. Один звук в особенности его заинтересовал. «Что это?» — спросил он. «Свист», — ответил я. Он полюбопытствовал, кто свистит. Дети, они гуляют по бульвару Тампль. «Расскажите, что они делают». Играют в догонялки, кувыркаются, смеются, дразнят друг друга, покупают у разносчика пирожки и т. д.
Объяснения, по-видимому, его удовлетворили. Однако настроение пациента словно бы изменилось. Я спросил: что-то не так? Он отрицательно покачал головой. Однако позже, когда мы уже спускались по лестнице, он спросил (шепотом), не затем ли пришли эти дети, чтобы его убить.
17 фруктидора
Неоднократно обращался с просьбой выделить помощника. Ухода 1 час в день недостаточно. Караульные отказываются выполнять мои указания. Некому делать с пациентом физические упражнения, накладывать мазь на раны, менять бинты и т. д. При таком положении дел вряд ли можно рассчитывать на выздоровление. Получил ответ, что Комитет принял просьбу на рассмотрение.
20 фруктидора
Ответа нет.
22 фруктидора
Из Комитета по-прежнему никаких известий. Все это чрезв. огорчительно.
23 фруктидора
Днем получил сообщение: Комитет просьбу удовлетворил. Помощник приступит к своим обязанностям на следующей неделе.
Мне немного рассказали о нем. По профессии обивщик мебели. Отзывы верных республиканцев: безупречные. Скромный опыт в уходе за больными. Зовут Кретьен Леблан.

