38
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Эвенвуд, декабрь 1887 г.
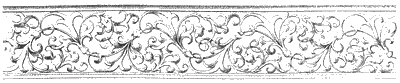
I
Сбывшаяся надежда
Минуло пять лет со дня, когда я написала слова, которыми, как мне тогда думалось, я завершила историю своей тайной жизни, своего сладостно-горького путешествия из дома детства на авеню д’Уриш в земной рай Эвенвуда. Но сейчас я нижайше прошу у моих читателей позволения вновь взяться за перо, дабы рассказать о нескольких дальнейших событиях, на мой взгляд представляющих интерес для всех, у кого хватило терпения сопровождать меня в моем путешествии. Окажутся ли они концом данной истории или же станут началом следующей, мне неведомо. Я берусь лишь изложить их вам, по возможности коротко.

Одним солнечным утром в июне 1880 года, когда я сидела у озера, глядя на Храм Ветров и по обыкновению думая о прошлом, один из лакеев прибежал ко мне с ужасным известием, что Рандольф погиб при восхождении на гору Криб-Гоч, которое совершал вместе со своим шурином и давним другом, Рисом Пейджетом.
Мы с Рандольфом сохраняли молчаливо-доброжелательные отношения, когда он изредка наезжал в Эвенвуд по семейным делам; но с его женой я не виделась еще ни разу после смерти своей госпожи (странно, что я до сих пор называю Эмили так, но мне все не избавиться от этой привычки).
После похорон мы с миссис Рандольф Дюпор немного побеседовали наедине на Библиотечной террасе, где я частенько сидела погожими вечерами в плетеном кресле прежней леди Тансор, с Баузером у ног.
То была странная встреча — обе мы теперь носили одну фамилию, и обе в прошлом служили у двадцать шестой баронессы Тансор. Но она уже не походила на женщину, которую я в свою бытность Эсперанцей Горст знала под именем миссис Баттерсби. Она сильно постарела и стала мягче нравом, хотя на губах у нее по-прежнему играла загадочная полуулыбка, плохо вязавшаяся с воспаленными от слез глазами, полными горя. Мы говорили о многочисленных достоинствах Рандольфа — о его доброте, обаянии, жизнерадостности, благожелательности, искренности и прочих замечательных свойствах характера, относительно которых мы, да и многие другие, легко сходились во мнении. Однако о более деликатных предметах, связанных с нашей былой жизнью, мы речи не заводили.
Когда я уже поднялась с кресла, собираясь удалиться, миссис Дюпор дотронулась до моей руки и попросила позволения сказать еще несколько слов. Затем она призналась, что Рандольф потерял все унаследованные от матери деньги на неудачных коммерческих спекуляциях. Став баронессой, я тоже передала в пользование Рандольфа значительные денежные средства, но и они все вышли.
— Как и мой отец, Рандольф совершенно не смыслил в коммерции, — со вздохом промолвила она, — но очень хотел доказать всем, что он ничем не хуже брата. Однако, взявшись не за свое дело, он доверился людям, преследовавшим единственную цель: вытянуть из него деньги и не вернуть.
Она сидела с опущенными глазами и нервно мяла носовой платок в длинных белых пальцах. Я видела, сколь трудно некогда гордой «миссис Баттерсби» унижаться передо мной, и прониклась к ней жалостью. В прошлом она ненавидела меня, как ненавидела бы ее я, поменяйся мы местами; но сейчас она приходилась мне свойственницей, и я не могла бросить ее в беде.
Посему я сказала, что с радостью назначу ей вспомоществование, и я выполнила свое обещание, хотя ни разу больше не принимала здесь миссис Дюпор. Все, что я делала, делалось ради осиротевшего сына Рандольфа — милого малыша по имени Эрнст, в чьей судьбе я намерена принять близкое участие.

Рандольфа похоронили в мавзолее, рядом с матерью. Разумеется, Персею сообщили о смерти брата, и он известил меня коротким письмом, что приедет на похороны, но сразу по завершении церемонии уедет в Лондон, где проведет несколько дней перед отбытием обратно в Италию.
После смерти Эмили мы с ним напрямую никак не сообщались. Вся деловая переписка, происходившая между нами после моего вступления в баронский титул, по требованию Персея велась через посредников, главным образом через мистера Дональда Орра.
Став леди Тансор, я сразу же выделила Персею изрядную сумму денег, чтобы он мог поддерживать прежний образ жизни; но в ответ на сей акт бескорыстной заботы, продиктованный желанием хотя бы частично возместить ему утрату, он соизволил лишь черкнуть пару слов благодарности в письме к мистеру Орру. Несмотря на такой отпор, я после долгих колебаний сочинила пространное письмо к Персею, где объяснила, почему меня прислали в Эвенвуд, и кратко изложила основные события, описанные на этих страницах.
Я с нетерпением ждала ответа, но так и не дождалась. Письмо с уведомлением, что он приедет в Англию на похороны брата, было первым, которое Персей написал лично мне, собственной рукой. Не желая расставаться с этим бесценным сокровищем, я положила письмо в бархатный мешочек и стала носить в кармане как своего рода талисман, в глупой надежде, что оно знаменует благоприятную перемену в наших отношениях.
Хотя мы с ним не виделись почти три года, Персей постоянно присутствовал в моей жизни. Почти каждое утро я просыпалась с мыслью о нем и гадала, чем он теперь занимается и вспоминает ли меня иногда; почти каждый вечер я укладывалась спать с уверенностью, что мне приснится он и былые дни, когда мы так много значили друг для друга. Узнав о скорой нашей встрече, я исполнилась радостной надежды.
Настал день похорон. С самого утра меня одолевали противоречивые чувства: я искренне скорбела о бедном Рандольфе, которого продолжала любить, несмотря на все случившееся между нами, но одновременно с нетерпением предвкушала возвращение его брата в Эвенвуд, пускай всего на один день.
Скорбящие уже начали собираться на Парадном дворе, чтобы оттуда проехать в экипажах к мавзолею, но Персей все не появлялся. Пробило одиннадцать — назначенный час начала церемонии, — но он так и не прибыл. Не имея возможности ждать дольше, мы тронулись со двора.
В мавзолее, по сей день снившемся мне в кошмарных снах, гроб с телом Рандольфа поместили в приготовленную нишу и железные решетчатые воротца заперли на висячий замок. В ходе короткой погребальной службы, проведенной доктором Валентайном, преемником мистера Триппа, почившего прошлой осенью, я нервно стояла в полумраке освещенного свечами зала, каждую секунду надеясь, что вот сейчас Персей войдет в открытые двери и станет рядом со мной. Но когда доктор Валентайн распевно произнес заключительную молитву и скорбящие двинулись обратно к своим экипажам, я поняла, что надеялась напрасно.

К четырем пополудни все скорбящие, включая миссис Рандольф Дюпор, покинули Эвенвуд. Около часа я увлеченно читала новый роман Томаса Гарди, за который взялась только на днях, хотя мой книготорговец прислал мне его несколько месяцев назад. Отложив наконец книгу, я случайно взглянула в окно.
За низким заборчиком у канавы — на том самом месте, где я впервые увидела капитана Уиллоби Легриса, моего тогда еще незнакомого друга, одним туманным утром в 1876 году, — стоял мужчина и пристально смотрел на мое окно. Несмотря на расстояние, я мгновенно узнала его.
Я вихрем слетела вниз по лестнице, пронеслась через Библиотечную террасу и остановилась, с пылающим страстью сердцем, по другую сторону заросшей травой канавы. Казалось, целую вечность мы стояли в лучах предзакатного солнца, пристально глядя друг на друга.
Мы оба молчали, но все было ясно без слов.

Отплытие парохода, следовавшего из Булони в Фолкстон, задержали на несколько часов; наверстать упущенное время не представлялось возможным, и Персей прибыл в Истон всего полчаса назад. Оставив багаж в «Дюпор-армз», он тотчас помчался в Эвенвуд. Это я узнала, когда мы наконец обменялись приветствиями в вестибюле.
Мы стоим лицом к лицу у подножья лестницы — там, где произошла наша первая встреча. Портрет его отца в обличье турецкого пирата я распорядилась перенести в одну из мансардных комнат. Он бросает взгляд на пустое место на стене, где прежде висела картина, но ничего не говорит.
Он по-прежнему красив, но иначе, чем Персей Дюпор, которого я в последний раз видела в ужасный день, когда тело его матери нашли в Эвенбруке. Он стал шире в плечах и крепче станом; длинные волосы, в прошлом составлявшие предмет его гордости, сейчас коротко острижены, а густую черную бороду, придававшую ему столь сильное сходство с отцом, сменили аккуратные нафабренные усы.
В его поведении тоже произошла разительная перемена. Невзирая на страстное желание увидеться с ним, я боялась, что он по-прежнему глубоко уязвлен и возмущен неприятным поворотом своей судьбы и моей ролью в случившемся — сухой тон его письма лишь укрепил меня в таком предположении. Однако, к великой моей радости и облегчению, опасения оказались напрасными. Персей не выказывает никакой обиды или враждебности по отношению ко мне и улыбается тепло и непринужденно. Похоже, он с неожиданным и совершенно замечательным спокойствием смирился со своим положением и навсегда оставил в прошлом гнев и стыд, сжигавшие его после смерти матери. Что самое удивительное — его глаза, прежде изобличавшие в нем натуру скрытную и болезненно гордую, теперь лучатся благожелательностью, как у человека, открытого для общения со всем миром. Они больше не похожи на глаза его матери — то есть размер, разрез, гипнотический взгляд остались прежними, но сейчас в них отражается душа цельного человека, настоящего Персея Дюпора со всеми его противоречиями. Ибо теперь он избавлен от необходимости играть роль, с рождения возложенную на него матерью. Как и я, он сбросил маску, носить которую его заставляли самые близкие люди. Теперь он знает правду о себе и своем происхождении. Все это я ясно вижу в лице и слышу в голосе Персея, и мое сердце бьется учащенно, исполняясь новой надежды.
— Доброго вечера, ваша светлость.
— Не соблаговолите ли вы называть меня Эсперанцей, как раньше?
— Конечно, если ваша светлость позволит.
— С радостью позволю, если вы сами ничего не имеете против.
Мы продолжаем шутливо перебрасываться подобными репликами, покуда первое чувство неловкости не проходит окончательно. Потом мы снова серьезнеем и заводим речь о Рандольфе, чья смерть потрясла Персея гораздо сильнее, чем я могла ожидать.
Продолжая говорить о покойном, мы проходим в библиотеку и останавливаемся перед одним из французских окон, выходящих на Молсейский лес.
— Я недооценивал брата, — печально произносит Персей. — Он был совершенно замечательным человеком, сейчас я готов признать это. Но я презирал его, искренне полагая, что он недостоин носить благородное имя Дюпоров. Однако он имел больше права зваться Дюпором, чем я.
Я говорю, что он слишком суров к себе, но Персей перебивает меня:
— Нет-нет. Так оно и есть. Я знаю, кто я и какое имя должен носить на самом деле.
— Верно, теперь вы презираете меня, — решаюсь предположить я. — Ведь я отняла у вас все, что вы всегда считали своей законной собственностью.
Он ласково смотрит на меня.
— Не говорите так. Разве могу я презирать вас? Не стану скрывать, одно время я винил вас в случившемся со мной, но давно уже перестал. Я знаю, что вы так же невиновны, как я, и всего лишь вернули принадлежащее вам по праву. Дюпор — ваше законное имя, но не мое. Мы оба стали невольными жертвами наших близких. Во всем виноваты они, а не мы.
Потом у нас заходит речь о его матери, и Персей выражает неожиданное сострадание к ней. К моему несказанному облегчению он заверяет, что не считает меня ответственной за ее смерть и винит в случившемся ее слепую страсть к Фебу Даунту.
— У нее была сильная воля, — говорит он, когда мы направляемся по центральному проходу библиотеки к бывшему кабинету его деда, где ныне работает мистер Роксолл, — но у моего отца еще сильнее, и даже после смерти он сохранил полную власть над ней. Моя мать заплатила за свои грехи, но все, что она делала, делалось для него. Она до конца жизни осталась его рабой.
Солнце уже начинает опускаться за лес, и красно-золотые закатные лучи заливают огромную залу. Я отпускаю какое-то банальное замечание по поводу прекрасного вида за окнами, но Персей прерывает меня и говорит, что нам надо уладить один вопрос, причем уладить раз и навсегда.
Его серьезный вид пугает меня, но он ласково улыбается и объясняет, что речь идет о вражде, существовавшей между нашими отцами.
— Я должен простить вашего отца, а вы должны простить моего. Только так мы сумеем освободиться от них. Думаю, я в силах сделать это — на самом деле уже сделал. А как насчет вас?
Я говорю, что вряд ли мы когда-нибудь освободимся от них полностью: слишком уж тяжелое наследие они оставили.
— Но я постараюсь простить наших отцов — иначе моя жизнь никогда не будет принадлежать мне. Мы оба дорого заплатили за их грехи.
— На том и порешим, — говорит Персей. — Прошлое больше не будет иметь власти над нами. Нам обоим пора обратиться лицом к будущему и стать наконец самими собой, прекратив плясать под дуду наших родителей.
Проходят часы, за окнами сгущается темнота, а мы все говорим, говорим о событиях и обстоятельствах, приведших нас к этой точке жизненного пути, покуда у нас наконец не остается никаких секретов друга от друга. Тогда я замечаю Персею, что час уже поздний.
— Может, вы задержитесь? — спрашиваю я, с бешено стучащим сердцем. — Хотя бы до завтра?

Персей остался на неделю, потом на вторую — и так все началось. А закончилось все морозным октябрьским утром, в одиннадцать часов, в церкви Святого Михаила и Всех Ангелов, где я сочеталась браком со своим дальним родственником Персеем Вернеем Дюпором.
Двумя месяцами ранее, когда жарким августовским вечером мы сидели на освещенной фонарями террасе, вспоминая нашу жизнь в палаццо Риччони, Персей вдруг достал из кармана маленькую коробочку. В ней находилось кольцо, которое он преподнес мне на Понте Веккьо, а позже бросил в камин, когда решил, что я отвергла его, отдав предпочтение Рандольфу.
— Я не смог оставить его здесь, — признается он, вынимая кольцо из коробочки. — Однажды оно принадлежало вам, и мне очень хотелось, чтобы оно вновь стало вашим. Вы примете его во второй раз, как дружеский дар?
Я отвечаю, что с радостью приму кольцо, но только на прежних условиях.
Персей трясет головой.
— Нет-нет! О браке не может идти и речи. Все подумают, что я просто хочу вернуть потерянное, став вашим мужем. Даже вы сами можете так подумать, а я такого не вынесу — ведь у меня нет возможности доказать обратное.
Никакие мои возражения и заверения не действуют на него, он упорно твердит, что мы должны остаться родственниками и друзьями. Однако я проявляю настойчивое терпение и начинаю убеждать Персея, что общественное мнение для нас ничего не значит и что сейчас мы сами должны решить нашу дальнейшую судьбу. Что касается до меня, мне не нужны доказательства его искренности — и почему бы ему не стать совладельцем моей собственности, если я этого желаю? Он еще долго сопротивляется, но в конце концов все же надевает кольцо мне на палец, задает тот же вопрос, что задавал на Понте Веккьо, и получает тот же ответ. Таким образом, сын Феба Даунта во второй раз сделал предложение дочери Эдварда Глайвера, убийцы своего отца, и она с ликующим сердцем ответила согласием. 23 сентября 1881 года у них родился сын, Петрус, на которого ныне счастливые родители возлагают все надежды, связанные с будущим древнего рода Дюпоров.
Сейчас, когда я пишу сии строки, он сидит на полу у моих ног, разглядывая книжку с картинками — мою старую детскую книжку про Петера-Неряху, где на одной из иллюстраций изображен страшный длинноногий Портной, отрезающий ножницами большие пальчики у непослушного маленького мальчика, все время их сосавшего. Похоже, картинка производит на него такое же пугающе-завораживающее впечатление, какое производила на меня в детстве, и он вот уже пять минут кряду не сводит с нее глаз.
Петрусу три годика, он крепкий, здоровый и поразительно красивый малыш, очень похожий на своего отца. Порой он проявляет упрямство, несговорчивость и своеволие, и тогда я опасаюсь, что наш сын унаследовал некоторые черты характера и темперамента от одного из своих дедов или обоих сразу и что эти качества осложнят ему жизнь впоследствии, если сейчас не исправлять их со всей строгостью. Персей уверяет, что с возрастом это пройдет и наш мальчик станет превосходным наследником. Надеюсь, он прав.

Мы с мужем живем душа в душу, сейчас я счастлива и надеюсь остаться счастливой до скончания дней. Персей преодолел свою прежнюю сдержанность и часто говорит мне, что любит меня и что я его отрада и радость; а он моя отрада и радость на веки вечные. Во всем орфоэпическом словаре мистера Уокера не найдется достаточно слов, чтобы описать мои чувства к Персею. Любовь может развращать и уничтожать, растлевать и предавать — это я знаю по собственному горькому опыту; но без любви мы ничто.
Мы вместе гуляем, катаемся верхом и читаем; часто я сижу рядом с ним за органом в часовне, переворачивая ноты, когда он с замечательным мастерством и чувством исполняет фуги Баха. В иные ночи, когда не спится, Персей спускается в часовню поиграть на органе, и тогда я внимаю величественным гармониям, что разливаются волнами в недвижном ночном воздухе подобно музыке самого Бога.
Я очень люблю помогать мужу в работе — читать вслух, переписывать тексты набело, проверять исторические факты. Его поэмы, увы, не пользуются большим спросом, несмотря на все его упорные старания и на деньги, заплаченные мистеру Фриту за рекламу и распространение изданий; но Персей надеется, что потомки оценят его сочинения не в пример выше, чем современники. Мне больно думать, что он может обмануться в своих ожиданиях.
Впрочем, сейчас он нашел новый издательский дом — «Грендон и К°, книготорговцы и издатели» с конторой на Стрэнде, — готовый заключить с ним договор на свой страх и риск. Вернее сказать, упомянутая фирма нашла его, ибо к нему обратился лично директор, доктор Эдмонд Грендон, на которого произвели глубокое впечатление эрудиция, вкус и просвещенный энтузиазм Персея. Хотя это издательство еще не встало прочно на ноги, мы надеемся, что с помощью доктора Грендона к моему любимому мужу наконец придет заслуженный литературный успех, до сей поры обходивший его стороной.
Персей высоко ценит доктора Грендона, как друга и советчика, чему я премного рада, поскольку у него мало близких друзей. На самом деле Персей отзывается о названном джентльмене с таким восторгом, что мне не терпится поскорее с ним познакомиться; но он, будучи по природе человеком замкнутым и необщительным, уже несколько раз отклонил приглашение навестить нас в Эвенвуде, и Персею приходится часто уезжать в столицу, порой на целую неделю, чтобы посоветоваться со своим новым другом и наставником.
Так мы и живем тихо-мирно вдали от сверкающей мишуры высшего света, посвятив себя воспитанию маленького Петруса, дабы подготовить нашего сына и наследника ко дню, когда он станет главой благородного семейства Дюпоров. Однако тень былого по-прежнему витает над нами. Нам никак не избавиться от наследия минувших дней, особенно здесь, в Эвенвуде, где прошлое разлито в самом воздухе, которым мы дышим. Сколько мы ни стараемся, ради нашего сына, нам все же не удается полностью освободиться от уз, неразрывно связывающих нас с прежней жизнью. И мне кажется, мы никогда от них не освободимся.
II
О спящих собаках
Напоследок остается рассказать еще об одном событии.
Несколько недель назад Чарли Скиннер принес мне записку от мистера Роксолла, где спрашивалось, могу ли я встретиться с ним в библиотеке вечером.
На столе в рабочем кабинете мистера Роксолла лежала красиво переплетенная книга — без названия на корешке, с вытисненным на передней обложке гербом Дюпоров.
— Что это? — спросила я.
— Откройте и посмотрите сами, — предложил мистер Роксолл без обычной своей улыбки.
Я принялась листать страницы. Это оказалось не печатное издание, а переплетенная рукопись, написанная на линованной бумаге. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что в ней содержится.
— Как это оказалось у вас? — спросила я, закрывая книгу.
— Вчера мне доставили письмо за подписью «Доброжелатель» — как вы наверняка помните, однажды я уже получал послание от человека, пользовавшегося таким псевдонимом. Наш неизвестный корреспондент сообщил о тайнике, где этот том пролежал свыше двадцати лет. Он все время находился в библиотеке, под самым нашим носом.
Я спросила, сохранил ли он письмо.
Мистер Роксолл выдвинул ящик стола и достал оттуда конверт. Взглянув на адрес, я не сочла нужным читать само письмо, но с тревожной дрожью отметила, что отправлено оно из Лондона.
— Это от него, — сказала я, отдавая конверт. — Я хорошо знаю почерк мистера Бэзила Торнхау.
— Да, моя дорогая, — промолвил мистер Роксолл, убирая конверт обратно в ящик. — Полагаю, вы правы.
Значит, он по-прежнему живет где-то на белом свете, несомненно, под новым именем — может статься, в Англии, под этим самым солнцем, что сейчас отбрасывает длинные предвечерние тени на террасу. Вообще-то я так и думала, но все же дрогнула сердцем, получив столь недвусмысленное подтверждение своей правоты.
Мистер Роксолл заметил мой испуг и ободряюще положил ладонь мне на плечо.
— Успокойтесь, дорогая моя. Он здесь не появится. Его время прошло.
Несколько мгновений он стоял, не сводя с меня ласкового, пристального взора серых глаз.
— Как мне поступить с этим? — спросил он затем, беря со стола объемистую рукопись, много лет назад привезенную в Англию мистером Джоном Лазарем. — Я всю минувшую ночь провел за чтением. Здесь много такого, что вам наверняка хотелось бы узнать, но много и такого, о чем вам лучше не знать.
В следующий миг снаружи донесся скрип открываемой калитки, и я посмотрела в окно.
Персей, ведя за ручку маленького Петруса, прошел под аркой и поднялся на террасу. Они немного постояли, глядя на зимний парк, потом Персей наклонился, взял сына на руки и поцеловал.
— Положите на прежнее место, — ответила я на вопрос мистера Роксолла. — Я не желаю знать, куда именно, и прошу вас никогда не говорить ни мне, ни моему мужу. Этот человек никогда больше не возымеет власти надо мной.
Мистер Роксолл кивнул, а потом достал из кармана желтый листочек и протянул мне.
— Вот, нашел между страницами. Уверен, написавший это джентльмен был бы рад, что вы поступили согласно его совету.
Я взяла листок и прочитала несколько строк, написанных мелким аккуратным почерком:
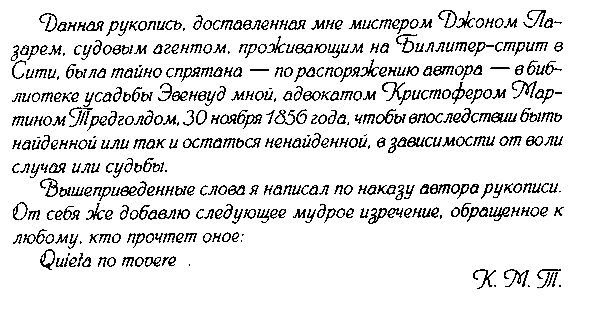
— Вы еще помните латынь? — спросил мистер Роксолл.
— Да, — ответила я. — Помню. И никогда не забуду.
Назад: 37 НАСЛЕДСТВО
Дальше: Благодарности

