37
НАСЛЕДСТВО
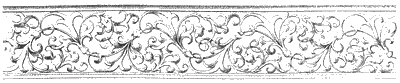
I
Четыре секрета
1 июня 1877 г.
Переночевав в Hotel des Bains в Булони, где я останавливалась перед отъездом в Англию, я наконец прибываю на авеню д’Уриш.
Мадам сидит одна, спиной к двери, в просторной светлой гостиной на втором этаже Maison de l'Orme, рассеянно глядя в окно на каштановое дерево, под которым я играла в детстве.
В первый момент она не замечает, что я вошла и стою прямо позади нее; потом вдруг слегка поворачивает голову и, порывисто прижав ладонь к губам, тихо ахает от изумления при виде меня.
— Эсперанца! Милое дитя! Как ты здесь оказалась?
В следующий миг я тоже испытываю сильнейшее потрясение, хотя и стараюсь скрыть свои чувства.
Мадам страшно переменилась. Девичье лицо, которое я так хорошо помнила и так часто видела во сне, пока жила в Эвенвуде, стало теперь худым и изможденным; роскошные светлые волосы поредели и истончились; некогда гладкие, мягкие руки сделались костлявыми, как у древней старухи, и непроизвольно тряслись. О, мой прекрасный, вечно молодой ангел-хранитель! Что с вами случилось?
Обретя наконец дар речи, я поприветствовала мадам и запечатлела поцелуй на изрезанном морщинами лбу. Она взяла мою руку, и я села рядом с ней на обитый гобеленом диванчик, где мы часто сиживали с книгой, когда погода препятствовала нам отправиться на прогулку в Булонский лес.
— Почему ты не предупредила о своем приезде? — спросила мадам со странной дрожью в голосе, словно недовольная моим возвращением.
— Я хотела сделать сюрприз вам — и мистеру Торнхау, разумеется, — ответила я по возможности веселее. — Он дома? Не велеть ли Жану позвать его, чтобы я могла сообщить новости вам обоим разом? Нет… пожалуй, я сама схожу за ним. Он наверняка по обыкновению сидит за своими книгами…
— Мистера Торнхау здесь нет, — перебила меня мадам, отпуская мою руку и отводя взгляд в сторону. — Его здесь нет.
— Так он ушел? А куда? И скоро ли вернется.
— Он никогда не вернется. Я никогда больше не увижу его, кроме как в своем воображении, а сама я скоро покину бренный мир. Я умираю, дитя мое.

Воспоминания о последовавшем разговоре по сей день причиняют мне нестерпимую боль, словно вечная незаживающая рана.
Пока сумерки сгущались до темноты и дождь барабанил в окна, передо мной один за другим раскрывались секреты.
Секреты! Кончатся ли они когда-нибудь? Почему в отношениях людей, заявляющих о своей любви друг к другу, нет честности и откровенности? Столько всего утаивалось от меня, столько оставалось погребенным под спудом молчания! Почему они ничего не сказали мне? Я всецело доверяла им, а они обманывали меня. Стрела, пущенная мне прямо в грудь, а потом грубо выдернутая из моего живого тела, не причинила бы мне такой дикой, такой мучительной боли, какую испытала я, когда человек, пользовавшийся моим безоговорочным доверием и глубочайшим уважением, наконец открыл мне всю правду.
Я не стану — просто не в силах — дословно воспроизводить здесь рассказ мадам. Вместо этого позвольте мне сейчас, когда моя история близится к концу, в последний раз обратиться к краткой записи, сделанной мной в завершение того ужасного дня в Секретном дневнике — в хранилище тайных сведений, столь усердно пополнявшемся мной по наказу мадам.
Признание мадам
Maison de l'Orme, 24 мая 1877 г.Вот четыре секрета, раскрытые мне мадам в этот приснопамятный день.
1. После смерти моей матери «Эдвин Горст» (чье настоящее имя Эдвард Глайвер) покинул Maison de l'Orme и отправился в свои странствия по Востоку. Это правда.Потом пришло сообщение, что он умер в Константинополе, и гроб с его телом привезли обратно в Париж. Это ложь.Он не умер. В гробу, гниющем под гранитной плитой на кладбище Сен-Винсен, лежат лишь камни да земля. Он не умер в возрасте сорока двух лет в 1862 году, как гласит надпись на надгробье. Он до сих пор жив. Мой отец жив.Таков первый секрет.
2. Через год после мнимой смерти «Эдвина Горста» мистер Торнхау поселился в Maison de l'Orme и стал заниматься моим образованием.Тремя неделями ранее Бэзил Торнхау и вдовая мадам Делорм тайно обвенчались в деревенской церкви близ Фонтенебло. С тех пор они, скрытно от всех, жили как муж и жена.Таков второй секрет.
3. Отгадайте загадку.Пышноусый «Эдвин Горст» умер и похоронен — однако продолжал жить. Чисто выбритый Бэзил Торнхау жил и дышал — однако никогда не существовал.Ответ простой.Бэзил Торнхау являлся — является — моим отцом. Бэзил Торнхау и есть Эдвард Глайвер, убивший Феба Даунта.Дюпор — Глайвер — Глэпторн — Горст — Торнхау. Пять имен. Один живой человек. Один живой отец.Таков третий секрет.
4. Мадам полюбила моего с отца с первой встречи с ним, произошедшей многими годами ранее, когда он пылал страстью к другой — к самой близкой ее подруге. Но упомянутая подруга и мужчина, которого она любила на самом деле, поставили своей целью погубить моего отца, дабы завладеть всем, что принадлежало ему по праву.Требуются ли дальнейшие пояснения?Той подругой была мисс Эмили Картерет.Ее возлюбленным был Феб Даунт.Мадам Делорм звалась в девичестве Мари-Мадлен Буиссон.Таков четвертый секрет.
Здесь запись обрывается, но мне предстоит узнать еще несколько секретов, пусть и не столь существенных.
В ходе своего повествования мадам часто умолкала и откашливалась в льняной носовой платок. Она старалась прятать платок от моих глаз, но я ясно разглядела зловещие пятна крови на белой ткани и сразу же поняла, что они означают.
— Доктор говорит, я не доживу до листопада, — промолвила она, глядя на колеблемые ветром ветви каштана за окном, уже едва видные в сгустившейся темноте.
Я по-прежнему любила мадам, хотя она всю жизнь обманывала меня, и прогноз врача поразил меня в самое сердце.
— Ну, вы должны доказать, что он ошибался, — бодро сказала я с натужной улыбкой. — Я увезу вас… в Италию. Во Флоренцию. Вы вернетесь оттуда здоровая и счастливая и увидите, как с нашего каштана опадают листья, а потом увидите, как он снова покрывается листвой по весне, — и так еще много, много весен.
Она печально, снисходительно улыбнулась, но ничего не ответила.
Я поднялась с дивана, подошла к окну и задумчиво уставилась на продуваемый ветром сад, вспоминая золотые дни детства и маленькую Амели Веррон с бесхитростной, кристально чистой душой, свою самую близкую и самую верную подругу, как теперь казалось.
Любовь, породившая множество секретов, предала нас всех — мадам, Эмили и меня. Любовь к моему отцу превратила мадам в рабыню, готовую выполнить любую его волю. Последствия любви Эмили Картерет к Фебу Даунту (пускай она и питала нежные чувства к моему отцу) в конце концов довели ее до убийства и самоубийства. Что же до меня, я всегда безмерно любила мадам и человека, носившего имя Бэзил Торнхау, но они платили мне обманом и ложью.

Итак, ничто теперь не препятствовало мне вступить в законное наследство, но это меня не радовало. Ах, бедная я, обманутая дурочка! Я со стыдом вспоминала, как обливалась горючими слезами над воспоминаниями мистера Лазаря о моем отце, как мучительно переживала, что не знала его при жизни. Надпись на затененном гранитном надгробии говорила, что он умер. Очередное предательство. Очередная ложь. Все мое детство он находился рядом со мной, без моего ведома, по-отечески опекая меня под видом моего учителя, но не открываясь мне.
Мадам заверяла, что он любил меня. Тогда почему же он так и не сбросил маску? Почему позволил мне считать, что у меня нет отца? Разве любящий родитель способен на столь утонченную жестокость?
— У него имелись свои причины, — убеждала меня мадам, — и никакие соображения не могли повлиять на него. Он не мог бежать от своей судьбы. Она и сейчас преследует его, и спасение от нее он обретет лишь в смерти. Для твоего отца ничего не имеет значения, кроме необходимости вернуть то, что украли у него Эмили Картерет и Феб Даунт. Постоянным, неумолимым сознанием этой необходимости он руководствовался во всех своих поступках и все свои действия подчинял одной-единственной цели. Это его проклятье, и из-за него нам всем приходится страдать, как страдает он… После возвращения из добровольной ссылки, — продолжала она, — твой отец уже не мог сам достичь заветной цели, а потому направил все свои силы, всю свою волю на то, чтобы вырастить из тебя, милое дитя, достойную замену себе. Еще раз повторяю, он любит тебя — и всегда любил. Но им движет некая сила, превосходящая даже любовь.
— Куда же он уехал? — спросила я. — И почему оставил вас, когда вы больны и удручены сердцем?
— Он уехал вчера, — ответила она. — Куда — не сказал. Сказал только, что никогда не вернется.
— Но почему?
— Потому что я больше не нужна ему. Потому что он думает, что Великое Предприятие потерпело крах. И потому что она умерла.
Я ушам своим не поверила. Как он мог узнать о смерти Эмили столь скоро?
Оказывается, мой отец имел свои источники информации. От подкупленного осведомителя из сыскного отдела Лондонской полиции он узнал о характере свидетельств против Эмили и таким образом выяснил правду о рождении Персея и о сговоре, существовавшем между Эмили и лордом Тансором.
— Новость, что твой брак с Персеем Дюпором никак не послужит к достижению нашей великой цели, стала для нас страшным ударом, и твой отец на несколько дней заперся в своих комнатах, почти ничего не ел и не желал никого видеть. Он немного воспрянул духом, когда получил телеграмму с известием о смерти леди Тансор.
— Телеграмму! — изумленно воскликнула я. — Но от кого?
— У твоего отца еще со времени работы доверенным помощником покойного мистера Кристофера Тредголда осталось много связей. Он сохранил знакомства со многими людьми не самой безупречной репутации, готовыми и способными раздобыть для него любую нужную информацию. Он сам ездил инкогнито в Лондон и несколько раз в Нортгемптоншир, когда возникала такая необходимость. Тебе следует знать также, что на него работал один человек в Эвенвуде, исправно докладывавший обо всех происходящих там событиях. Он-то и прислал телеграмму.
— Скорее всего, это капитан Уиллоби, — уверенно сказала я.
— Да нет, не капитан Уиллоби, — возразила мадам, — хотя он тоже ежедневно присматривал за тобой по поручению твоего отца. Это старший лакей Джона Баррингтон, служивший под началом капитана во время Русской войны. Именно Баррингтон регулярно уведомлял нас о твоей безопасности и благополучии — а о них, поверь, мы всегда беспокоились прежде всего. Что же касается до капитана Уиллоби, его настоящее имя Уиллоби Легрис, и он самый давний и самый надежный друг твоего отца, в ком тот находил поддержку в течение всех лет своей добровольной ссылки и на кого всегда сможет положиться и впредь.
Баррингтон! Угрюмый, молчаливый Баррингтон, принесший мне ужин в мой первый вечер в Эвенвуде! Оказывается, все это время он без моего ведома охранял и опекал меня, за что я, конечно же, должна быть ему благодарна. Баррингтон постоянно находился рядом, но я ни разу не заподозрила, что он вовсе не тот человек, каким кажется и каким описан в моем Секретном дневнике. Однако теперь я поняла, что именно благодаря своему умению держаться в тени, не привлекая ничьего внимания, он оказался таким превосходным шпионом.
С немалым изумлением я узнала также, что именно Баррингтон, по наущению моего отца, устроил так, чтобы Эмили отказала от места моей предшественнице, мисс Пламптр. Подкинув к ней в комнату брошь, в краже которой обвинили горничную, он затем показал, что видел, как она выходила из господских покоев в день, когда Эмили была в Лондоне и когда, по всеобщему мнению, украшение и пропало. В ходе последовавшего обыска брошь обнаружилась, и злополучная мисс Дороти Пламптр, невзирая на упорные — и высшей степени возмущенные — заявления о своей невиновности, была немедленно отослана прочь из Эвенвуда, а мадам получила возможность устроить меня в услужение к леди Тансор.

После легкого ужина мы с мадам придвинули наши кресла поближе к камину, ибо из-за дождя и ветра к вечеру сильно похолодало.
Я хотела отложить дальнейший разговор до утра, но мадам, хотя и еле живая от усталости, настояла на том, чтобы продолжить свои признания.
Сначала она слезно попросила у меня прощения за все, что сделала из любви к моему отцу. Я ответила, что прощу тогда лишь, когда она раскроет мне все свои секреты, всю ложь.
— Да больше уже ничего существенного не осталось, — промолвила она слабым голосом. — Я рассказала тебе все, что мы скрывали от тебя. Но если мне не удалось ответить на все твои вопросы, спрашивай о чем угодно. Я не уйду из жизни, покуда не заслужу вновь твое полное доверие и твою любовь.
Я поцеловала мадам и сказала, что последнюю она никогда не потеряет. Что же касается доверия…
Она сжала мою руку с такой неожиданной силой, что я чуть не вскрикнула.
— Скажи же, умоляю, как мне заслужить твое доверие. Что еще ты хочешь узнать, милое дитя?
— Для начала — две вещи, — ответила я. — Во-первых, причастен ли мой отец к смерти мистера Родерика Шиллито?
Прямота вопроса привела мадам в легкое замешательство. Я надеялась услышать категоричный отрицательный ответ, но она сказала лишь, что в последние месяцы мой отец не посвящал ее во многие свои «личные дела».
— Он никогда ничего не обсуждал со мной и не рассказывал, чем занимался в ходе своих визитов в Лондон. Конечно, он сообщил мне о нападении на мистера Шиллито — я также прочитала о нем в одной английской газете. Но подробности мне неизвестны.
Однако по глазам мадам я видела, что она думает так же, как я: отец устроил покушение на мистера Шиллито, дабы исключить вероятность того, что он установит подлинную личность человека по имени Эдвин Горст, однажды встреченного на Мадейре.
Явно желая отвлечься от неприятных мыслей на данную тему, мадам спросила, каков мой второй вопрос.
— Он касается смерти леди Тансор, — ответила я. — Почему отец уехал, получив упомянутую телеграмму. Ведь вы оба настойчиво внушали мне, что леди Тансор непримиримый враг моих интересов и нам непременно нужно ее уничтожить. И разве вы не уверяли меня, что любовь, которую мой отец в прошлом питал к ней, превратилась в ненависть после того, что она с ним сделала?
— Эдвард никогда не переставал любить ее, — печально проговорила мадам, — даже когда притворялся, будто ненавидит, и хотя он не отказался от намерения поквитаться с ней за предательство. Но смерть Эмили не входила в наши планы. Мы хотели единственно предать ее публичному позору и осуждению, а потом восстановить наследственные права твоего отца через твой брак с Персеем Дюпором. Скажу больше: мне кажется, он даже лелеял нелепую, несбыточную надежду примириться с ней по прошествии времени, когда все останется позади. Безумная фантазия, конечно, но теперь я думаю, что все дело в этом. Я ошибочно вообразила, будто Эдвард любит меня, когда он со своей первой женой перебрался сюда с набережной Монтебелло. Он разыскал меня в Париже, проявив упорство и настойчивость, какими всегда отличался; и я по глупости своей решила, что он сделал это из давнего нежного чувства ко мне, зародившегося еще в пору нашей с Эмили дружбы… Я не смогла простить ей предательства, совершенного по отношению к Эдварду, не смогла смириться с такой низкой, умышленной жестокостью — и все ради него, самодовольного, бессовестного выскочки, недостойного дышать одним воздухом с твоим отцом… Поэтому я убедила себя, что Эдвард приехал с первой женой в Париж для того только, чтобы разыскать меня и возобновить отношения, прервавшиеся в свое время. Твоя мать тоже так решила, но он обманул нас обеих и здесь, как обманывал во всем. Твою мать он тоже не любил, хотя говорил, что любит, и всегда был добр и ласков с ней — за исключением тех дней, когда бывал не в духе, а тогда нам обеим приходилось несладко. Но и меня он не любил. Нет. Он любил одну только Эмили. И всегда будет любить только ее. А теперь она умерла.
II
Вступление в наследство
Я не могла оставить мадам одну в том состоянии телесного и душевного расстройства, в каком нашла ее, а потому, не имея причин возвращаться в Англию, покуда дела не потребуют моего присутствия, я на следующее утро написала мистеру Роксоллу, что намерена остаться в Париже и ждать от него вызова. В ответном послании мистер Роксолл заверил меня, что сейчас вплотную займется юридическими процедурами, которые — если верить профессиональному мнению нескольких известных адвокатов — можно будет успешно завершить настолько быстро, насколько позволяет система судопроизводства.
Последующие дни протекали спокойно, за разговорами о разных обстоятельствах, прежде скрывавшихся от меня. Между мной и мадам постепенно восстанавливалась прежняя близость, но вскоре стало ясно, что доктор не ошибался.
С пугающей скоростью здоровье моей опекунши пришло в окончательный упадок. Я сидела у постели больной с утра до вечера, а порой и ночами, читая или сторожа ее сон, как она делала для меня в детстве. Я расчесывала ей волосы, умывала лицо, взбивала подушки и нежно гладила исхудалые руки, когда она начинала метаться и кричать во сне. Но с каждым днем она погружалась все глубже в безмолвный, отчужденный мир, недоступный для меня и моей любящей заботы.
Лишь однажды, за несколько дней до кончины, мадам ненадолго очнулась и попросила снять с нее серебряный крестик.
— Я хочу, чтобы ты носила его, милое дитя, — прошептала она так тихо, что мне пришлось поднести ухо к ее потрескавшимся губам и попросить повторить слова. Потом, прежде чем опять погрузиться в забытье, она спросила: — Я прощена, милое дитя?
— Да, — прошептала я. — Вы прощены.

Моя опекунша скончалась в третью неделю июня, когда ласточки чертили стремительные зигзаги в безоблачном небе над Булонским лесом.
Просидев подле нее всю ночь напролет, я отошла буквально на несколько секунд, чтобы открыть окно и впустить в комнату восхитительный летний воздух. Вернувшись к постели, я сразу поняла, что мадам умерла.
В тот день моя прежняя жизнь закончилась. Я впервые осталась по-настоящему одна в мире, и впереди меня ждала новая, незнакомая жизнь.
Одна? Да. Хотя теперь я знала, что мой отец жив и я не сирота, какой всегда себя считала, я не чувствовала ни малейшей перемены в своем положении. Он был для меня так же мертв и нереален, как некогда был мифический Эдвин Горст. После смерти мадам, моей второй матери, у меня не осталось никого на всем белом свете.
Мари-Мадлен Делорм, урожденную Буиссон, похоронили на кладбище Пер-Лашез. Она завещала мне дом на авеню д’Уриш и значительную сумму денег (остаток крупного состояния, унаследованного от первого мужа и вложенного в разные предприятия, где она имела долю), а также двух своих преданных слуг, Жана Дюту и Мари Симон, которые, оказывается, с самого начала знали о ее тайном браке с моим отцом.
Она оставила мне также фотографию — портрет моего отца, снятый им самим в 1853 году.
Разумеется, я хорошо знала человека на фотографии, ведь с нее смотрел мистер Торнхау, только с пышными усами и бородой. Смуглое лицо, узкое и худое; длинные, почти до плеч, черные волосы, зачесанные назад со лба и чуть редеющие на висках; большие темные глаза, в точности такие, как описывала моя мать в своем дневнике.
Я по сей день храню фотографию и изредка — когда хочу вспомнить, что однажды у меня был отец, — достаю и гляжу на нее.

Перед тем как покинуть Францию, я пошла в полицию, и в должный срок гроб «Эдвина Горста» извлекли из могилы и выбросили. Затем я распорядилась перезахоронить гроб с останками матери на открытом, солнечном участке кладбища, подальше от раскидистых деревьев, в чьей сумрачной тени она пролежала так долго. Я также заказала новое надгробие в виде вертикальной плиты со следующей надписью на английском:
Светлой памятиМаргариты Алисы Блантайр1836–1859Памятник установлен здесь любящей дочерью в июле 1877 г.

Я провела в Париже еще месяц, а потом вернулась в Англию, но не прямиком в Эвенвуд.
Миссис Ридпат прислала мне письмо с приглашением пожить у нее на Девоншир-стрит, покуда я не улажу все юридические дела. Поблагодарив за приглашение, я вежливо, но твердо от него отказалась, ибо миссис Ридпат, хотя и желавшая мне только добра, несколько запятнала себя в моих глазах знакомством с моим отцом, с которым я решила никогда впредь не видеться, даже если он попытается наладить отношения со мной. Тогда мистер Роксолл предложил мне остановиться у него, но и это гораздо более приемлемое приглашение я отклонила.
Я устроилась в гостинице Митварта, где меня почти ежедневно навещал мистер Роксолл, но где я оставалась самой себе хозяйкой. Не скажу, чтобы я была счастлива там — я все еще горевала о смерти мадам, мучилась воспоминаниями о Персее и часто предавалась тревожным размышлениям о будущем. Однако, когда меня не одолевали тягостные и чаще всего неразрешимые сомнения, я испытывала своего рода удовольствие в ожидании дальнейших событий, исследуя оживленные улицы огромного города, столь любимого моим отцом, записывая в блокнот различные наблюдения и впечатления или задумчиво сидя на берегу широкой серой реки.

Дознание по делу о смерти леди Тансор вынесло ожидаемое заключение о самоубийстве, и после обнародования доказательств, представленных инспектором Альфредом Галли из сыскного отдела Лондонской полиции, все узнали, почему двадцать шестая баронесса Тансор утопилась в Эвенбруке.
Разразился грандиозный скандал. Премьер-министру немедленно сообщили о смерти миледи и о причинах, приведших к такому концу; а он доложил о случившемся ее величеству. По словам мистера Роксолла (сославшегося на весьма авторитетный источник), королева внимательно выслушала премьер-министра, а потом выразила облегчение, что она так и не приблизила леди Тансор ко двору, при всем своем благосклонном отношении к ней.
В английской прессе появилось великое множество статей и заметок — рассудительных, гипотетических, злорадных, обличительных или жалостливых, в соответствии с общим духом печатного органа и настроением автора. В парламенте обсуждались вопросы, связанные со скандальной историей, а в высшем обществе и друзья, и враги покойной еще много месяцев не могли говорить ни о чем другом.
За отсутствием возражений леди Тансор похоронили в эвенвудском мавзолее. Я не присутствовала на короткой погребальной церемонии, но мистер Роксолл рассказал мне о ней. По воле Персея и мистера Рандольфа собрание скорбящих было немногочисленным: они двое и еще около дюжины человек. Заупокойную службу отправлял мистер Трипп, и он в кои-то веки сумел высказаться с благородной краткостью по случаю события столь прискорбного, что даже у него при всей многоречивости не нашлось слов.

Не стану утомлять читателей подробностями юридических процедур, проводившихся под надзором мистера Роксолла, и о публичной огласке обстоятельств, связанных с рождением Персея. Судебная машина работала медленно, но верно, и мое требование признать меня законной наследницей покойного лорда Тансора наконец было удовлетворено. И вот настал день, когда я вернулась в Эвенвуд — уже не горничной и не компаньонкой, а Эсперанцей Алисой Дюпор, двадцать седьмой баронессой Тансор.
Мистер Роксолл вместе со всеми слугами и работниками встречал меня на Парадном дворе, когда карета спустилась с Горки, прогрохотала по мосту, к которому воды Эвенбрука принесли тело Эмили, и подкатила к крыльцу.
— Добро пожаловать домой, ваша светлость, — промолвил мистер Роксолл, отвешивая торжественный поклон.
— А ну-ка, сэр, — с шутливой строгостью сказала я, — чтобы я больше не слышала от вас никаких «ваших светлостей». Извольте обращаться ко мне по имени. Это первый мой приказ, и я требую, чтобы он строго выполнялся.
Затем, держась под руку и смеясь, под аплодисменты толпы мы с мистером Роксоллом вошли в огромную усадьбу Эвенвуд, чтобы испить чаю.

Одним из первых дел, сделанных мной в качестве хозяйки Эвенвуда, стало назначение мистера Монтегю Роксолла на должность библиотекаря и архивариуса. Мы с ним тесно сблизились и проводим вместе очень много времени. Я больше не чувствую себя одинокой, ибо мистер Роксолл всегда рядом — он в любую минуту готов помочь толковым советом, с любовью опекает меня, строго выговаривает мне при необходимости и всегда яростно защищает мои интересы. Теперь мой отец — он. И никакого другого мне не надо.
Что касается моего дорогого, потерянного для меня Персея, смерть любимой матери и утрата права собственности в связи со вновь вскрывшимися обстоятельствами стали для него тяжелейшим ударом. Он на несколько месяцев затворился в своем лондонском доме, никого не принимал и общался с внешним миром только через своего поверенного. В конце концов он уехал в Италию, где, похоже, намерен остаться навсегда.
Мистер Рандольф во исполнение своего обязательства вернулся из Уэльса, один, чтобы присутствовать на дознании. Этим своим поступком он вызвал всеобщее восхищение — ведь бедняге пришлось сидеть в судебном заседании, выслушивая позорный перечень преступлений своей матери и чувствуя на себе любопытные взгляды окружающих, теперь осведомленных о его браке с Джейн Пейджет, бывшей домоправительницей леди Тансор.
Мистер Рандольф не предпринял никаких попыток оспорить мое притязание на наследство, хотя мог бы. Однажды он сказал мне, что не имеет ни малейшего желания стать владельцем Эвенвуда и у меня нет оснований сомневаться в его словах; но мне хочется думать, что он воздержался от судебного спора по другой причине и что он все-таки питал ко мне теплое чувство, которое его жена не одобрила бы.

Нет нужды говорить, что мне повезло. Я знаю это и ежедневно благодарю Бога за свое нынешнее завидное положение в обществе; но я не особо довольна жизнью. Я часто впадаю в глубокую меланхолию, и почти каждую ночь меня мучают дурные сны и тяжелые воспоминания, ибо я все еще живу жизнью, созданной для меня отцом. Моим отцом, которого я когда-то считала умершим, но который и сейчас жив-живехонек — во всяком случае, я так полагаю. Моим отцом — убийцей Феба Даунта. Моим отцом, укравшим и присвоившим мою жизнь. Моим отцом — призраком во мне, моим властным и неумолимым повелителем.
Почти все вечера я провожу на приоконном диванчике, где когда-то часами сидела с Эмили, читая вслух стихи ее покойного возлюбленного, болтая с ней о разных пустяках или задумчиво глядя на сады и далекие леса за окном.
Иногда я сижу, прислонившись к старинной раме, поглощенная чтением нового романа; а порой снова размышляю (как, наверное, буду размышлять всегда) о событиях, приведших меня к моей нынешней жизни.
Я постоянно вглядываюсь в Зеркало Времени — волшебное зеркало, где зыбкие тени минувшего безмолвно проплывают перед очами памяти. Что же касается настоящего, дни приходят и уходят мирной — и да, зачастую скучной — чередой.
Но я не жалуюсь. У меня появились новые друзья, я заделалась превосходной садовницей и произвела много полезных усовершенствований в доме. Я учу итальянский и испанский; еще по примеру мистера Триппа я завела терьера — очаровательное, страшно проказливое существо по кличке Баузер, постоянно крадущее мои туфли и прогрызающее дырки в платьях. У него есть друг из семейства кошачьих, не позволяющий шалуну слишком уж забываться, — рыжий, с породистой наружностью и воинственным нравом, названный Тигром в честь кота, с которым я свела мимолетное знакомство в доме мистера Лазаря на Биллитер-стрит.
Старую гостиную Эмили я обставила книжными стеллажами, и они уже ломятся от томов прозы и поэзии на английском и французском, ежемесячно присылаемых мне. Почти каждую неделю я перечитываю дневник своей матери, перешедший в мое владение после кончины мадам. Сейчас я пуще прежнего сокрушаюсь, что Смерть лишила меня драгоценной материнской любви, заменить которую ничто не может, по моему нынешнему мнению.
Самую большую отраду я нахожу в этом огромном доме, в этом чудесном дворце изобилия. Красота Эвенвуда восхищает меня еще сильнее, чем раньше, и когда мне приходится уезжать отсюда, пусть даже в любимый Париж, мне постоянно снятся увенчанные куполами башни и окруженный аркадой дворик с фонтаном и голубятней, тихий дворик, где я сидела и мечтала в какой-то другой, бесконечно далекой жизни — и тогда я всем сердцем рвусь обратно. Днем и ночью я хожу по залам и коридорам Эвенвуда, дивясь, восторгаясь, ликуя, ибо все здесь теперь принадлежит мне.
Эвенвуд никогда мне не надоест. Даже когда превращусь в выжившую из ума немощную старуху со слезящимися глазами, я по-прежнему буду бродить по этим залам, все так же восхищаясь сказочным великолепием окружения. Наверное, и мой призрак будет делать то же самое, добровольно отказавшись от небесного блаженства, обещанного религией, дабы до скончания времен поселиться в земном раю Эвенвуда.
Порой — вопреки здравому смыслу и противно собственной воле — я тоскую по ней, моей бывшей госпоже. Она является мне в мыслях, в любое время и в любом месте, особенно когда я прогуливаюсь по Библиотечной террасе или сижу здесь, на приоконном диванчике напротив чулана, откуда я подслушивала разговоры Эмили с мистером Вайсом. Я не сожалею, что Великое Предприятие завершилось столь прискорбным и неожиданным образом — этого требовала Справедливость; но я глубоко сожалею, что именно на мою долю выпало осуществить возмездие.
Еще я изредка скучаю по увлекательным дням приключений и тайных интриг. Конечно, мне не хочется, чтобы они вернулись, ибо от них у меня осталось горькое наследие; но признаюсь, сердце мое бьется учащенно при воспоминании о временах, когда я была Эсперанцей Горст, горничной, а потом компаньонкой двадцать шестой баронессы Тансор.
Итак, я прощаюсь с вами, мои терпеливые читатели. Время, на свой непостижимый лад, и Судьба, своими неисповедимыми путями, сделали свое дело. Великое Предприятие завершено, и теперь я наконец могу убрать подальше Секретный дневник, чтобы уже никогда — надеюсь, никогда! — не раскрывать его.
Э. А. Д.Эвенвуд, 1879 г.
Назад: 36 ПОСЛЕДСТВИЯ
Дальше: 38 ПОСЛЕСЛОВИЕ Эвенвуд, декабрь 1887 г.

