Глава третья
1
Бесчисленное множество раз меняя форму, клубы пара витали над ведром горячей воды, подобно белому дыму, причудливо извивались, поднимались вверх и, растворяясь в воздухе, исчезали. Было в этой картине что-то интимно-торжественное, и снимавшего рубашку Армена опять охватила та же таинственная дрожь, которую он ощущал в родном селе, когда входил в маленькую церковь на макушке горы и погруженный в безмятежную тишину алтарь казался ему далеким-далеким, недоступным и недостижимым, хотя их и разделяли каких-нибудь три шага… Армен сложил одежду в сторонке и снова почувствовал себя малышом, над которым молча и терпеливо застыла мать с тазом горячей воды в руках. Он улыбнулся, когда сквозь прозрачную завесу пара на миг сверкнул взгляд фиолетовой девушки и он почувствовал на лице беззвучное прикосновение ее воздушных губ…
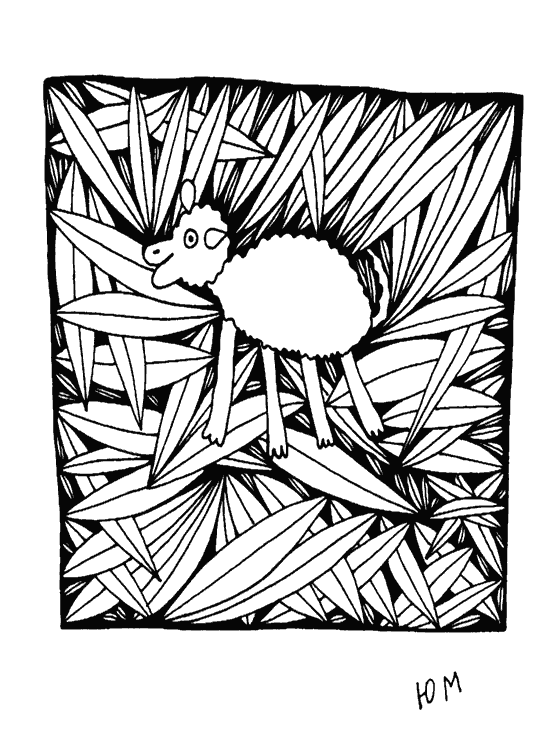
Армен энергично принялся за дело. И хотя движения его были уверенны и целеустремленны, внимание было полностью сосредоточено на встрече с фиолетовой девушкой, но, как это ни удивительно, он не мог представить ни одной подробности: всякий раз, достигая какой-то определенной точки, воображение вдруг спотыкалось и рассеивалось, и тогда со всех сторон появлялись смутные обрывки мыслей и ощущений, не имеющих с этой встречей никакой связи, а потом, словно из мрачных облачных глубин неба, снова сверкал лик фиолетовой девушки — и все начиналось сначала…
Зачерпнув кружкой горячую воду, Армен вдруг остро почувствовал текучую бесформенность воды и замер в раздумье. Показалось, что все, абсолютно все осталось позади, и он наконец обнаружил себя вот здесь, в этот день, конкретный и определенный: там, вдалеке, — сияющее солнце, что медленно клонится к закату, а здесь — он. Солнце и он. Льющиеся на голову струи плещущей занавеской полностью скрыли тело, мир отстранился и исчез, и он оказался в средоточии беспредельной замкнутости…
— Как следует понимать, что я — это я? — в недоумении прошептал Армен, разглядывая свои руки, грудь, ноги, и осознал, что не отождествляет себя со своим телом: вот руки, они существуют отдельно, грудь — сама по себе, ноги — сами по себе, и он не имеет к ним никакого отношения. Это даже не руки-ноги-грудь, а нечто безымянно-нелепое, и для него вдруг безвозвратно исчезло само понятие тела, остался только он, покачивающийся над собственным изголовьем. Мир, или то, что именуется миром, отдалился и рассеялся в глубине бесцветного тумана, и он уразумел, что это оборотная сторона жизни, где ничто не имеет смысла — ни доброе, ни злое, ни счастливое, ни горестное, ни важное, ни не важное, но все это только присутствует; и на какой-то миг перед ним мелькнуло в воздухе его собственное лицо, и он, содрогнувшись, вернулся назад — в мир…
Армен отыскал себя здесь, в узеньком пространстве между двумя гигантскими деревьями, стоящим в чем мать родила на коленях на каком-то куске фанеры, крепко сжавшим лицо ладонями, и пожалел самого себя — за то, что он человек и вынужден жить, жить без конца: день, потом другой, потом третий… Однако он тут же почувствовал, что восприятие собственного тела возвращается и кровь снова бежит по жилам. Его попросту смастерили, точно так, как он смастерил для себя домик: вот здесь ступню соединили с голенью, здесь — голень с бедром, руки прикрепили к плечам, голову аккуратно поставили на шею, на лице поместили два глаза, и все это сделано так неприхотливо, с такой примитивной хитроумностью, что он чуть не задохнулся от смеха над тем безвестным, кто якобы придумал все это — выбрал случайную, первую попавшуюся форму и назвал свою поделку непонятным именем — человек…
— Какая убогая фантазия! — упрекнул Армен этого безвестного. — Как можно было разделить людей всего лишь на два вида — мужчин и женщин? Неужели ты не мог придумать ничего лучше?.. — Армен снисходительно улыбнулся, и от мысли, что он вынужден быть одним из двух, ему стало скучно и жизнь показалась невозможной…
Армен сожалеюще покачал головой, и неожиданно его поразило ясное и недвусмысленное присутствие смерти. На миг он пережил чувство собственного небытия и понял: предназначение смерти — постоянно напоминать о жизни. Взглянул: жилка скрестилась с жилкой, мышца руки взбугрилась и поигрывала, и на натянутой коже дрожала чистая капля, в которой сиял солнечный луч, и радость, безграничная радость оттого, что он живет, что он есть — здесь, сейчас, в этом виде и обличье, — окатила его с ног до головы, и он снова почувствовал, что он — это он, молодой, сильный, нацеленный на победу…
— Ох-хо-хо! — выкрикнул он, с наслаждением выливая на голову оставшуюся воду. — Бр-р-р!.. Уф!..
2
Улица была тиха и безлюдна. Свет, точно устав от борьбы, отступал. Есть, значит, такое мгновение, когда в мире становится пусто. Где-то по ту сторону далекой степи солнце, огромное, красное, повисло над горизонтом и медлило уйти. Свет словно не имел к нему отношения, был сам по себе; слабый и нерешительный, он орошал вечернюю тишину распавшихся небес и земли. Быть может, мир и был большим, но Китак был больше, и того, чего не было видно, не существовало…
Детей не было. Они оставили свой мир и исчезли, как исчезают маленькие дождевые черви, после того как разрыхлят свой кусочек почвы. Их дело завершено. Армен разглядывал перечерченную бесчисленным множеством окружностей и линий игровую площадку, и ему казалось невероятным, что здесь когда-нибудь будет что-то построено. Горькая улыбка появилась у него на лице вместе с осознанием верности этого предчувствия. Он поспешил уйти, точно эта игровая площадка чем-то угрожала ему, но зацепился ногой за какой-то предмет черного цвета, наполовину засыпанный землей. Пригляделся: обычная человеческая маска, полая и разорванная до переносицы. Дети, видимо, наигрались ею и забыли.
Армен хотел было отбросить маску, но обратил внимание, что она чем-то похожа на него. Повертел ее в руках, но сходство только усиливалось: нос, челюсть, лоб, расположение глаз и бровей… в сердцах он порвал маску, но даже поделенная надвое она напоминала ему собственные черты. Может быть, и его лицо — такая же маска, с которой он свыкся со дня рождения и без которой себя не представляет?..
Устыдившись своего раздражения, Армен присел на корточки, соединил две половинки маски, положил их на прежнее место и стал присыпать землей. Показалось, что он хоронит самого себя. Вот земля забила ему глаза, скрыла нос и стала набиваться в рот. Вселенная погрузилась во мрак, и в мгновение ока пролетели тысячелетия. Кто-то прошел по этому месту, и нога его зацепилась за какой-то предмет. Он поднял его, оказалось, что это беззубый череп Армена. Эти безобразные кости — он сам. Вот сейчас он поставлен на какое-то определенное место: приказано жить. А вот его уже нет. Его место пусто, на этом месте его нет, есть ничто… Но невозможно, чтобы что-то было, а потом его не стало. Иначе ничего бы не существовало, в том числе и черепа. В таком случае кто же тот, что поднял его череп, отряхнул от земли и внимательно разглядывает? Единственный, кто мог бы это сделать, — он сам. Неправда, значит, времени не существует…
Армен поднялся и почувствовал, что вблизи земли светлее, чем вокруг, на высоте. Чем выше, тем темнее. Он продолжил путь, но внутри ощущал какую-то тяжесть. Что-то осталось незавершенным, что-то было не так. Если поднявший череп — он сам, значит, он никогда не умирал. Следовательно, этот череп принадлежит не ему, а кому-то другому. Но как выяснить, что это чужой череп? Значит, чужих черепов не бывает, а ему он принадлежать не может, потому что он-то жив. Стало быть, череп не принадлежит никому, это просто череп. А это означает, что смерть существует до жизни. Гм, получается так, что и самой смерти нет, она — всего лишь маска…
Армен почувствовал, что эти мысли рождаются не в нем, а входят в него извне, точно из воздуха, из сгущающихся сумерек, и что это не его, а чужие мысли, и почему-то обрадовался.
— Вы не скажете, где находится памятник Фатумину? — весело обратился он к высокой, статной женщине, вышедшей из-за деревьев и направляющейся вниз по улице. Женщина проигнорировала вопрос и прошла мимо, даже не посмотрев в сторону Армена. Для нее, этой женщины, он, конечно же, ничто. Не беда, главное он — это он. Пусть другие любят, приходят — уходят, ненавидят, убивают, радуются, горюют, рождаются, страдают, умирают, мечтают — ему-то что? Пусть делают что хотят! Будь что будет! Главное, что он свободен. Как замечательно, что он свободен! Он позволяет жизни быть и продолжаться…
С каждым мгновением Армен наполнялся странной и беспричинной гордостью. Он ничего не видел, ни о чем не размышлял, а просто шел, размахивая руками и делая большие шаги. Ему казалось, что с каждым шагом он становится громадней, мощней и что земля испуганно дрожит под его ногами и с трудом выдерживает эту тяжесть. Ему казалось, что он заполнил собой все пространство. Грудь распирала безграничная спесь, он с трудом терпел мир вокруг себя. Мелким и достойным презрения было все: небо, земля, дорога, люди, он сам, любовь, свет, терзания, мечты. Все это для него пыль, прах, ничто! Он может стать всем, чем пожелает, не моргнув глазом: героем, вором, ученым, убийцей, гением, императором, попрошайкой, борцом, сводником, картежником, рабом, изменником, бродягой, пилигримом, врачом… Но это такая малость по сравнению с его силой! Он сплошь сила — вольная, самовластная, всесокрушающая, она рвется из него наружу, готовая смести на своем пути весь мир, все человечество, время, небо, землю, и нет ничего, что способно ей противостоять. Он словно исчез, превратился в сгусток силы, которая сотрет его в порошок, погубит безвозвратно. Его сила — враг его, единственный враг. Еще мгновение — и он взлетит в воздух, исчезнет, растворится…
И неожиданно страх, безотчетный, унизительный, шкурный страх пронзил его от макушки до пяток, сильный и стремительный, как молния, и Армен остановился, хватая воздух ртом. В голове раздался глухой взрыв, и ему показалось, что он с невероятной высоты низринулся в пропасть, упал на самое дно и стал корчиться в лихорадке. Он сделал боязливый шаг вперед, но словно двигался вспять. На огромной скорости в каком-то темном коридоре он мчался в обратном направлении. В мутно-тепловатом тумане перед глазами внезапно возникла фиолетовая девушка, и это, кажется, был конец. Какую-то секунду он помедлил, а потом набросился на фиолетовую девушку и стал пожирать ее тело; он целовал ее, ненасытно целовал ее плечи, шею, волосы, рвал в клочья одежду, вонзал ногти в груди и пил багряную, горячую, хлещущую кровь… Но все это время фиолетовая девушка стояла неподвижно и лица ее не было видно. Он силился взглянуть на ее лицо, но лица не было, оно было стерто, вместо него тихо покачивалась черная непроницаемая вуаль. Он пытался схватить вуаль руками и сорвать, но не мог и только кровенил себе пальцы. Вдруг на все это упала непроглядная и неохватная тень, и облик фиолетовой девушки стал тускнеть, растворяться в сумраке и наконец сгинул…
Очнувшись, Армен увидел, что он весь в поту. Он уже достиг леса. Голова еще не прояснилась, сердце бешено стучало. Сейчас он уже походил на бесчувственное животное, что, тяжело покачиваясь, равнодушно бредет по вконец разбитой, но единственной оживленной тропе леса. Он посмотрел на высоченные деревья вокруг и понял, что неутолимая любовная страсть имеет какую-то сумрачную связь со смертью: любовь и смерть словно заключили между собой тайный союз. В действительности это то же самое, только в одних случаях называется любовью, а в других — смертью, и властвует над половиной мира под именем любви, а над другой половиной — под именем смерти. Это великая тайна, и Армену показалось, что он вот-вот постигнет тот скрытый, смутный и беспредельный мир, который молча раскинулся по ту сторону всего. Но мгновенье улетело, не оставив никакого следа, и он глубоко вздохнул: невозможно быть человеком и жить…
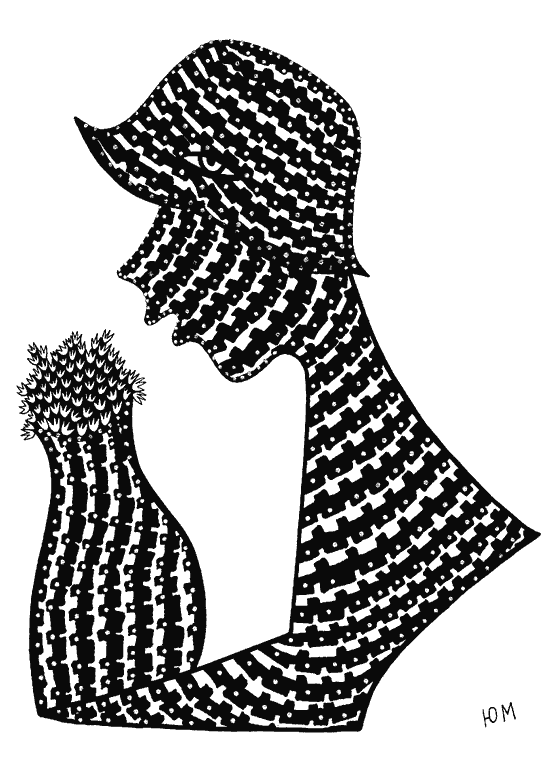
3
Петляя среди деревьев, тропа углублялась в лес, и чем дальше, тем темнее становилось вокруг. Вскоре Армен достиг небольшой развилки, где дорога раздваивалась: одна тропа вонзалась в непроходимый кустарник, другая — резко сворачивала вправо. Армен выбрал второе направление: здесь казалось намного светлее, поскольку деревья росли не так густо. Никого в пути не встретив, он спустя какое-то время оказался на опушке и остановился: перед ним открылась сухая, лишенная деревьев долина, приютившая некое убогое селение. Представить в таком месте памятник Фатумину было невозможно. Подумав, Армен решил продолжить путь и не сворачивать с тропы.
Параллельно лесу тянулись маленькие деревянные домишки с упиравшимися друг в друга крышами и кривыми изгородями, свидетельствовавшими о том, что люди здесь живут каждый сам по себе, хотя общие для всех земля и небо напоены тем же общим безучастным сумраком. Под ближайшей изгородью, положив голову на колени, одиноко сидела старая женщина. Кто она, о чем задумалась, почему сидит здесь одна — неизвестно. Ее жизнь неведома, так же, как его, Армена, жизнь неведома миру. Безвестность всех жизней, соединившись в единое целое, образует великую безвестность великой жизни. Армен прошел мимо женщины, производя довольно много шума; та продолжала сидеть тихо и неподвижно, а потом ее медленно поглотили сумерки…
Во дворе одного из стоявших в глубине домов женщина пыталась загнать корову в хлев, но та каждый раз испуганно шарахалась от двери, за которой зияла непроглядная тьма, и женщина, которая только что уговаривала и поглаживала корову по спине, тут же распалялась и набрасывалась на нее с побоями и проклятьями. Затем Армен услышал громкое шмяканье, какое бывает при падении в воду тяжелого предмета: видимо, в колодец сбросили ведро.
В ту же минуту с противоположной стороны раздались воинственные голоса непримиримого и жаркого спора между мужчиной и женщиной. Где-то грозно залаяла собака, но почти сразу жалобно взвизгнула и замолкла, и совсем рядом кто-то затянул пьяным хриплым голосом:
Я стремился к ней всей душою,
Жар любовный в груди тая,
Но смеялась она надо мною.
Ах, закончилась жизнь моя!..
Песня сопровождалась странным, не совпадающим с музыкальным ритмом постукиванием. В мелодии было что-то по-детски хрупкое и притягательное. Певец пел тягуче, резко акцентировал слова; казалось, ему доставляет особое удовольствие вот так искажать и уродовать песню, обращаясь с нею, как заблагорассудится. Это придавало исполнению, в общем, грустной по содержанию песни немного шутовской характер. Армен поискал глазами и возле забора последнего дома в уплотняющихся сумерках нашел маленького человечка: тот сидел на пеньке и самозабвенно пел, зажав под мышкой пустое ведро и барабаня пальцами по его днищу. Песня повторялась бесконечно, с каждым разом становясь все жалостней и надрывней. Армен медленно повернул голову и уже хотел идти дальше, когда точно из-под земли перед ним вырос огромный черный массив леса, и тут же пение оборвалось. Женщина в косынке яростно пыталась вырвать ведро из рук певца.
— Пришибить тебя должны были в тюрьме, как собаку, чтобы ты мне сейчас кровь не портил, — яростно выговаривала женщина. — Иди скорей, корову загони!
Свирепо размахивая отнятым ведром, она вошла во двор. Человечек, свесив голову, еще немного посидел, потом кряхтя поднялся и поплелся за женщиной, припадая на одну ногу.
Армен услышал за спиной невнятный шепот. Обернулся: на краю тропы, под тонким деревцем, стоящим особняком, примостился голый мальчуган семи-восьми лет; перед ним лежали две небольшие кучки мелких камней. Торжественным движением, что-то бормоча, он один за другим брал камешки из левой кучки и перекладывал в правую.
— Чем это ты занят? — полюбопытствовал Армен.
— Звезды считаю, — не поворачивая головы, степенно объяснил мальчуган.
— То есть как? — улыбнулся Армен.
— Очень просто.
Армен рассмеялся.
— Да ведь это обычные камни, — поддел он малыша, — а ты говоришь — звезды…
— Звезды и есть. Но они однажды не послушались своего отца и во сне свалились с неба и погасли. Если я соберу двадцать четыре звезды и покажу папе, он возьмет меня с собой…
— Куда?
Малыш не счел нужным отвечать на этот вопрос и продолжал считать и перекладывать камни.
— Куда же он тебя возьмет?
— Это мой секрет, и никто его не должен знать, кроме папы. Даже мама не знает.
— А может, ты и сам не знаешь?
— Не мешай мне, — недовольно поморщился малыш. — Если ты будешь мне мешать, я позову отца.
— Ладно, не буду. А ты не мог бы сказать, как мне найти памятник Фатумину?
— Ты идешь прямо к нему. Скоро дойдешь.
— Спасибо.
Малыш продолжал бормотать.
Перед тем как снова уйти в лес, тропа прерывалась узким деревянным мостом с перилами. Комаров становилось все больше. Остро пахнуло гнилью. В центре моста на некотором расстоянии друг от друга стояли совсем юные парень и девушка. Девушка, склонив голову, опиралась о перила, парень, держа руки на перилах, смотрел в сторону леса. Оба молчали. Во всем их облике, в их молчании было что-то искреннее и чистое. Словно некто невидимый взял их за руки, привел сюда и поставил рядом. По сравнению с ними он представлял собой жалкое зрелище: старый, уже замаранный жизнью человек. Армен не осмелился заглянуть им в лица; опустив голову и глядя себе под ноги, прошел между ними. И вдруг его передернуло: под мостом чернело густое, зловонное болото…
— Придет… — сказал Армен чуть слышно, снова ощутив под ногами твердую почву.
Не может быть, чтобы фиолетовая девушка не пришла. Сейчас она, наверное, надевает свое лучшее платье, расчесывает волосы, легким движением поправляет воротник, который чуточку топорщится, и в течение всего этого времени нетерпеливым шепотом рассказывает подруге о том, с каким замечательным парнем она познакомилась, а подруга, скрывая зависть, растерянно улыбается… В воображении Армена фиолетовая девушка все больше и больше возвышалась, снова становясь недоступно-недосягаемой; ему даже показалось неправдоподобным, что он сможет обменяться с нею хотя бы двумя словами: она прочтет все его мысли, поймет все его чувства, прежде чем он успеет подумать или почувствовать… Это привело его в отчаяние. Он даже хотел повернуть обратно, когда снова живо ощутил на своем лице легкое дыхание фиолетовой девушки и, вспомнив ее покорно-предупредительный взгляд, с новой энергией устремился вперед.
4
Когда Армен снова вошел в лес, ощущение у него было такое, что он попал в царство мрака. Полчища призраков вокруг незримо покачивали головами и беззвучно говорили о нем. Летучая мышь стремительно промчалась над ним, и это тоже не было случайностью. Он — заблудившийся мальчик, которого преследуют злые духи. В любую минуту с ним что-то может случиться. Вон тот куст, прикрывшийся широким черным плащом кроны дерева, может вдруг вскочить и наброситься на него. Встретить бы какого-нибудь прохожего, на худой конец — бродячего пса… Но вот и знакомая тропинка. Армен глубоко вздохнул: он не хозяин самому себе…

Тропа постепенно расширялась, все чаще встречались пни и высохшие, одиноко лежащие в стороне выкорчеванные деревья и кусты. Впереди уже можно было разглядеть кроны на бледном фоне неба — значит, лес скоро кончится. Армен вышел на довольно обширную круглую поляну, в центре которой виднелось темное пятно, время от времени издававшее чавкающие звуки. То была корова — подняв голову, она безмятежно жевала, а хозяин, наверное, с ног сбился, ища ее в совершенно другом месте. Армен хотел позвать корову, но передумал: здесь хозяин может найти ее скорее.
Поднялся сильный ветер, и лес сразу же наполнился шорохом листьев, который словно подхватил и унес куда-то все, что только что пережил Армен. Деревья качались из стороны в сторону, вызывая вихревое круговращение теней, света и снова теней. Особенно сильно, точно охваченное лихорадкой, тряслось одно из ближних деревьев: наклонялось, сгибалось, выпрямлялось, убегало, отступало, сопротивлялось, нападало, молчало, кричало…
Вот наконец показалась дорога, стремительно уводящая в неизвестность. Самодовольная, спесивая дорога, которая одним своим существованием хочет внушить мысль о том, что, кроме нее, все остальное мелко, ничтожно и недостойно ничего, кроме презрения. Фонари по обеим сторонам покорно стояли на страже, и ветер баюкал ее одиночество. Армен вдруг похолодел и застыл на месте: в качающемся мутно-желтом свете на дороге лежал человек, он бился в конвульсиях, то вздымая руку, то в бессилии роняя ее снова. «Убили!..» — эта мысль вспыхнула в голове Армена, вызвав противоречивые, странные чувства, сменявшие друг друга с ураганной скоростью. На смену первоначальному парализующему страху пришло смутное предчувствие того, что убийство непосредственно связано с ним и, если он вмешается, это может стоить ему жизни. В следующий миг он уже представил, как его хватают, скручивают, уводят, подозревают, допрашивают, бьют, пытают, заставляя сознаться; затем — как он медленно опускается в густой, похожей на болотную жижу воде на самое дно и, слившись с илом, исчезает из этого мира… Однако все это было сдобрено отчаянным стыдом, самоистязанием и мрачным, безучастным удовольствием, отблеск которого на мгновение, кажется, даже мелькнул перед ним. Но и мысль, и душа не поспели за инстинктом: он очнулся в тот момент, когда, спотыкаясь и обрывая руками траву, бежал вверх по склону. На краю дороги остановился и затаил дыхание. Потом сорвался с места и рванулся вперед. Лежавший на дороге человек оказался разорванной картонной коробкой, вытянувшейся в длину и делавшей под порывами ветра судорожные движения: то сгибаясь, то разгибаясь. Армен растерянно замер: к радости оттого, что он спасен, что спасен и умиравший, подмешивалось странное тайное разочарование. Казалось, в тот миг кого-то все-таки убили…
5
Дом окружала чернота леса. Величественные колонны и весь его мрачноватый облик говорили о том, что это чрезвычайно важное учреждение. В мутно-красном свете он напоминал дикого быка гигантских размеров, который проделал долгий путь и, почувствовав усталость, свернул в лес, вытоптал соответствующую своим габаритам площадку и теперь отдыхает, тяжело опустившись на землю и не спуская угрюмо-настороженного взгляда с дороги. Казалось, он вот-вот встанет, шумно фыркая и топоча, чтобы продолжить свой путь в кромешной ночи…
Вдали показался памятник Фатумину. Лучи противостоящих прожекторов скрещивались за его спиной точно огненные мечи. Он победно стоял на высоком пьедестале; лицо в тени, за спиной — яркий свет. Выложенная брусчаткой прилегающая площадь была безлюдна. Там, где Армен надеялся увидеть фиолетовую девушку, никого не было, и эта пустота глубоко уязвила его.
— Обманула… — пробормотал он и тяжело вздохнул — вечно все у него наспех и наполовину: наполовину — дела, наполовину — любовь, только мытарства даны ему в полной мере. Но нет, наверняка есть такое место, где жизнь полноценна, прекрасна, безбедна.
Но эта жизнь закрыта, спрятана от него. Чувство бессилия сменилось жалостью к себе, и он сник.
Медленно подойдя к памятнику, Армен остановился, огляделся, и его обида неожиданно прошла. Он почувствовал, что явился вовремя и встреча состоялась. С кем или с чем — сказать не мог, но сама встреча состоялась. Может быть, фиолетовая девушка незримо стоит рядом, а он ее не замечает? А может быть, ее вообще не существует?.. В сердце закралось сомнение: показалось, что он в самом деле никогда ее не встречал и вся эта история — только плод его воображения, он придумал девушку, чтобы скрасить свое нестерпимое одиночество…
Армен запутался. Скользнул взглядом по памятнику и позавидовал Фатумину: он завершил свою жизнь, не ведая никаких сомнений, стал памятником и вот глубокомысленно молчит на своем пьедестале. Интересно, кем он был? Армен поискал и нашел с правой стороны специально высвеченную фонарем большую мраморную плиту, на которой крупными, покрытыми позолотой буквами была высечена история жизни этого человека.
Вначале было написано, что он, как и другие обычные люди, в детстве был нормальным ребенком: любовался цветами, слушал трели птиц, любил животных и насекомых. Однако уже к двенадцати годам он стал проявлять недюжинные способности, поражая свое окружение исключительным знанием всемирной истории. В тридцать лет это был уже блестящий молодой человек, глубоко изучивший пороки современного мира. Видя царящую вокруг несправедливость и то, как страдают его близкие в тисках деспотического режима, он решил посвятить жизнь спасению человечества. С этой целью он сплотил вокруг себя больше десятка верных соратников и бросился в самое пекло борьбы, однако по доносу одного из предавших его боевых друзей на стадии добычи финансовых средств для святого дела был пойман на изготовлении фальшивых денег и брошен в темницу. Но даже тяжкие условия заточения оказались не в силах поколебать его несгибаемую волю. Здесь он сумел организовать подпольный ударный отряд и, сбежав из тюрьмы, поднял мятеж против ненавистной власти и сурово расквитался со своими противниками. Вскоре он стал любимым вождем всех нищих и обездоленных, и одного его имени было достаточно, чтобы поднять массы на борьбу. Слава его витает над миром, он — символ спасения и справедливого возмездия, свидетельство непобедимости его любимого народа, провозвестник рождения новой, свободной и справедливой жизни. От мечтательного подростка-провинциала до легендарного героя и богоданного вождя — таков пройденный им большой и славный путь. А в самой нижней части плиты отдельной строкой было написано, что в тридцатитрехлетнем возрасте он стал жертвой коварного вражеского заговора, однако его светлые дела бессмертны, чему яркое подтверждение — сегодняшний цветущий мир и этот памятник.
— До чего же глупый человек! — разгибая спину, с удивлением сказал Армен. От долгого чтения в полумраке у него заболели глаза, и он пожалел, что понапрасну напрягал зрение. Он огляделся: стемнело настолько, что и памятник, и величественные колонны здания, и безукоризненно ровная брусчатка площади, и тщательно ухоженные клумбы были уже почти неразличимы: поглощаемые сумраком, они превратились в сплошную ночную темень, которая, плавно опускаясь с высоты, накрывала землю непроницаемой завесой. Фиолетовая девушка так и не пришла…
6
Армен пересек шоссе и хотел вернуться той же дорогой, но в лесу было слишком темно, в двух шагах ничего не было видно, и ему пришлось выбрать обходную тропу, тянувшуюся параллельно шоссе. Вокруг было спокойно и тихо, спокойно было и на душе у Армена. Сумрак, деревья, тропинка невольно настраивали на неторопливые, безмятежные раздумья. Армен шел, погруженный в мысли, и уже одно то, что он может свободно размышлять о чем угодно, доставляло ему радость и умиротворение. Удивительно, что в жизни даже самые незначительные вещи даются человеку с изнуряющими душу трудностями. А что было бы, если бы все, что происходит, происходило легко: играючи, а не мучительно, сразу и моментально, а не изматывающе долго?.. Армен попытался представить себе этот моментальный мир и ужаснулся: в таком случае все бы перемешалось, вышло из колеи, погибло. И не было бы даже этой сумбурно-половинчатой жизни. И его тоже не было бы. Ничего бы не было. Все бы остановилось, окаменело, исчезло. Даже и не исчезло, поскольку никогда бы не возникло. Да… значит, все сводится к самому себе и только благодаря этому существует, есть, движется. Все правильно. Все, что происходит, — правильно. Человек ограничен жизнью, иначе говоря, поставлен в такие рамки, чтобы жить было возможно. Следовательно, и жизнь ограничена человеком…
— Вот хотя бы мной!.. — громко произнес Армен, и это открытие привело его в ликование.
В одно мгновение он понял всю важность собственной жизни для всего человечества, всей земли и был взволнован до такой степени, что в темноте глаза у него увлажнились. Он вытер их ладонью и над деревьями, над мраком увидел небо — большое, бездонное, усеянное звездами небо. По детской привычке он с минуту, задрав голову и не мигая, смотрел на эту таинственную беспредельность, и спокойствие звезд вливалось в него, обволакивало его мысли и звало туда — в небытие.
Армена охватила тоска по другому миру, который, кажется, исподволь мягко склонял его к небытию, говоря, что не быть лучше, чем быть, потому что быть — это неминуемая смерть, а не быть означает бессмертие. Армен отвел глаза и в страхе почувствовал, что он — на дне, на дне чего-то темного, мрачного, где ему предназначено отбывать наказание — бесцельно скитаться, бессмысленно мытарствовать и до смерти, до могилы нести в себе бремя воспоминания о чем-то неведомом. Может, все уже решено, может, эта жизнь, что кажется вечной, — всего лишь утомительно долго длящееся мгновение и давным-давно стерлось из памяти того, мгновение жизни которого измеряется вечностью…
И Армен почувствовал себя таким бессильным и незащищенным, что пришел в отчаяние и, уставившись себе под ноги, побрел по темной тропе. Внезапно ему вспомнилось детство, вернее, один эпизод, один вечер, когда теленок, которого ему доверили пасти, куда-то удрал по его невнимательности и он, плача, метался в густых сумерках, искал его то в ущелье, то на скалистом речном берегу, а в это самое время теленок как ни в чем не бывало дремал в своем коровнике…
Впереди в гуще деревьев раздался шум и треск сучьев, и от черноты леса отделилось большое пятно, вскоре оказавшееся на дороге. Корова. По всей вероятности, это была та самая корова, которую он встретил на поляне. Она спокойно поднялась по склону и спустя какое-то время задумчиво и уверенно шагала по трассе: значит, точно знала, куда идти. Следом за нею появился невысокого роста человек с большой вязанкой хвороста на спине. Согнувшись чуть не до земли, он следовал за коровой, иногда останавливаясь и оглядывая окрестности из-под поклажи, а потом снова, как бы наверстывая, торопился вперед. У поворота оба они — человек и животное — перешли дорогу и на той стороне скрылись из глаз.
За спиной Армена послышались шаги, а затем горькие всхлипывания. Какая-то женщина в платье с короткими рукавами быстро приближалась в мутном сумраке дороги, то и дело вытирая нос. Она как-то криво и неловко ставила ноги при ходьбе, руки у нее были большие и грубые, лицо жалобно сморщилось, из глаз лились слезы, а волосы беспорядочно разметались по плечам. Не глядя по сторонам, ничего вокруг не замечая, она стремительно прошла мимо и, с каждым мгновением становясь все меньше, превратилась в почти неразличимую точку на шоссе, а потом и вовсе пропала, однако ее горестные всхлипывания еще долго не смолкали в ушах Армена…
Он пришел в негодование, темная волна обиды накрыла его с головой. Точно оскорбленный в лучших чувствах, он стал брюзжать, попрекая жизнь тем, что ее невозможно удержать на привязи, она вечно убегает и скрывается в неизвестном направлении.
— Вначале вроде бывает светло, — презрительно-удивленно сказал он в полный голос, — потом — вроде бы темно… Днем мучаются, а когда приходит ночь, ложатся спать… Какая нелепость!
Голова была точно в жару. Мысли роились наподобие мошкары, мешая друг другу и стремясь как можно скорее выйти на свет божий, однако Армен чувствовал: то, что он думает, отличается от того, что он понимает, мысль обманывает его. В тот миг, когда чувства готовы превратиться в мысль, они непостижимым образом преобразуются и выливаются в совершенно другие слова, а истинный смысл ускользает, прячется в непроницаемой темноте. У Армена было ощущение, что он обеими ногами увяз в болотной жиже, а в мыслях продолжает шагать…
Он свернул влево и попал на ухабистую улицу. Остро почувствовал, что возвращается ни с чем, с пустыми руками. Вот и еще один зря прожитый день. Но что с ним сталось, с этим прожитым днем? Исчез ли он безвозвратно, смешался ли с неведомым количеством таких же дней?
И Армен представил место, скажем, на дне моря, куда опускаются все прожитые человечеством дни. Там уже скопились миллиарды человеческих жизней. Но к чему, для кого, какая от этого польза? Никакой. Точно так же, как для этой земли не имеет никакого значения, кто ходит по ее поверхности и вообще ходит ли кто-то. И почему это так? Дано для жизни? Составляет часть жизни? Пусть вся жизнь будет такой — изменит ли это хоть что-то? Ничего не изменит. Оттого, что человек живет, ничего не меняется. Да и для него самого ничего не меняется, оттого что он живет. Или… не живет. Вот он сейчас проходит по улице, но от этого жизнь людей в этих домах, выстроившихся вдоль дороги, не меняется. Или же наоборот…
— Наоборот! — вслух повторил Армен, — именно на-оборот!..
От его голоса мысли улетучились, как призраки, и он с опасением почувствовал, что в глубине, в самых потаенных складках жизни и души властвует великое равнодушие, создающее этот многоликий мир людей и вещей, и, разбрызгавшись, как свет, молчит во всем, что было, есть и будет, и, распределенное на удивление равномерно, не становится ни больше, ни меньше, а просто есть — нерушимо, неизменно, во веки веков.
И переживаемое им в данную минуту — то же, что он пережил задолго до своего рождения и будет переживать после смерти. И показалось, что он родился снова: он и есть этот свет-равнодушие. Но вдруг нога его больно ударилась обо что-то твердое и темное. Очнувшись, он почувствовал под ногами землю и поразился тому, что все еще находится в этом мире и все еще шагает…
И сразу внутри у него все опустело. Он ничего не чувствовал и ни о чем не думал, точно от него осталась только оболочка. В ноздри ему ударил какой-то запах, кажется, он и есть запах этого мира. И этот запах ему хорошо знаком. Он тут же принюхался к собственному телу. Капелька пота скатилась с затылка и побежала вниз по спине, и Армену показалось, что его запахом пропитан весь мир.
На какое-то мгновение он испытал жгучее желание убить себя, испепелить, уничтожить, чтобы избавиться от этого запаха, когда внезапно узнал его, и сердце в нем дрогнуло: это был запах матери. Окутанный им, он засыпал в материнских объятьях в их старом каменном доме с неоштукатуренными стенами и испуганно прислушивался к вою ветра, который нависал над кручами, бил на вершинах в свой адский барабан, и эхо этого грома отзывалось у него в висках, проникало в кости, и он прижимался, без конца прижимался к маме…
И вдруг сердце дрогнуло у него в груди, и жажда, неутолимая жажда любви хлынула из него и затопила весь мир, его охватило жгучее желание прижаться к земле и целовать ее, целовать ненасытно…
— Благодарю, — прошептал он, — благодарю… Потом он вытер слезы и понял, что его существование оправдано.
Назад: Глава вторая
Дальше: ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

