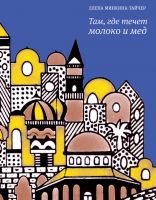Вместо послесловия
Помню, что хотел забрать кружку. Но парень, новенький, взял именно мою и уже пил чай, болтая с медсестрами. Меня не замечали, со мной распрощались — а я почему-то замер и стоял, будто выпав из времени, пока не осознал: она, эта кружка, больше не нужна мне, хоть это единственное, что было моим — что можно подарить, забыть, потерять, оставить. Может быть, кто-то потом считал ее своей… Почему-то я думал об этом.
Первый раз и я вышел на подмену: в скоропомощной стоматологии напился майор из академии, который выходил там в ночные. Пьяный майор беспробудно спал прямо на посту… Так я принял свое первое дежурство. Зубные врачихи, пожалев, налили мне спирта. Для храбрости. Но в ту ночь не случилось ничего особенного, как я потом понимал. В зале обнаружили бомжа: спал и обмочился, выдав себя, хотя одет был прилично. Один человек сидел в очереди — и у него вдруг начался эпилептический припадок, которых я никогда не видел и впал в ступор, подумав, что он у меня на глазах умирает. А под утро заявился пьяный парень в джинсовой куртке, вытащил из-за пояса пистолет и страдающе попросил, чтобы я подержал у себя, пока он сходит к врачу… Я не стал возражать и даже не задавал вопросов. Это был боевой пистолет Макарова. Вернул его, когда страдалец очень быстро освободился: напуганный, скисший. Сказав, что передумал… Боялся боли, не верил в наркоз… «Какой наркоз, бутылку водки выпил — а он, сука, болит!» Когда человек с пистолетом за поясом скрылся, от меня отхлынула мучительная тяжесть, которой все это время наливался, как свинцом, — и стало так легко, будто бы это пролетел мимо и скрылся пьяный шальной ангел смерти. За спиной храпел майор. Но я его не будил. В семь утра я сдал дежурство его сменщику — и расписался, что за мое происшествий не было.
Я начал записывать: сценки, фразочки. От впечатлений. Потом это стало единственным способом вырвать себя из отупляющего их потока, когда приходил домой с дежурств. Казалось, слышу, вижу, чувствую, — и не существую. И когда пишу — помню не себя, а чьи-то лица и голоса. Поэтому не ставил никаких дат, не было смысла. Только если год проходил — это что-то значило. 1994… 1995… 1996… 1997… Сколько людей осталось в этих записях, я не могу осознать — а были их тысячи. Приемное отделение обыкновенной городской больницы. Вроде бы одно и то же. Подъехала «скорая» — и кто-то еще поступил. Не было дня, чтобы на моих глазах кто-то не умирал. Но ко всему привыкали. Дежурили сутками, чтобы получать больше, набирая смен, кто сколько может.
То ли служба, то ли работа, — охрана.
Развал, распад — но завелась всюду.
Свобода, объявленная как банкротство, — но плодятся охраняемые зоны на каждом шагу. Детские сады. Больницы. Школы. Магазины. Самое мирное и гражданское почему-то. Еще только церкви не охраняли, но появятся когда-то даже в церквях и прощупывающие до карманов арки металлоискателей — и охрана. Сторож — тот, что как бы внушал: спите, граждане, мирно, пока я не сплю, — уступил мобилизованному по-армейски человеку. И уже не поколение каких-то сторожей — а половина мужского населения, опрокинутая в бедность, добровольно переоделась в камуфляж. И не сторожили — охраняли маленькие зоны одетые в камуфляжную форму парнишки и мужички. Только она защищала, ну и кормила. Служили кому-то, как бы даже с преданностью. Старались, пугали собой — и сами же боялись. Но больше всего — потерять эту работу, потому что другой не было.
Я помню одного такого — как он меня поразил, — он охранял Союз писателей, что на Поварской. Там тоже завели свою охрану. Я пришел зачем-то, но меня не пропускали в здание без членского билета. Пожилой дядька закрывал собой проем двери, а рукой схватился первым за массивную дверную ручку — и вооружившись, и обезоружив, — так что я вдруг увидел вылезшие из-под рукава его камуфляжа будто бы снятые с кого-то, как у мародера, жалкие женские часики.
Время, почему же оно совсем не остановилось?
Все хотели стать честнее — но обманули самих себя.
Что меня сейчас поражает: я не помню хотя бы растерянности на лицах взрослых людей — родителей или школьных учителей. Помню, что все читают «Дети Арбата» — и на лицах жадный безвольный интерес. А мне не интересно, моя юность счастливая. Что точно: всё решили за нас и без нас, последних, а быть может, единственных, кто все это любил — пусть бессмысленно, но как свою жизнь. Вот я сижу в опрятном профессорском доме, в тихом французском городке — и пытаюсь объясниться с очень уверенным в том, что являлось смыслом его жизни, деятелем эмиграции… Он видел Бунина и Цветаеву. Он вежлив со мной как с гостем — но смотрит с презрением. Ну да, я ведь плачусь по ненавистной ему стране. Мне не по себе — но потому, что я впервые защищаю ее — да, да! Выкормыш… Вдруг я почувствовал, что если смолчу — это будет подлостью. Я предам очень многое. Я столько давал клятв и присягал — но предал. Никто не заставлял ни клясться, ни предавать.
Странно, именно тогда нас призвали… Уже пролилась кровь. Тбилиси, Фергана, Баку… И это мы — армия. Это мы должны защищать. Но я помню себя и тех, с кем служил, одногодков: мы даже радовались — вот и нам что-то перепасть может интересное, рисковое, о чем можно будет потом рассказать. Это в Афган было страшно, но войска вывели — и стало не страшно куда-нибудь попасть. Огромную страну слепо считали своей — а это чувство, оказалось, ничего не скрепляло. Мы вернулись домой, рассказывая друг другу дурацкие армейские байки, — и ничего не понимали, ничего не почувствовали. Все случилось без нас, мы тут были ни при чем… Но армия внушила отвращение к полуживому государству: беспомощному и равнодушному.
Я помню начало. Нас, свеженьких, заперли в армейском клубе — а ночью в темноте грабили. И меня там первый раз в жизни избили — били как собаку несколько человек, потому что не отдавал свои вещи. Вот что потрясло: я думал, что я сильный и могу себя защитить. Но все, что думал о себе, — все это разлетелось в одну ночь вдребезги. Ночами в казарме нас поднимали по команде и делали одно и то же: били. Просто так. Или устраивали гладиаторские бои, и мы тогда сами парами дрались друг с другом, пока кто-то не падал — и его уже в наказание добивали сержанты. Я выбил такому же, как сам, зубы — почти в полубезумии. Было страшно, что я это мог сделать. Что я — животное. Боялся увидеть потом, то есть узнать, но увидел, опознал: он улыбался беззубым ртом. Улыбался. И ни слова мне не сказал — но не потому, что боялся, — нет, уже не было страшно, ночь-то прошла. Тогда я вдруг понял: ни я, ни он — мы ни в чем не виноваты. Но мы в эту ночь продержались, то есть выжили еще одну ночь. Я описываю ужасы? Возможно. Да, конечно, ужасы. Но кто так к этому относился — ему оставалось только повеситься. Вешались. На плацу почти каждое утро командир орал перед строем: «Повесился — ну и х… с ним, отправим к мамочке!» «Вешайся!» — это же кричат тебе каждую ночь. Что тебя не пожалеют — это было понятно. А постигать законы выживания поэтому — в чем-то даже легко. Главное, ты должен верить. То есть снова поверить в себя, в свои силы, в то, что жизнь имеет смысл. Вера — это ожидание. Самая истинная. Если веришь — терпишь, ждешь.
Мое самое чудесное воспоминание — психушка. Вроде бы тюрьма. Там не лечили — там усмиряли. Кололи периодически аминазин. Когда доза большая, несколько дней ты — животное. Говорить даже не можешь, только мычишь. Так наказывали — а наказанный обычно даже не понимал, за что. Просто что-то не понравилось в твоем поведении. Понять не могу, почему так хорошо было среди этих людей. Мы в одной палате… Убийца, стройбатовец: его мордовал офицер, а он схватил монтировку — и проломил командирскую голову. Он знал, что у него неделя от силы: потом признают вменяемым — и суд, зона. Неделя свободы, свободной жизни — и это тут, где уже-то кругом решетки. Огромный чеченец… Старший сержант, он покалечил половину своего взвода, перебил голыми руками за что-то. И вот сидел на койке, скрестив ноги, будто бы на престоле, умиротворенный, как эта поза. Чудовищно сильный человек, которому сила его и внушала такой покой. Но даже не пытался ее кому-то показать — ждал тоже суда, дисбата. При этом он нежно любил дохляка-первогодку — единственного среди нас, кто притворялся душевнобольным и только по ночам, отыграв свою роль, возвращал себе себя самого. И все мы его жалели, потому что он единственный мучился. Врачи знали, что он симулирует помешательство. Он уже резал себе вены, так хотел спастись, — но ему надо было доказать, что он душевнобольной — а ему не верили, он и сам в это, конечно, не верил.
Я не понимал ясно, почему оказался в этом месте. Я ходил в караулы, мне каждый день выдавали оружие: рота охраняла исправительно-трудовую колонию. Но у меня нашли блокнот — а в нем рисунки, стишки. Там было что-то про смерть и многое, очень странное: о чем я думал лет с четырнадцати, начитавшись книжек. Меня посчитали не больным, наверное, — опасным. Доставили в полковой лазарет — и еще долго там держали, потому что из роты не приходила комсомольская характеристика, без которой почему-то не могли отправить даже на психиатрический осмотр. Без курева и без копейки денег — мертвая душа — я перелезал через забор и попрошайничал у гражданских за пределами воинской части. Мне до смерти хотелось курить, только и всего. В таком виде, за этим занятием и попался на глаза командиру полка. Он побежал за мной — а я от него. Мы бегали по Караганде. Наконец, он меня догнал, поймал, приволок за шиворот в часть — и когда выяснилось, куда я жду отправки, батяня заорал благим матом: «Увозите — и чтобы я этого мудака больше в полку не видел!»
В психушке мне вернули блокнот. Со мной беседовали о его содержании. Но я искренне не понимал, почему мне, человеку, нельзя думать о смерти… Меня спрашивал доверительно врач: так вы думаете о смерти? Да, конечно, отвечал я очень охотно. То есть вы все время думаете о смерти? Ну, что она есть, отвечал я как бы приблизительно, потому что чувствовал себя именно в этот момент слабым умом. Вы думаете о своей смерти? Я честно отвечал: ну и о ней, конечно. Так вы хотите покончить с собой? Но я отвечал: никак нет! Решив, что это может быть доказательством моей невиновности, почитал стихи Есенина, Маяковского… О том же. На физиономии врача изобразилось пугливое недоумение. Ну да, идиот. Ведь я же декламировал стихотворения самоубийц. Но я действительно не собирался никаким способом себя убивать. Честное слово. Я был живучий, обо мне не всё знали… Не знали, например, что я еще из роты тайно послал письмишко в газету «Дзержинец», подшивка которой всегда лежала на почетном месте в ротной библиотеке, — с лирическим рассказом о себе и подходящими, как подумал, стишатами про воинские будни, которые сочинились по такому случаю чуть ли не за несколько минут, с главной просьбой: забрать меня в газету. В общем, хотелось мне тихо смыться и служить хотя бы где-то в городе, а не в степи. Почему-то мне казалось это хорошим планом — и я верил в него. Так вот, мое письмо дошло — и в редакции газеты «Дзержинец» опубликовали в это же время мои бравые стишата. Майор, который попал из газеты в наш полк по заданию редакции, спросил заодно и обо мне… Ему доложили, где я нахожусь, но это его нисколько не смутило: он нашел меня, передав газету с публикацией — и задание редакции писать еще. Мне выдали с его разрешения ручку, бумагу. Я был счастлив. И вот я писал — там — посвятив себя, в общем, только этому занятию, воображая, что сочиняю одну за одной свои охранные грамоты. Так на страницах газеты «Дзержинец» появился мой очерк «На стрельбище» и новая подборка стихов «Мы чекисты, мы стоим на страже…». Когда я читал это в палате — в ней воцарялась онемевшая от уважения и гордости за меня тишина: Родина, мы все твои сыны, знай, что до последней капли крови будем делу твоему верны — Партии и Ленинскому строю! Номера со своими публикациями я получил — но в Москве, обнаружив в почтовом ящике казенный армейский конверт с особым посланием внутри, озаглавленном размашисто: «Тебе, военкор!». Меня уже вполне заслуженно, наверное, комиссовали с диагнозом, в котором теперь помню только одно слово: «психоз». А в послании, доставленном в Москву из далекого Туркестанского военного округа, сообщалось, что редакция благодарит меня за творческий труд и предлагает осмыслить новую тему: проблему неуставных отношений в моем отдельно взятом армейском подразделении.
Верхом милосердия — когда заключенных выводили под конвоем на работы, когда оказывались как бы на воле — было что-то им позволить. Развести костерок — и почифирить. Купить для них в ларьке конфет. Дать перекурить, когда передавали по кругу сигаретку свободными руками, — и не наставлять в упор автомат. И что они тоже люди — это заставляли понимать солдат даже офицеры… Кем и где ты сам окажешься, парень?
Почему я решил опубликовать дневник, и что он значит для меня спустя четырнадцать лет? Когда-то думал, что это мои «Записки из мертвого дома». Но написал всего один рассказ, несколько очерков и опубликовал небольшой отрывок уже в конце девяностых собственно из дневника. Я хотел быть честным. Со временем понимаешь, что точность — это и есть честность. Сама жизнь точна в мельчайших деталях, стало быть, если что-то не обладает ее же точностью, оно безжизненно, фальшиво. Так что я не мог бы написать ничего точнее, сделав его просто сырьем. Другое — это что дневник указывал на реальных людей и реальные события. Я не задумывался, что от моих слов зависит чья-то жизнь, но получалось так — и даже по факту публикации рассказа «Конец века» Московской прокуратурой было открыто уголовное дело, которое закрыли, когда получили расписку, что опубликованное является моим художественным вымыслом.
Я убежден, что литература нужна как правда. Опубликованное я действительно понимал как свидетельство — но о том, что виделось мне общей жизнью, народной, и о времени. Правда фактов за сроком давности лишается своего смысла. Но если лишь человек может быть источником правды, то, передав его состояние в конкретных обстоятельствах, мы и узнаем настоящую, подлинную правду.
Для этого — и только для этого — писатель обязан быть реалистом. Но можно сколько угодно болтать о реальностях и каких-то реализмах — ничего не увидев и не пережив. То есть я хочу сказать, что реальность дает себя почувствовать и понять не во всех обстоятельствах. Есть лишь точки соприкосновения с ней, и все эти точки — болевые.
Я не считаю свою биографию богатой яркими событиями. Впервые так открыто пишу о самом себе. Кое-как окончил среднюю школу, кое-как отслужил в армии — в общем, не служил, а валялся по госпиталям. Поступил со второй попытки в институт. Литературный. В этом сочетании букв представлялся тогда красивый корабль под парусами. Это было самое счастливое время. В институте я встретил и свою жену Лилю. Я отучился на заочном в семинаре прозы Николая Семеновича Евдокимова. Он — один из моих учителей, а в литературе — единственный. Молодые несут в себе естественное бескультурье, пока не наследуют то, что передается стариками: знание, понимание, опыт. Евдокимов был для всех нас таким стариком — но из ребят, с которыми я учился, не все живы. И в школе, с кем учился: каждый год звонили и говорили, что кто-то умер. У меня было четверо близких друзей — двоих уже тоже нет в живых. В девяностых я только хоронил. Поэтому время для меня в какой-то момент все-таки остановилось — а то, которое продолжалось, стало пустым, чужим.
Моей дипломной институтской работой и литературным дебютом стала повесть «Казенная сказка», опубликованная в 1994 году в «Новом мире». Но, получив гонорар, я вышел из редакции, потрясенно не понимая, как могу дальше жить: оказалось, я не умею делать хоть что-то, чем можно заработать на жизнь… Однажды возвращался домой и увидел, как во сне: на тротуаре валяется труп бездомного — а люди его обходят. Когда-то мы читали о нищих только в книжках, — но таких картин нельзя было вычитать даже в достоевских кошмарах. Мой город, моя улица, — и этот сон.
Но проснуться было уже невозможно — это сменилась эпоха.
И надо было жить — то есть выживать.
Больница — куда идут с болью, то есть за избавлением от нее, конечно. Ждут сострадания. Но порой казалось, что люди обречены страдать. Такое наказание. За все. Боль — и больше ничего. А это был больничный режим. И всегда же он и был, наверное, такой: строгий.
Назад: Начато с января 1997
На главную: Предисловие