Книга: Всегда возвращаясь домой
Назад: По поводу археологии будущего
Дальше: Несколько устных преданий
Часть I
Говорящий камень
Говорящий Камень – это мое последнее имя. Я его получила по собственному выбору, потому что мне непременно нужно было рассказать о том, где я побывала в молодости; теперь-то я нигде не бываю, а просто сижу, неподвижная как камень, у нашего дома, в Долине. Я уже добралась до своей конечной цели.
Я из Дома Синей Глины, а живу вместе со всей семьей в Синшане, в доме под названием Высокое Крыльцо.
Мою мать в детстве звали Зяблик, потом – Ива, а потом она получила имя Пепел. Имя моего отца было Абхао, что на языке жителей Долины значит «убийца».
В Синшане детям часто дают имена по названиям птиц, ибо птицы считаются вестниками. За месяц до моего рождения на дуб, что рос под окном нашего дома Высокое Крыльцо, каждую ночь прилетала сова. Дубы, растущие с северной стороны нашего дома, называются Гаирга. И вот на один из них постоянно прилетала сова и пела там свою совиную песню; так что первым моим именем стало Северная Сова.
Высокое Крыльцо – дом очень старый, с крепкими стенами и просторными комнатами; потолочные балки и рамы там сделаны из секвойи, древесина которой имеет красноватый оттенок, а стены – из кирпича и оштукатурены; половицы дубовые; в окнах – прозрачные стекла в тесных переплетах. Веранды и балконы в доме широкие и красивые. Первой хозяйкой здесь была еще прабабка моей бабушки. Она жила в наших теперешних комнатах на втором этаже. Когда семья большая, ей обычно нужен целый этаж, но в нашей семье из старшего поколения была лишь моя бабушка, и мы втроем занимали только две западные комнаты. Мы немногое могли дать в общий котел. У нас был десяток диких олив и еще несколько плодовых деревьев на склонах холмов; нам принадлежал также небольшой питомник садовых деревьев на восточном склоне горы, ну и, конечно, мы сажали картошку, кукурузу и овощи на огороде у ручья, но урожай собирали небольшой и чаще брали кукурузу и бобы из общего хранилища, чем сами клали туда. Моя бабушка по имени Бесстрашная была ткачихой. Я помню, что, когда я была маленькой, мы никаких овец не держали и бабушке приходилось отдавать большую часть уже готовой ткани в обмен на овечью шерсть, из которой она снова ткала ткань, и так без конца. Первые мои детские воспоминания – это руки бабушки, которые мелькают туда-сюда над основой, натянутой на раму станка, и серебряный полумесяц браслета, что поблескивает у нее на запястье чуть ниже красного рукава рубахи.
Еще вспоминается, как я ходила в горы к роднику туманным зимним утром. Я тогда впервые отправилась за водой для празднования новой луны как дочь Дома Синей Глины. Я так замерзла, что даже заплакала. Другие дети стали надо мной смеяться и кричать, что я испортила священную воду, потому что накапала в нее слезами, но моя бабушка, которая руководила всей церемонией, сказала, что ничего я не портила, и разрешила именно мне весь обратный путь нести лунный кувшин; но я все равно без конца ныла и хлюпала носом: я замерзла, мне было стыдно, да и кувшин с родниковой водой оказался ужасно тяжелым. Даже и сейчас, став старухой, я хорошо помню и тяжесть кувшина, и промозглый холод зимнего утра, и плеск воды, и голые черные ветки дикой вишни – манзаниты в тумане; слышу голоса детей, что идут впереди и позади меня по крутой тропинке вдоль ручья, болтают и смеются.
Иду туда, иду туда,
Иду туда, куда путь мой,
И плачу над водой.
И он туда, и он туда,
Следом за мной
Туман над водой.
Впрочем, я вовсе не была плаксой, скорее даже наоборот. Мой дедушка со стороны матери говорил: «Сперва посмейся, потом поплачь, или сперва поплачь, а потом обязательно посмейся». Он был из Дома Змеевика и родом из города Чумо. И уже немолодым снова вернулся в этот город и стал жить в доме своей матери. Бабушка моя к этому отнеслась спокойно. Она как-то сказала: «С моим мужем жить – все равно что желуди несоленые жевать». Однако время от времени она все-таки навещала его, да и он тоже приходил к нам летом, когда Чумо в жаркой низине пекся, как пирог в духовке, и жил с нами в летней хижине в горах. Его сестра по имени Зеленый Барабан была знаменитой танцовщицей, особенно славились ее Летние танцы, но семья их всегда отличалась скупостью. Дед говорил, что они бедные, потому что в свое время его мать и бабка отдали все, что имели, устраивая Танец Лета в Чумо. А моя бабушка говорила, что бедные они потому, что никогда не любили работать. Возможно, правы были оба.
Все остальные наши родственники жили в Мадидину. Сестра бабушки поселилась там уже давно, и ее сын женился на тамошней женщине из Дома Красного Кирпича. Мы часто бывали у них в гостях, и я играла со своим троюродным братом Хмелем и его сестрой по имени Пеликан.
Когда я была маленькой, непосредственно нашей семье принадлежали химпи, домашняя птица и кошка. Кошка у нас была совершенно черная, без единого белого волоска, очень красивая и воспитанная. К тому же отличная охотница. Мы обменивали ее котят на химпи, так что для химпи вскоре пришлось построить отдельную клетку. Я присматривала за химпи, за курами и старательно отгоняла котят подальше от загонов и клеток, размещенных под окружавшей дом верандой. Когда мне поручили заботу о домашней живности, я была еще так мала, что страшно боялась петуха с зеленым хвостом. Он это прекрасно понимал и вечно налетал на меня, тряся гребнем и бормоча какие-то свои угрозы, и тогда я кубарем перекатывалась через заборчик, отделявший загон для кур от загона для химпи, чтобы спастись. Химпи тут же вылезали из своих клеток и, посвистывая, рассаживались вокруг меня. С ними было даже лучше играть, чем с котятами. Я быстро поняла, что не стоит давать химпи имена и выменивать их на продукты или отдавать на убой живыми, а научилась сама одним ударом убивать их – ведь некоторые люди убивают животных небрежно и неумело, пугая их и заставляя страдать от боли. В ту ночь, когда одна из пастушьих собак вдруг взбесилась, забралась в загон и перерезала всех наших химпи, кроме нескольких малышей, я столько плакала, что даже мой дедушка остался доволен. После случившегося я несколько месяцев видеть не могла эту собаку. Однако само несчастье обернулось для нашей семьи неожиданной удачей: люди, которым принадлежала собака, дали нам в уплату за убитых химпи молодую ярочку. Овечка выросла и вскоре принесла двоих ягнят; так, через некоторое время моя мать стала пасти своих собственных овец, а бабушка ткала теперь ткани из их шерсти.
Я не помню, когда начала учиться читать и танцевать; бабушка говорила, что еще до того, как стала ходить и говорить. С пяти лет я по утрам ходила вместе с другими детьми из Дома Синей Глины в нашу хейимас, а когда подросла, занималась там с учителями; еще я посещала занятия в Обществе Крови, в Союзе Дуба и в Союзе Крота; там я узнала, например, про Путешествие за Солью; еще я немного занималась с поэтессой по имени Ярость и довольно часто бывала в гончарной мастерской у Глиняного Солнышка. Я быстро все схватывала, но мне и в голову не приходило отправиться учиться в один из больших городов, хотя некоторые из детей у нас в Синшане так делали. Мне нравились уроки в хейимас, нравилось принимать участие в чем-то большом, общем, куда более интересном, чем все то, что я знала до сих пор, и в этом я находила спасение от одолевавших меня страхов и еще – от странных вспышек гнева, которых сама я без чьей-либо помощи не могла ни понять, ни преодолеть. И все-таки училась я, конечно же, мало, можно было бы получить куда больше знаний, а я вечно упрямилась, чего-то опасалась, твердила: «Нет, этого я не сумею!»
Некоторые из детей, по злобе или по недомыслию, звали меня викмас – «бездомная», «полукровка». А еще я слышала о себе такое: «Она человек только наполовину». Понимала я это по-своему и, разумеется, неправильно, поскольку дома мне ничего не объясняли. У меня никогда не хватало храбрости задать этот вопрос в хейимас или сходить куда-нибудь еще, где я могла бы узнать, что происходит за пределами нашего маленького городка, и начать воспринимать Долину как часть чего-то гораздо большего, чем она сама, и в то же время как нечто целостное, включающее в себя и Синшан, и множество других городов. Поскольку ни мать моя, ни бабушка о моем отце совсем не говорили, то в детстве я знала о нем только, что сам он родом не из Долины, был здесь недолго и снова уехал. Для меня это значило только то, например, что у меня нет бабушки по отцу, нет отцовского Дома, – потому я и считаюсь человеком только наполовину. В детстве я даже не слышала о народе Кондора. Я прожила на свете целых восемь лет, и только когда мы отправились на горячие источники близ города Кастоха, чтобы бабушка могла полечиться от мучившего ее ревматизма, то там, на центральной площади Кастохи, я увидела наконец людей из племени Кондора.
Я расскажу об этом небольшом путешествии, совершенном много лет тому назад. Это было путешествие в Дом Безветрия.
В тот день, примерно через месяц после Танца Вселенной, мы поднялись рано, еще в сумерках. Я несколько дней откладывала свою порцию мяса и перед уходом скормила его нашей черной кошке Сиди, которая уже заметно постарела. Я опасалась, что она непременно будет голодать, оставшись одна, и мысль об этом не давала мне покоя несколько дней. Мать, заметив мои припасы, сказала: «Съешь-ка это лучше сама. А кошка отлично сумеет прокормиться, охотиться будет!» Мать у меня была женщина суровая и разумная. Но бабушка возразила: «Девочка старается насытить свою душу, а не кошку накормить. Оставь ее в покое».
Мы погасили огонь в очаге и ненадолго открыли двери настежь, чтобы в дом могли войти кошка и ветер. А потом спустились со своего высокого крыльца под последними, еще светившими на небе звездами; дома в сумерках были похожи на темные холмы. На открытых местах, например на городской площади, было значительно светлее. Мы миновали Стержень и двинулись к хейимас Синей Глины. Там нас уже поджидала Ракушка; она была из Общества Целителей и всегда лечила мою бабушку; к тому же они были старинными подругами. Они наполнили водой бассейн возле хейимас и вместе спели песню Возвращения. Когда мы добрались до площади для танцев, уже совсем рассвело. Ракушка вместе с нами прошла через центр города до самых его окраин, а перейдя по мосту Ручей Синшан, мы все дружно присели на корточки и со словами: «Счастливого пути! Счастливо оставаться!» помочились, а потом дружно рассмеялись. Раньше у жителей Нижней Долины существовал такой обычай, когда они отправлялись путешествовать; теперь-то о нем помнят разве что старики. Потом Ракушка пошла назад, а мы двинулись дальше мимо амбаров, между многочисленными ручьями, через поля Синшана. Небо над холмами по ту сторону Долины начало желтеть, потом по нему разлился красный свет; когда мы почти миновали рощу, холмы впереди стали совершенно зелеными; зато у нас за спиной Гора Синшан казалась то синей, то черной. Так мы и шли по руке жизни. Воздух вокруг наполнился птичьим щебетом; птицы распевали в роще и в полях. Когда мы подошли к тропе Амиу и повернули на северо-запад, к Ама Кулкун, Горе-Прародительнице, из-за юго-восточного хребта уже показался белый краешек солнца. Я и сейчас будто снова иду там, в этом утреннем свете.
В то утро бабушка чувствовала себя хорошо, шла довольно бодро и предложила нам навестить родственников в Мадидину. И мы направились прямо к солнышку вдоль Ручья Синшан и вышли туда, где паслись дикие и домашние гуси и утки, которых в заболоченном устье ручья водилось несметное множество. Конечно же, я бывала в Мадидину много раз, но все же в тот день город показался мне совершенно иным, видимо, в предвкушении дальней дороги. Ощущая серьезность и важность нашего путешествия, я даже не хотела играть со своими троюродными братом и сестрой из Дома Красного Кирпича, хотя именно их я любила больше всех остальных родственников. Бабушка ненадолго заглянула к своей невестке, чей муж, сын бабушки, умер еще до моего рождения, к своим внукам и их отчиму, а потом мы пошли дальше через сливовые и абрикосовые сады к Старой Прямой Дороге.
Я не раз раньше видела и саму Старую Дорогу и за ней тоже бывала со своими здешними сестрою и братом, но теперь мне предстояло идти прямо по ней. Я чувствовала важность момента, и одновременно чего-то побаивалась, и даже успела прошептать Дороге несколько слов из священной хейи, делая первые девять шагов. Люди говорили, что Дорога – старейшее творение рук человеческих во всей Долине; никто не знал точно, сколько ей лет. Некоторые ее участки были совершенно прямыми, зато другие изгибались, спускаясь к берегу Реки На, но потом Дорога возвращалась вновь к прежней оси. В пыли виднелись следы человеческих ног, копыт овец и ослов, отпечатки собачьих лап; здесь прошло множество обутых и босых людей – так много, что мне показалось, здесь есть следы всех тех, кто прошел по Дороге за минувшие пятьдесят тысяч лет. Огромные дубы высились вдоль нее, давая тень и защищая от ветра; порой они перемежались вязами, или тополями, или гигантскими белоствольными эвкалиптами, такими раскидистыми и неохватными, что они казались старше самой Дороги; но и Дорога была настолько широкой, что даже утренние длинные тени не могли пересечь ее от одного края до другого. Я думала, дорога такая широкая именно потому, что она такая старая, но мать объяснила: такой широкой Дорога стала потому, что большие стада овец из Верхней Долины здесь совершают переход к прериям с соленой травой в устье Великой Реки На сразу после Танца Вселенной, а потом возвращаются обратно, а в некоторых отарах овец больше тысячи. Теперь овцы уже все прошли, и мы видели только несколько тележек сборщиков помета, что всегда следуют за отарами. В тележках сидели подростки из Телины, все перепачканные дерьмом и орущие хриплыми голосами. Они собирали лопатами навоз и развозили на поля. На нас они обрушили кучу всяких дурацких шуточек, и мать, смеясь, отвечала им, а я спрятала от них лицо. На Дороге нам встречались и другие путешественники, и когда они здоровались с нами, я поскорее старалась спрятать лицо; но стоило им пройти, как я оборачивалась и, глядя им вслед, задавала целую кучу вопросов: кто они? откуда идут? куда? В конце концов бабушка начала смеяться надо мной и тоже меня поддразнивать.
Из-за бабушкиных больных ног шли мы медленно; а поскольку я все это видела впервые, то путь показался мне невероятно долгим. Однако уже к полудню мы подошли к виноградникам Телины, раскинувшимся на берегу реки. И за рекой я увидела поднимавшийся к небу город – огромные амбары, стены и окна домов, обсаженных дубами, желтые и красные крыши хейимас, крутые, ступенчатые, вокруг украшенной флажками площади для танцев. Этот город был похож на гроздь винограда или на яркого фазана – богатый, с причудливой архитектурой, удивительно прекрасный.
Сын сводной сестры моей бабушки жил в Телине в семействе своей жены из Дома Красного Кирпича, и эта семья пригласила нас немного отдохнуть у них. Телина была настолько больше Синшана, что мне она показалась просто бесконечной, и дом у этих наших родственников был значительно больше нашего, и, по-моему, людей там жило тоже бесчисленное множество. На самом-то деле там проживали всего семь или восемь человек, и все они разместились на первом этаже. Но все время приходили и уходили еще какие-то люди, знакомые и родственники, и вокруг было так много всякой суеты, разговоров, кухонной возни, так часто кто-то что-то приносил или уносил, что я решила: этот дом самый зажиточный и благополучный в мире. Когда старшие услышали, как я шепчу бабушке: «Гляди-ка, у них целых семь больших котлов для готовки!», они стали над этим смеяться. Сперва я смутилась, но они так добродушно повторяли мои слова и смеялись, что я стала болтать вовсю уже без стеснения, чтобы они еще посмеялись. Когда я заявила: «Этот домище большой, как гора!», моя не совсем, правда, родная тетя по имени Виноградная Лоза сказала: «А ты останься и поживи с нами немного, раз наш дом так тебе нравится, Северная Сова. У нас действительно целых семь котлов для готовки, но ни одной дочки у нас нет. А нам бы очень хотелось хотя бы одну!» Она приглашала меня от всего сердца, видно, она действительно так думала; и она была здесь как бы центром, средоточием всего этого бесконечного движения, всей этой суеты, связанной с чередой отдаваний и одалживаний, и человек она была очень щедрый. Но моя мать застыла, будто и не слышала ее слов, а бабушка только улыбнулась, но ничего не сказала.
В тот вечер мои троюродные братья, сыновья Виноградной Лозы, и еще несколько детей из их дома повели меня по Телине. Их дом был из тех, что расположены на внутренней стороне левой спирали города, близ одной из городских площадей. А на центральной площади в тот день были скачки на настоящих лошадях – просто чудо для меня, ведь я никогда и представить себе не могла городской площади такой величины. Да и такого количества лошадей я никогда не видела; в Синшане тоже бывали скачки, но на ослах, и устраивали их на пастбище. А здесь для скачек была проложена специальная дорожка. Она начиналась слева от центральной площади, огибала ее по линии хейийя-иф и выходила справа. Люди вылезли на балконы, забрались на крыши, зажгли масляные и электрические фонари; они делали ставки, шумно спорили, пили вино, кричали, а лошади мелькали во вспышках света и тени, поворачивая быстро, как ласточки; наездники подскакивали в седлах и что-то выкрикивали. В правой же части города на некоторых балконах люди пели, готовясь к Летним танцам:
Бегут две перепелки,
взлетают, поспешают…
Еще дальше, на площади для танцев и возле хейимас Змеевика тоже пели, но здесь мы не задержались и прошли мимо, к реке. Там, среди ив, на воде светились отраженные огни города, а в зарослях, ища уединения, скрывались парочки. Мы, дети, выслеживали их, ползая в зарослях ивняка, и, обнаружив, начинали вопить: «Эй, смотри, святой крот! В нору-то песок попадет!» Особенно отличались мои братцы, они издавали всякие неприличные звуки и поднимали такой шум, что парочке приходилось с бранью скрываться; некоторые гнались за нами, а мы бросались врассыпную и удирали. Я вам скажу вот что: если мои братья развлекались так каждую теплую ночь, то в Телине, пожалуй, особой нужды в контрацептивах не было. Наконец, устав, мы отправились домой, поели холодных тушеных бобов и улеглись спать на балконах и верандах. И всю ночь сквозь сон слышали Песнь перепелки.
На следующее утро бабушка, мать и я вышли из дому рано, хотя уже рассвело и мы как следует позавтракали перед дорогой. Пока мы шли по горбатому каменному мосту над Рекой На, мать упорно держала меня за руку. Она нечасто это делала. Мне казалось, она ведет себя так потому, что в прохождении над Великой Рекой есть нечто священное. Однако теперь я считаю, что она просто боялась меня потерять. Наверно, она думала, что ей следовало бы позволить мне остаться в том богатом доме.
Когда мы уже отошли от Телины достаточно далеко, бабушка вдруг спросила: «Может, все-таки стоило хоть на зиму-то, Ивушка?»
Мать не ответила.
Я тогда вообще на это внимания не обратила. Я была счастлива и весь путь до Чумо болтала о тех чудесных вещах, которые видела, слышала и делала в Телине. И все время, пока я болтала, мать не выпускала моей руки.
Мы пришли в Чумо и не заметили, что идем уже по городу, так редко там стояли дома, скрывавшиеся в зелени деревьев. Ночевать мы должны были в хейимас нашего Дома, но сперва пошли проведать бабушкиного мужа, отца моей матери. Он жил в отдельной комнате у каких-то своих родственников из Дома Желтого Кирпича в очень красивом месте – под дубами на берегу ручья. Его комната на первом этаже служила ему также и мастерской; она была довольно большой, но несколько сыроватой. До сих пор я считала, что моего деда зовут Гончар, это было его среднее имя, но теперь он свое имя переменил: сказал, чтоб мы его называли Порча.
По-моему, это было совершенно идиотское имя. К тому же я все еще пыжилась от гордости после своего «успеха» у родственников в Телине, а потому спросила у матери довольно громко:
– А что, разве от него воняет?
Бабушка услышала и нахмурилась:
– Помолчи-ка. Шутить тут не над чем.
Мне стало очень не по себе, и я, конечно же, почувствовала себя полной дурой, однако бабушка, похоже, вовсе на меня не рассердилась. Когда остальные обитатели дома разошлись по своим комнатам, оставив нас наедине с дедом, бабушка спросила:
– Что это за имя ты себе взял?
– Это мое подлинное имя, – ответил дед.
Он выглядел иначе, чем прошлым летом в Синшане. Вообще-то он всегда был занудой и вечно на что-нибудь жаловался. Все всегда у него было не так, все всегда все делали неправильно, и только он один знал, как надо, хотя сам, собственно, ничего никогда и не делал, но, по его словам, это потому, что время еще не пришло. Сейчас он по-прежнему выглядел мрачным, смотрел на нас кисло, однако держался с нескрываемым достоинством. Он сказал бабушке, что ей вовсе не нужно идти лечиться на Горячие Источники, а лучше остаться дома и поучиться думать.
– А ты откуда знаешь, что для меня лучше? – спросила бабушка.
– Главное – понять, что все твои недуги и хворости лишь следствие неправильного мышления, – важно заявил дед. – Тело твое ведь ненастоящее.
– А по-моему, самое настоящее, – возразила Бесстрашная, засмеялась и шлепнула себя по бедрам.
– Ты уверена? – каким-то странным тоном спросил ее мой дед по имени Порча. Он держал в руках деревянную лопатку, которой гончары выглаживают поверхность больших глиняных кувшинов для хранения продуктов. Лопатка, вырезанная из оливы, была длиной примерно с мою руку и шириной – с ладонь. Дед взял лопатку в правую руку, поднес ее к левой руке и протащил прямо сквозь плоть – лопатка легко прошла сквозь кости и мышцы, как нож сквозь воду.
Бабушка и мать уставились на лопатку и на руку деда. Он знаком показал им, что может и с ними проделать то же самое. Но они ему своих рук не дали; а вот я не смогла сдержать любопытства. И еще мне ужасно хотелось по-прежнему быть в центре внимания, так что я смело протянула ему свою правую руку. Порча коснулся меня лопаткой, и она прошла сквозь мою руку где-то между запястьем и локтем. Я чувствовала, как легко она входит в мою плоть; нечто похожее – быстрое горячее прикосновение – испытываешь, когда пальцем проводишь прямо над пламенем свечи. От удивления я засмеялась. Дед внимательно посмотрел на меня и промолвил:
– А ведь Северная Сова может стать одной из Воительниц.
Тогда я впервые и услышала это слово.
И тут заговорила моя бабушка Бесстрашная; сразу можно было догадаться, что она сердится:
– Даже и думать об этом нечего! Твои Воители – все сплошь мужчины.
– Но она же может выйти за одного из них замуж, – возразил дед. – Когда придет время, она может, например, выйти замуж за сына Мертвой Овцы.
– Иди-ка ты знаешь куда со своей дохлой овцой, дурень этакий! – сказала бабушка, и мне опять стало смешно, а мать ласково коснулась ее руки, желая успокоить. Не знаю, то ли моя мать была напугана силой, которую продемонстрировал дед, то ли ее огорчила ссора между родителями, но, так или иначе, она сделала все, чтобы оба старика успокоились. Мы выпили с дедом по стакану вина, а потом с ним вместе пошли через площадь для танцев к хейимас Синей Глины, где остались ночевать в гостевой комнате. Я впервые спала под землей, и мне понравилась царившая там тишина, понравилось и отсутствие сквозняков, однако все это было для меня непривычно, и я без конца просыпалась и прислушивалась и, лишь услышав рядом дыхание матери, снова успокаивалась и засыпала.
В Чумо бабушка еще со многими хотела повидаться из тех семей, у которых она когда-то жила и училась прясть, ткать, делать ковры и гобелены, так что из города мы вышли только около полудня и двинулись дальше по северо-восточному берегу Великой Реки На, протекавшей через всю нашу Долину. Вокруг были бесконечные сады, где росли оливы, сливовые деревья, гладкие персики, а подальше, на холмах, террасами раскинулись виноградники. Я никогда не бывала так близко к Горе-Прародительнице; казалось, она заслоняет весь мир. Оглянувшись, я не увидела своей родной Горы Синшан: то ли не сумела на расстоянии отличить ее от других, то ли она спряталась за горами юго-западной части Долины. Мне стало не по себе, я не выдержала и сказала об этом матери; и та, отлично поняв мои страхи, уверила меня, что, когда мы вернемся в Синшан, наша гора непременно будет на своем месте.
Когда мы пересекли Валухов Ручей, впереди завиднелся город Чукулмас, что на самом краю Долины. Первой мы увидели его Огненную Башню, высившуюся отдельно от прочих строений и сложенную из цветных камней – красных, оранжевых и желтовато-белых; прихотливый и тонкий рисунок ее стен напоминал пеструю, нарядную корзинку сложного плетения или узор на спинке змеи. На огромных желтоватых холмистых лугах у подножия горы, со всех сторон окруженных лесом, пасся и тучнел скот. Ниже, на почти совершенно плоской равнине, виднелись винокурни и сараи для сушки фруктов; садоводы Чукулмаса как раз строили летние хижины. На берегу Реки На среди дубов крутились крылья темных мельниц, издалека был слышен громкий скрип их колес. Слышался тройной посвист перепелов, над полями пели жаворонки, высоко в небесах парили хищные канюки. Солнце светило вовсю, стояло полнейшее безветрие.
– Настоящий праздник Девятого Дома! – сказала мать.
Бабушка откликнулась сдержанно:
– Хоть бы поскорее до Кастохи добраться.
С тех пор как мы вышли из Чумо, она почти все время молчала и сильно прихрамывала. Тут матери моей прямо под ноги на дорогу слетело перо – перо из крыла сойки, серое по краям и синее в середине. Это и было ответом на только что сказанные ею слова о Доме Воздуха. Она подобрала перышко и понесла его в руке. Мать моя была маленького роста, круглолицая, с изящными руками и ногами. В тот день она шла босиком, в старых штанах из телячьей кожи и рубашке без рукавов; за плечами – маленький рюкзак; волосы искусно заплетены и аккуратно уложены. В руках она держала голубое перо сойки. Я и сейчас вижу, как она идет в лучах солнца по Дому Безветрия.
Со стороны западных холмов уже протянулись длинные тени, когда мы добрались наконец до Кастохи. Бесстрашная, увидев крыши над садами, проговорила:
– Ага, вот и Бабкин Передник!
Старики часто называли так Кастоху, потому что город раскинулся как раз между отрогами Ама Кулкун, Горы-Прародительницы. При этих словах я представила себе город среди густого леса с высоченными елями и секвойями, расположенный в огромной пещере, темной и загадочной, из которой вытекает Великая Река На. Когда мы взошли на мост, чтобы перебраться на тот берег, я увидела, какой это большой город, куда больше Телины, и там сотни домов и целый мир незнакомых людей, и заплакала. Может быть, от стыда: я поняла, насколько глупой была моя выдумка, что город может разместиться в пещере; а может быть, меня, усталую после долгого путешествия, просто ошеломило увиденное. Бабушка взяла мою правую руку, крепко сжала ее обеими руками и внимательно осмотрела. С тех пор как мой дед с новым именем Порча пропустил мне сквозь руку свою лопатку, ни мать, ни бабушка не сказали об этом ни слова.
– Старый он дурак! – вырвалось у бабушки, когда она рассматривала мою руку. – Да и я тоже хороша. – Она сняла свой серебряный, в форме полумесяца, браслет, который всегда носила, и легко надела мне его на правую руку. – Ну вот, – сказала она удовлетворенно. – Не бойся, Северная Сова, ты его не потеряешь.
Бабушка была такая худенькая, что браслет-полумесяц оказался мне лишь чуточку великоват, хотя рука у меня была еще совсем тонкая, детская; но бабушка имела в виду вовсе не то, что браслет может свалиться. Я тут же перестала плакать. И в гостинице у Горячих Источников в ту ночь я спала крепко, но и во сне чувствовала, что на руке у меня серебрится месяц, прямо под моею щекою.
На следующий день я впервые увидела людей Кондора. Все в Кастохе было для меня необычным, все было новым, все было иным, чем дома; но стоило мне увидеть этих людей, и я поняла, что Синшан и Кастоха – это, в общем, примерно одно и то же, а вот люди Кондора совсем из другого мира.
Наверное, в этот миг я была похожа на кота, учуявшего гремучую змею, или на собаку, которая видит привидение. Ноги у меня стали как ватные, а волосы поднялись дыбом. Я резко остановилась и прошептала:
– А это кто такие?
– Это люди Кондора. Они не принадлежат ни к одному Дому, – ответила бабушка.
Мать, которая шла рядом со мной, вдруг неожиданно быстро прошла вперед и заговорила с четырьмя высокими мужчинами, которые тут же обернулись к ней. У них были клювы и крылья; на нее они смотрели сверху вниз. Тут ноги мои совсем подкосились, и мне вдруг страшно захотелось в уборную. Я видела, как эти черные стервятники пристально глядят на мою мать своими глазами, обведенными белыми кругами, вытягивают красные шеи, а потом, конечно же, своими острыми клювами расклюют ей рот, горло, вытащат из живота кишки…
Однако мать, живая и невредимая, вернулась к нам и по дороге к Горячим Источникам сказала бабушке:
– Он был на севере, в Стране Вулканов. Эти четверо говорят, что люди Кондора возвращаются сюда. Когда я назвала его имя, они сказали, что он у них важный начальник. Нет, ты видела, как внимательно они меня слушали, стоило мне назвать его имя? – Мать засмеялась. Я никогда прежде не слышала, чтобы она так смеялась.
– Чье имя? – спросила бабушка.
– Имя моего мужа! – ответила мать.
И они остановились, глядя друг другу в глаза.
Потом бабушка пожала плечами и отвернулась.
– Я же говорила: он непременно вернется! – сказала мать.
А я вдруг заметила, что вокруг ее лица так и вьются белые огненные искры, похожие на светящихся мушек. Я громко закричала, согнулась пополам, и меня вырвало.
– Не хочу, чтоб они тебя съели! – все время повторяла я.
Мать на руках отнесла меня обратно в гостиницу. Я немного поспала, а в полдень мы с бабушкой отправились на Горячие Источники и долго лежали в целебной воде. Вода была какого-то коричневато-синего цвета – даже не вода, а просто жидкая грязь – и пахла серой. Сперва показалось не очень-то приятно, но стоило недолго в этой воде побыть, и начинало казаться, что можно проплавать в ней вечно. Бассейн был неглубоким, но довольно широким и длинным и выложен голубовато-зелеными изразцовыми плитками. Стен вокруг него не было, только высокая деревянная крыша; впрочем, можно было поставить ширмы, если хотелось укрыться от ветра. Очень хорошее место! И все люди пришли туда специально, чтобы лечиться; они разговаривали друг с другом вполголоса или лежали поодиночке в воде и пели тихие исцеляющие песни. Сине-коричневая вода скрывала их тела, так что если смотреть на бассейн сверху, то видны были лишь головы, спокойно плававшие на поверхности бассейна или прислонившиеся затылками к изразцовым бортикам. Некоторые люди лежали, закрыв глаза, некоторые тихонько пели, полускрытые туманной пеленой, что висела над этим местом.
Лежу и лежу,
Лежу неподвижно
На мелководье в теплой воде.
Плывет и плывет,
Плывет непрерывно
Над теплой водою легкий туман.
В гостинице на Горячих Источниках мы прожили целый месяц. Бабушка принимала целебные ванны и каждый день ходила к Целителям и учила Песнь Щитомордника. Мать ходила одна на Гору-Прародительницу, к истокам Великой Реки На, а еще – в Вакваху и к перевалу тропой пумы. Ребенку трудно целый день торчать в горячем бассейне или у Целителей, но я боялась людных площадей большого города, а родственников среди здешних жителей у нас не было, так что я почти все время проводила на Источниках и помогала тем, кто работал там. Когда я узнала, где находится Большой Гейзер, то стала часто ходить туда, а старик, который там жил, водил посетителей по святым местам и пел им песни, посвященные истории Подземных Рек, охотно беседовал со мной и даже разрешал мне ему помогать. Он научил меня Грязевой Вакве – первой священной песне, которую я узнала сама. Даже тогда очень немногие знали эту лечебную песню, и, должно быть, она была очень древней. Она сложена по старинному образцу, ее поют только в сопровождении барабана, выбивающего простой ритм, и большая часть ее слов связана с праязыком, так что записывать ее не имеет смысла. Тот старик говорил мне:
– Может быть, жители Небесных Домов тоже поют эту песню, когда приходят сюда принимать грязевые ванны, а?
А в одном месте этой песни вдруг откуда-то выныривали совсем другие, понятные слова:
Там, где горы, как чаша,
Склоняют края к середине,
Все сюда поспешают,
Как всегда приходили…
Я думаю, тот старик был прав: это песнь о рождении Земли. Таков был самый первый серьезный дар, который я получила в жизни; а уж потом я сама передала его многим.
Держась подальше от города, я больше ни разу не встречала людей Кондора и позабыла о них. Через месяц мы отправились домой, в Синшан, чтобы успеть к Летним танцам. Бабушка чувствовала себя хорошо, и мы за одно утро успели спуститься вниз, в Телину, и уже к вечеру добрались до Синшана. Когда мы проходили по нашему мосту, мне казалось, что я вроде бы воспринимаю все как-то наоборот: северные холмы почему-то оказались там, где должны были быть южные, дома Правой Руки оказались слева, и даже внутри нашего дома все тоже выглядело иначе. Я повсюду обнаруживала такие странности, будто предметы были перевернуты с ног на голову. Но мне это нравилось; хотя я надеялась, что особенно долго это не продлится. Утром, когда я проснулась от мурлыканья кошки Сиди, свернувшейся у меня на подушке, все уже вернулось на свои прежние места: север был на севере, левая сторона слева, и больше уже ни разу даже на мгновение не видела я, чтобы мир вот так переворачивался с ног на голову.
Когда закончился последний из Летних танцев, мы переселились в нашу летнюю хижину в горах, и там бабушка сказала мне:
– Северная Сова, уже года через два ты станешь женщиной, и, как у взрослой женщины, у тебя будут месячные, а ведь всего год назад ты казалась длинноногим кузнечиком. Теперь ты на середине пути, это очень хорошее время, самые ясные годы. Что бы ты хотела совершить сейчас?
Я целый день думала над ее словами, а потом пришла к ней и сказала:
– Я бы хотела пойти в горы тропой пумы.
– Хорошо, – кивнула головой бабушка.
Моя мать ничего у меня не спросила и ничего мне не сказала. С тех пор как мы вернулись из Кастохи, она все время к чему-то, замирая, прислушивалась, словно ждала какой-то весточки издалека.
Так что готовила меня к походу бабушка. В течение девяти дней я совсем не ела мяса, а последние четыре дня из этих девяти мне давали только сырую пищу и всего один раз, в полдень, а еще четыре раза давали выпить воды – по четыре глотка зараз. В назначенный день я поднялась еще до рассвета и взяла приготовленную заранее сумку с дарами. Бабушка спала, но, по-моему, мать моя притворялась и просто лежала с закрытыми глазами. Я пожелала им счастливо оставаться, тихонько пробормотала хейю за них и за наш дом и ушла.
Наша летняя хижина стояла на лугу, на склоне горы, чуть выше того места, где начинался Ручей Каменного Ущелья, то есть что-нибудь в миле от Синшана. Мы всегда, сколько я себя помню, переселялись туда на лето и жили там в соседстве с семьей из Дома Обсидиана. Мы вместе пасли своих овец, там для них было вдоволь травы, и ручей бежал совсем неподалеку и почти во все годы был полон воды, благодаря обильным дождям. В северо-западной части луга возвышалась большая Священная Скала. Я прошла мимо этой скалы. Вообще-то я собиралась остановиться и поговорить с ней, но скала сама со мной заговорила и велела мне:
– Не останавливайся. Иди дальше, поднимись высоко в горы еще до восхода солнца.
И я пошла дальше, все выше и выше по холмам. Сперва, пока еще не рассвело, я просто шла, а когда начало светать, побежала и добралась до вершины Горы Синшан, как раз когда из-за горизонта выглянул краешек солнца. Я увидела, как осветились горы и как тьма отступила в сторону моря.
Там, на вершине горы, я пропела священную хейю и двинулась по самому гребню на юго-восток – по козьим тропам, сквозь чапараль, а где кустарник не был особенно густым, я шла просто так, без дороги, особенно в лесу, где росли сосны и ели. Шла я, никуда не торопясь, все время останавливаясь и прислушиваясь, старательно выбирая направление, присматриваясь к разным знакам и приметам. Весь день меня не покидала мысль о грядущем ночлеге в горах. Тропа вилась то вверх, то вниз, а я все думала: «Нужно найти подходящее место для ночлега, нужно непременно его найти до наступления темноты». Но ни одно место не казалось мне подходящим. Я сказала себе: «Это наверняка будет особенное, святое место. Ты его сразу узнаешь, когда подойдешь ближе!» Но на самом деле – хоть я и старалась об этом не думать – меня преследовали страхи: я боялась горного льва и медведя, боялась диких собак и мужчин с побережья. Так что, если честно, то искала я не «святое место», а убежище, где можно было бы спрятаться. Чтобы не очень бояться, я весь день шла без отдыха, ибо стоило мне остановиться, как я тут же начинала дрожать от страха.
Поскольку я уже поднялась выше тех мест, где били ключи, то к вечеру очень захотела пить. Я достала из своей сумки четыре маковые головки, полные семян, и, вытряхнув мак на ладонь, съела его, но после этого мне только больше захотелось пить да к тому же начало подташнивать. Сумерки окутали гору, прежде чем я успела найти то место, какое искала, так что пришлось ночевать там, где меня застигла темнота, – в ложбинке среди низкорослой манзаниты. Мне показалось, что здесь будет вполне безопасно, а эти деревца я приняла просто как святой дар. Я довольно долго сидела там, скорчившись. Хотела спеть хейю, но мне был неприятен даже звук собственного голоса. В конце концов я легла. Но стоило мне хоть капельку пошевелиться, сухие листья подо мной словно начинали кричать, оповещая всех кругом: «Слушайте! Вот она! Она шевельнулась!» А если я пробовала лежать неподвижно, то моментально замерзала, так что приходилось без конца ворочаться и поджимать под себя ноги; ночь действительно была холодной, да еще ветер зачем-то принес с моря туман и окутал им горную вершину. Туман и ночная тьма мешали мне что-либо разглядеть, но я упорно продолжала смотреть во тьму. Одно было ясно: я на самом деле хотела подняться в горы и пройти тропой пумы, однако ничего у меня не получилось; весь день я только и делала, что пыталась от пумы спрятаться. А все потому, что я явилась сюда не из желания самой стать похожей на бесстрашную пуму, а всего лишь мечтая доказать детям, которые называли меня полукровкой, что я лучше всех, что я самая смелая и почти что святая. И что мне уже целых восемь лет. От этих мыслей я горько заплакала, уткнувшись лицом в грязные листья, и, честное слово, наплакала целую грязную лужицу с соленой водой на холодной щеке горы. И тут я вдруг вспомнила старинную лечебную песню, которой меня научил старик с Гейзеров, и про себя пропела ее. Это немного помогло. Я успокоилась, и ночь потекла дальше. Однако жажда и холод мешали мне уснуть, а усталость никак не оставляла меня.
Чуть стало светать, я напролом сквозь густой кустарник спустилась в одно из ущелий, чтобы найти воду. Искать родник пришлось довольно долго. Ущелья разветвлялись подобно лабиринту, и я совсем заблудилась, так что, снова поднявшись наверх, обнаружила, что стою где-то между Горой Синшан и Горой-Сторожихой. Я полезла еще выше и наконец выбралась, только вершина оказалась совершенно лысой, а Гора Синшан, оставшаяся позади, теперь почему-то была обращена ко мне своей внешней, «дикой», стороной. То есть я сейчас находилась вне Долины!
Дальше весь день, как и вчера, я шла очень медленно, все время останавливалась и прислушивалась, однако мысли мои совершенно переменились. Собственно, даже не мысли, ибо я ни о чем не думала; просто голова вдруг стала ясной. Я приказала себе: «Постарайся идти все время так, чтобы обойти Гору-Сторожиху, и не слишком отклоняйся от этого курса, тогда снова придешь на ту плешивую вершину холма». Мне очень хотелось опять попасть туда, там я чувствовала себя хорошо среди бледно-желтого от солнечных лучей дикого овса. Я была уверена, что непременно снова выйду на это место, и продолжала идти вперед. Все, что попадалось мне навстречу, я называла вслух подлинными именами или приветствовала молитвой-хейя – ели и карликовые сосны, конские каштаны и секвойи, заросли дикой вишни и земляничные деревья и, конечно, дубы, а еще птиц – соек, синиц, дятлов, горлинок, ястребов, – и какие-то незнакомые травы, и цветущие колючие кусты, и череп горной козы, и кроличьи катышки, и ветер, дующий с моря.
Там, на охотничьей стороне горы, олени не слишком стремились попадаться человеку на глаза. Я видела их раз пять, а один раз – самку койота. Оленям я говорила: «Благословляю вас, как умею, о Молчаливые! Благословите же и вы меня!» А ту койотиху я назвала Певицей. Я и раньше видела, как койоты подкрадываются к отарам овец во время окота и как они воруют еду из летних хижин, видела и мертвых койотов, лежавших на земле комком грязноватой шерсти – таких я видела часто, но никогда за всю свою жизнь не видела я самки койота в ее собственном Доме.
Она стояла между двумя невысокими сосенками примерно в десяти шагах от меня, потом еще чуточку приблизилась, чтобы получше меня рассмотреть. Потом села, обвив хвостом лапы, и уставилась как на чудо. По-моему, она никак не могла понять, что я такое. Может, она никогда человеческих детей не видела? Может, она совсем молодая и вообще никогда не видела людей? Мне она нравилась – чистая, аккуратная, с шерстью цвета дикого овса в зимнее время, со светлыми глазами. Я сказала ей: «Певица! Я ведь все равно пойду по твоей тропе!» Она сидела, по-прежнему внимательно глядя на меня и словно улыбаясь, потому что у койотов пасть так устроена, потом встала, немного потянулась и… исчезла – как тень. Я не успела заметить, куда она исчезла и исчезла ли, так что по ее тропе я пойти все-таки не решилась. Но в ту ночь она со своим семейством пела мне койотские песни совсем рядом со мной почти до рассвета. В ту ночь туман не принесло: небо было ясным, и звезды ярко светили в вышине. Я лежала с легким сердцем на краю небольшой поляны под старыми лаврами и рассматривала созвездия и отдельные звезды; я словно плыла по этому бескрайнему звездному небу, будто принадлежала ему целиком. Так Койотиха позволила мне войти в ее Дом.
На следующий день я успешно выбралась на тот заросший диким овсом лысый холм, откуда была видна оборотная сторона Горы Синшан, и там, вытряхнув все из своей сумки, принесла этому священному месту дары. Я не стала перебираться через холм, чтобы не замыкать круг полностью, а просто спустилась по ущелью вниз, намереваясь обойти Гору Синшан с юго-востока и тем самым завершить свое путешествие по хейийя-иф. Однако в лабиринте ущелий я вновь заблудилась и дальше пошла по течению какого-то ручья; идти по его берегу было несложно, однако все вокруг заросло ядовитым дубком, а стены ущелья были очень крутыми. Я все шла и шла вдоль ручья и понятия не имела, куда наконец попаду. Этот лабиринт называется Лощиной Старого Лиса, однако никто, кого я потом ни спрашивала, ни охотники, ни члены Общества Благородного Лавра никогда в этом месте не бывали и того ручья не видели. Наконец ручей влился в какое-то продолговатое озерцо с темной водой. Вокруг озера росли невиданные мною прежде деревья с гладкими стволами и ветвями и с треугольными чуть желтоватыми листьями. На темной воде виднелось множество желтых пятнышек – упавшие листья. Я опустила руку в воду и спросила у нее, куда мне идти дальше. Я почувствовала ее силу, и сила эта немного меня напугала. Вода была почти черная и какая-то неподвижная. Это была не та вода, какую я знала, – незнакомая, страшная и тяжелая, как кровь. Я не стала пить из этого озера. Присела на корточки в жаркой тени под голыми деревьями и стала ждать какого-нибудь знака, пытаясь понять, что со мной происходит. Потом что-то появилось на поверхности воды и направилось ко мне – водомерка. Очень крупная, она легко мчалась по сверкающей темной глади. Я сказала: «Благословляю тебя, как умею, о Молчаливая! Благослови же и ты меня!» Насекомое на мгновение застыло как бы между водой и воздухом – там, где воздух и вода соприкасаются друг с другом, там, где и существуют водомерки, – а потом скользнуло прочь, в тень крутого озерного берега. И все. Пропало. Я встала, напевая хейю застывшей воде, и тут же обнаружила путь наверх: тропа вела мимо зарослей ядовитого дубка, через Лощину Старого Лиса на обратную сторону горы, откуда я через ущелье вышла прямо на склон, глядящий в Долину, освещенную палящими лучами летнего полуденного солнца; кузнечики звенели, точно тысяча колокольчиков; пестрые, с черно-голубым оперением сойки кричали и ругались мне вслед, когда я проходила по лесу. В ту ночь я спала крепко, улегшись под огромными дубами на своей родной стороне горы. На следующий день, четвертый день моего путешествия, я связала пучками перья, подобранные в пути, в зарослях, и привязала их к дубовым веткам, а потом на берегу крошечного ручейка, пробивавшегося среди камней и могучих корней деревьев, спела столько песен Речек и Ручьев, сколько знала. Совершив этот маленький обряд, я отправилась домой и добралась до нашей летней хижины уже на закате. Матери дома не было; бабушка пряла шерсть перед хижиной у земляного очага.
– Ну вот и хорошо! – сказала она. – Только, по-моему, тебе сперва нужно вымыться как следует, а?
Я понимала: она ужасно рада, что я вернулась домой живой и невредимой, но не может не посмеяться надо мной – ведь я забыла вымыться после того, как пела священные песни на берегу ручья, потому что очень спешила поскорее попасть домой и поесть. Так что я с ног до головы была в поту и в грязи.
Спускаясь к ручью в Каменном Ущелье, я чувствовала себя ужасно повзрослевшей, словно меня не было дома не четыре дня, и даже не месяц (столько мы провели в Кастохе), и не восемь лет (столько я прожила на свете), а гораздо дольше. Я вымылась в ручье и вернулась обратно уже в сумерках. Священная Скала была на месте, и я подошла к ней. Она сказала: «А теперь коснись меня». И я коснулась ее и почувствовала, что действительно вернулась домой. Я чувствовала, что в душу мою вошло нечто мне еще непонятное и, может быть, даже вовсе нежелательное – что-то из того странного места, из того черного озера и от той водомерки, но вершиной моего путешествия все-таки был золотой от солнца холм и та ночь, когда койотиха пела для меня свои песни; и пока я касалась Священной Скалы, я понимала, что шла по верному пути, несмотря даже на то, что первоначальной цели так и не достигла.
Поскольку у меня во всей Долине были только одна бабушка и один дедушка, человек из Дома Синей Глины по прозвищу Девять Целых попросил разрешения быть моим побочным дедом. Так как мне вот-вот должно было исполниться девять лет, он перебрался к нам из своей летней хижины в Ущелье Медвежьего Ручья, чтобы научить меня песням наших предков. Вскоре после этого мы все вместе вернулись в Синшан – готовиться к Танцу Воды, а наши соседи из Дома Обсидиана остались пасти овец. В тот год я впервые вернулась в город летом. Там почти никого не было, кроме некоторых людей из Дома Синей Глины. Целые дни проводя в пении и молитвах в опустевшем городе, я постепенно почувствовала, как душа моя раскрывается, становится шире, стремится соединиться с душами других танцоров, чтобы заполнить царящую вокруг пустоту. Выливаемая в бассейн хейимас вода из сосуда синей глины и песни, которые мы исполняли, казались мне ручьями и реками среди великого летнего зноя. Постепенно стали возвращаться люди других Домов, а потом мы все праздновали Танец Воды. В Тачас Тучас ручей, снабжавший этот город водой, совершенно пересох, так что его жители перебрались к нам и праздновали вместе с нами; те, у кого были родственники в Синшане, поселились в их домах, остальные на скорую руку построили себе шалаши в полях Синшана или спали на чьих-то балконах и верандах. Собралось так много народу, что Танец как бы вовсе и не думал кончаться, а хейимас Синей Глины была так полна громким пением и священным могуществом, что крыша ее, казалось, вибрировала, дрожала, точно шкура пумы, напрягшейся перед прыжком. Да, это был большой праздник! На третий и четвертый день даже жители Телины и Мадидину услышали о Танце Воды в Синшане и стали приходить и танцевать с нами. В последнюю ночь балконы всех домов были прямо-таки забиты народом, а площадь для танцев полна танцующими; в жарких небесах сверкали-танцевали молнии – казалось, по всему горизонту, – и невозможно было отличить грохот барабана от далеких еще громовых раскатов; а мы все танцевали и танцевали, то устремляясь к морю, то поднимаясь в гору, к темнеющим облакам.
Как-то раз между Танцами Воды и Вина я встретилась со своими троюродными братом и сестрой из Дома Красного Кирпича, которые жили в Мадидину; мы собирались вместе пойти за черной смородиной к Скале Перепелки. В кустах уже повсюду были протоптаны тропинки, и ягод осталось не так уж много, и в итоге мы перестали собирать смородину, а принялись играть. Пеликан и я изображали диких собак, а Хмель – охотника, и мы охотились друг на друга, ползая среди густых и довольно колючих кустов. Я поджидала, пока Хмель пройдет мимо того места, где я притаилась, и нападала на него сзади, громко рыча и лая, и сбивала его с ног. От неожиданности он охал и некоторое время лежал совершенно неподвижно, пока я не начинала поскуливать и лизать ему руку. Наигравшись, мы втроем уселись и долго болтали на разные темы. Вдруг Хмель сказал:
– А вчера в нашем городе появились люди с птичьими головами.
– Ты хочешь сказать, собиратели перьев? – спросила я.
– Нет, – сказал он, – у них самих были настоящие птичьи головы – головы хищных птиц, стервятников, такие черные с красным.
Пеликан раскричалась: «И вовсе это не он их видел, а я!», но мне почему-то стало грустно и нехорошо на душе. Я сказала:
– Мне теперь домой надо, – и пошла прочь. Им пришлось догонять меня, потому что я даже забыла взять корзинку с собранными ягодами.
Потом они отправились к себе в Мадидину, а я побрела куда глаза глядят, через луг, через ручей, и была уже недалеко от винокурен, когда, подняв голову, увидела в небе, на юго-западе, высоко парившую птицу. Я решила, что это канюк, но потом разглядела, что птица гораздо крупней канюка, прямо-таки огромная. Девять раз она описала круг над моим городом, а потом, словно завершив в воздухе какой-то священный танец, медленно заскользила на северо-восток прямо у меня над головой. Крылья ее, каждое из которых было длиной со взрослого человека, казалось, совершенно не двигались; чуть шевелились только маховые перья на концах крыльев, направляя полет по ветру. Когда эта птица пролетала над Холмом Рыжей Коровы, я бегом бросилась в город. Повсюду на балконах было полно народу, а на городской площади несколько человек из Дома Обсидиана били в барабаны, чтобы придать людям мужества. Я пошла прямо в наш дом Высокое Крыльцо и спряталась в дальней комнате, в самом темном углу за свернутыми постелями. Я была уверена: этот кондор высматривал именно меня.
Вскоре пришли мои мать и бабушка и, не подозревая о моем присутствии, продолжали сердито спорить.
– Я же говорила тебе, что он вернется! – сказала моя мать. – Он непременно придет и найдет нас здесь! – Она говорила одновременно и сердито, и радостно; я никогда прежде не слышала, чтобы она разговаривала таким тоном.
– Лучше б этого не было никогда! – сказала моя бабушка тоже сердито, но совсем не радостно.
И тут я вылезла из своего темного угла и бросилась к бабушке со слезами:
– Не позволяй ему приходить сюда! Пусть он нас никогда не найдет!
Но мать сурово сказала:
– Подойди сейчас же ко мне, дочь Кондора.
Я сделала шаг, остановилась и осталась стоять меж ними, повторяя:
– Это не мое имя! Меня совсем не так зовут!
Мать, несколько опешив, умолкла, но потом тихонько проговорила:
– Не бойся. Ты сама увидишь. – И как ни в чем не бывало принялась готовить ужин. Бабушка взяла свой праздничный барабан и удалилась в нашу хейимас. В тот вечер изо всех хейимас доносился барабанный бой.
Стояли последние жаркие дни лета, и все высыпали на балконы и веранды, надеясь на прохладу, что приходила вместе с сумерками. Я слышала разговоры людей об огромном кондоре. Агат, библиотекарь из Общества Земляничного Дерева, начал декламировать отрывок из старинных записей, хранившихся в библиотеке, под названием «Полет Великого», который он сам перевел на язык кеш. Там говорилось о Внутреннем Море и Горах Света, об Оморнском Море и Райских Горах, о солончаковых пустошах и о прериях, заросших травами, о Северной Горе и о Южной – обо всем, что видит во время своего полета кондор. Голос у Агата был очень красивый, и когда он читал что-то или рассказывал, невозможно было не подпасть под его очарование. Вот было б здорово, подумала я, притихнув, как и все остальные, если б он рассказывал всю ночь! Когда же повествование Агата было закончено, сначала вокруг царила полная тишина; лишь спустя некоторое время люди начали снова тихонько переговариваться. Среди них я не нашла ни бабушки, ни матери. Люди меня не замечали и свободно говорили о народе Кондора, чего никогда не стали бы делать в присутствии членов моей семьи.
Я увидела Ракушку, которая ждала, когда моя бабушка поднимется наверх из хейимас.
– Если эти люди действительно возвращаются, то на этот раз мы ни в коем случае не должны позволить им долго оставаться в Долине, – сказала она.
– Они уже в Долине, – возразил ей Гончий Пес. – И скоро отсюда не уйдут. Они явились, чтобы воевать.
– Ерунда, – сказала Ракушка. – Ты старик, а рассуждаешь как мальчишка!
Гончий Пес, как и Агат, был человеком образованным, он часто бывал в Кастохе и Ваквахе, читал там разные умные книги и беседовал с учеными людьми. Он сказал Ракушке:
– Слушай, женщина Синей Глины, я говорю так потому, что уже беседовал с людьми из Общества Воителей из Верхней Долины, а кто такие, по-твоему, воители, как не люди, которые воюют? А ведь это люди из нашего племени, из Долины Великой Реки На, из Пяти Земных Домов. Но в тех городах они уже лет десять как принимают советы народа Кондора и делятся с ним своей мудростью.
Женщина по имени Старая Пещера (это имя она получила, когда совсем ослепла) проговорила:
– Неужели, Гончий Пес, ты хочешь сказать, что люди этого Кондора больны? Что у них с головами не все в порядке?
– Да, именно это я и хочу сказать, – ответил он.
Кто-то с дальнего конца веранды спросил:
– А что, правду говорят, что у них в племени одни только мужчины?
Гончий Пес ответил:
– Сюда приходят только мужчины. Вооруженные мужчины.
– Но послушайте! – воскликнула Ракушка. – Не могут же они все время только слоняться без дела да курить табак, и так год за годом! Это же полная чепуха! Ну а если кто-то из жителей больших городов Верхней Долины хочет вести себя как пятнадцатилетний мальчишка, бегать и играть в войну, нам-то что за дело? Мы-то ведь здесь живем, не там. Нам только и нужно сказать этим чужеземцам: ступайте себе мимо.
Танцующая Мышь, спикер нашей хейимас, возразил ей:
– Они не могут причинить нам зла. Мы ходим по одним и тем же кругам спирали.
– А они наш круг раскручивают! – заявил Гончий Пес.
– И все равно держитесь своего круга спирали, – сказал Танцующая Мышь. Это был добрый сильный человек. Мне хотелось слушать его, а не Гончего Пса. Я сидела, привалившись спиной к стене дома, и боялась выползти из-под крыши, потому что открытое небо пугало меня. Вдруг я заметила что-то у самых своих ног на полу; в лунном свете это было похоже на щепку или обрывок ленты. Я подняла его с пола. Это было оно. Темное, твердое, тонкое и длинное. Я все поняла: это было то самое слово, которое я должна была на– учиться выговаривать.
Я встала и отнесла его Старой Пещере, сунув ей в руку со словами:
– Возьми, пожалуйста, это для тебя.
Мне хотелось поскорей от него избавиться, но Старая Пещера, хоть и была очень дряхлая и слабая, отличалась удивительной мудростью.
Она ощупала перо, а потом протянула его мне и сказала:
– Ты храни его, Северная Сова. Это слово сказано для тебя. – Ее глаза в лунном свете смотрели прямо сквозь меня; для нее я была словно внутренностью той, видимой ей одной «пещеры». Пришлось взять перо обратно.
Тогда она сказала уже добрее:
– Не бойся. Твои руки – руки ребенка, они гонят воду сквозь круги спирали и ничего не задерживают, все выпускают. Они очищают. – Потом Старая Пещера начала раскачиваться всем телом, закрыла свои слепые глаза и лишь спустя некоторое время проговорила: – Ах, дочь Кондора, когда-нибудь в пустыне вспомни о бегущих ручьях! Ах, дочь Кондора, в темном доме вспомни о священном сосуде из синей глины.
– Я не дочь Кондора! – возмутилась я.
Но старуха лишь открыла глаза, засмеялась и сказала:
– А сам Кондор, похоже, утверждает обратное.
Я повернулась и хотела убежать, расстроенная и пристыженная, но Старая Пещера остановила меня:
– Сохрани это перо, детка, пока не сможешь вернуть его владельцу.
Я пошла домой и сунула черное перо в корзинку с крышкой, которую сплела для меня мать, чтобы я хранила там всякие свои драгоценности и «секреты». Рассмотрев перо при свете лампы – черное, как смерть, длиннее, чем у орла, – я вдруг почувствовала некоторую гордость оттого, что перо попало именно в мои руки. Если так уж обязательно быть не такой, как все остальные, то пусть отличие это будет исполнено благородства, подумала я.
Моя мать ушла в Общество Крови, бабушка до сих пор была в хейимас. За юго-западными окнами слышался дробный, словно падающий с небес дождь, перестук барабанов. За окнами, выходившими на северо-восток, где-то на дубах гукала маленькая сова: у-угу-угу. Я так и уснула в одиночестве, думая о кондоре и слушая сову.
В первый же день праздника Вина в Синшан пришли жители Мадидину и сообщили, что много людей Кондора спускаются в Долину со стороны Чистого Озера. Перед Танцем Вина мой побочный дед Девять Целых отправился на сбор винограда, и я пошла вместе с его семьей. Когда мы собирали виноград, к нам все время подходили люди и рассказывали, что люди Кондора движутся сюда по Старой Прямой Дороге, и мы пошли посмотреть, как они идут. Я еще помнила, насколько впечатляюще они выглядят, однако то, что предстало перед моими глазами в тот раз, было похоже на фреску, выполненную яркими красками и чрезвычайно насыщенную персонажами: рядами – черно-красные головы Кондоров, подковы огромных лошадей, ружья, колеса повозок. Причем на той «фреске», что до сих пор сохранилась в моей памяти, колеса не вращались.
Когда мы вернулись в Синшан, праздник уже начался, и к вечерней заре пили уже все и вовсю. Люди из Дома Желтого Кирпича смеялись и танцевали на площади и уже начали выбивать в пыли кнутами изображение хейийя-иф, а люди из других Домов тоже пили, стремясь поскорее нагнать их. Кое-кто из детей присоединился было к танцующим, однако Танец вскоре стал похож на большую свару, так что детей, еще не сменивших свои первые имена, отправили по домам, и все мы устроились на балконах и верандах – любоваться тем, как взрослые утрачивают разум. Полоумный Дада из Старого Красного дома хоть и считался уже взрослым, но тоже пошел вместе с нами. Раньше я никогда так долго не смотрела, как празднуют Танец Вина: мне всегда было страшно и противно. Теперь же, когда мне исполнилось девять, я вполне могла смотреть на все это. И я увидела настоящее Превращение. Все, кого я хорошо знала раньше, превратились в совершенно неведомые мне существа. Городская площадь была залита белым лунным светом и светом костров и прожекторов и битком забита танцующими и кривляющимися взрослыми людьми. Многие взрослые играли в «достань палочку» и лазили вверх и вниз по приставным лестницам на крыши домов и балконы, даже залезали на деревья; их тени мелькали в темноте, они громко смеялись и кого-то звали. Целитель из Дома Обсидиана по имени Пик, застенчивый мрачноватый человек, сходил в свою хейимас, принес оттуда один из тех больших пенисов, которыми Кровавые Клоуны пользуются во время Танца Луны, нацепил на себя и бегал так повсюду, с самым непристойным видом набрасываясь сзади на каждую встречную женщину. Когда он сунулся было к Кукурузной Метелке, она, зажав ужасный предмет между ногами, резко прыгнула вперед, и веревка, которой он был привязан, оборвалась. Пик с размаху упал лицом в грязь, а она убежала, держа его игрушку в руке и вопя в полном восторге:
– А я докторское лекарство заполучила!
Я видела орущего что-то Агата и всегда такую важную и достойную Ракушку, теперь совершенно перепачканную, явно после падения на землю, и свою бабушку Бесстрашную я тоже видела – танцующей с бутылкой вина.
Потом из хейимас Желтого Кирпича появился первый из Доумиаду Охве, который пересек центральную площадь, все раскручиваясь и раскручиваясь, пока его крылатая голова не закачалась где-то над прожекторами и кострами на высоте в три человеческих роста. Все застыли, когда Доумиаду Охве начал плести свой сложный танец, а потом разом заговорили барабаны, запели люди, следуя за Доумиаду Охве, который, извиваясь, тянулся между домами по тропам, от одного жилища к другому. В тот вечер я выпила намного больше вина, чем когда-либо прежде, и понимала, что мне следует крепче держаться за перила балкона, если я не хочу потерять равновесие и свалиться. Доумиаду Охве, свиваясь в кольца, спустился между деревьями от Дома На Холме, все ближе подбираясь к нашему дому Высокое Крыльцо. Его желтая голова немного повисела в воздухе у нашего балкона, глаза поглядели на каждого из нас поочередно, и внутри каждого огромного его глаза словно горел в глубине еще один, яркий и маленький. Потом Доумиаду Охве проследовал дальше, весь извиваясь и раскачиваясь в такт барабанному бою. Дада скрючился на полу, спрятав лицо. Маленький мальчик из нашего дома по имени Утренний Жаворонок расплакался от страха, и пока я его успокаивала, другой малыш сказал:
– Посмотри, а это еще кто такие?
Какие-то люди перешли по мосту через ручей и стояли в дубовой роще на холме. Одетые в черное, высокие и неподвижные, они были похожи на стервятников, глядящих вниз с ветвей дерева.
Люди смотрели на них и продолжали веселиться. Доумиаду Охве уже возвращался назад, к площади для танцев, и флейтисты возглавляли толпу танцующих, исполнявших особый танец с притопываниями. Какая-то женщина из Дома Желтого Кирпича поднялась к тем людям в черном и о чем-то заговорила с ними, размахивая руками, а потом увлекла их вниз, на городскую площадь, где на козлах были установлены бочки с вином. Четверо из них остались на площади и стали пить вино, а пятый вернулся, прошагав через всю площадь, мимо пылающих костров, сквозь толпу танцующих, к дому Высокое Крыльцо. Глядя вниз с балкона, я вдруг увидела свою мать Ивушку: она шла прямо навстречу этому человеку через центральную площадь, и у нижней ступеньки нашего крыльца они встретились.
Я бросилась в дальнюю комнату. Вскоре я услышала на лестнице шаги, и они вошли в гостиную, где у нас был камин. Мать окликнула меня. Пришлось выходить. Он стоял посреди комнаты. Его черные крылья свисали до полу, а красная голова с клювом касалась потолка.
Мать сказала:
– Северная Сова, твой отец голоден. У нас в доме найдется какая-нибудь пристойная еда?
Так всегда говорили у нас в Синшане, когда в дом приходили гости, а гостю в этом случае полагалось отвечать: «Лишь сердце мое изголодалось от желания видеть вас!», ну а потом накрывали на стол, садились и ели все вместе. Но мой отец не знал, что нужно ответить. Он молча стоял и смотрел на меня сверху вниз. Мать быстро шепнула, чтобы я разогрела кукурузу и фасоль, что стояли на плите. Занимаясь ужином, я все время украдкой поглядывала на нашего гостя и в конце концов поняла, что лицо-то у него человеческое. Я ведь тогда еще не совсем была уверена, действительно ли у него голова кондора или это такой особый головной убор. Оказалось, что это шлем, и когда он его снял, я снова осторожно посмотрела на него. Он оказался очень красивым мужчиной, с длинным носом, высокими скулами и удлиненными глазами. Он все время смотрел на мою мать Иву. Она зажгла масляную лампу, которую мы обычно ставили на стол во время трапезы, и вдруг стала такой красивой, что я даже не сразу поверила, что вижу перед собой именно ее, а не какую-то прекрасную незнакомку из Четырех Небесных Домов, что несет в своих руках свет. Они немного поговорили, насколько это было возможно, ибо отец мой знал только отдельные слова и выражения нашего языка. Не так уж много чужестранцев приходило в Синшан за мою недолгую жизнь, однако я слышала речь торговцев с северного побережья и людей из народа Амарант с берегов Внутреннего Моря, и все они говорили примерно так же, как мой отец, – пытаясь носить воду решетом, как говорится в пословице. То, как он ощупью пробирался сквозь дебри нашего языка, теряя при этом смысл сказанного, было довольно смешно, и я увидела, что он обыкновенный человек, каким бы необычным ни было его обличье.
Мать налила нам троим вина, и мы вместе сели за стол. Мой отец оказался таким огромным и длинноногим, что наш стол рядом с ним представлялся игрушечным.
Он съел всю кукурузу и всю фасоль, которые я разогрела, и похвалил меня:
– Очень хорошо! Хорошо готовишь!
– Северная Сова у нас и хорошо готовит, и хорошо пасет овец, а еще она умеет читать и уже совершила одно восхождение на Гору, – сказала моя мать. Поскольку хвалила она меня редко, голова у меня от гордости закружилась так, словно я в одиночку осушила целый кувшин вина. А она между тем продолжала: – Если ты вполне насытился, муж мой, то выходи из-за стола и выпей еще вина. Мы все сегодня пьем вино и танцуем. Сегодня праздник Вина, и я хочу, чтобы все в нашем городе тебя видели! – Она говорила и смеялась. Он посмотрел на нее, похоже, не совсем понимая, что она говорит, однако с такой любовью и восхищением, что у меня на сердце потеплело и я стала смотреть на него ласковее. Мать ответила на его взгляд улыбкой и сказала: – Пока тебя здесь не было, многие твердили мне, что ты ушел навсегда. А теперь, когда ты здесь, я хочу показать им всем, что ты вернулся.
– Да, я вернулся, – сказал он.
– Ну так пошли, – сказала она. – И ты тоже, Северная Сова.
– Как ты называешь ребенка? – спросил мой отец.
Мать повторила мое имя.
– Я не ребенок, – сказала я.
– Девочка, – сказала моя мать.
– Девочка, – повторил он, и все мы рассмеялись.
– А что такое «сова»? – спросил он.
Я объяснила, что это такая птица и что маленькая сова кричит так: у-угу-угу!
– Ага! – сказал он. – Сова. Ну пошли, Сова. – И он протянул мне свою руку. Я никогда даже не видела такой огромной руки. Но взяла его за руку, и мы – мать впереди, а мы следом за ней – пошли вниз и присоединились к танцующим.
В ту ночь моя мать Ива была просто воплощением красоты и очарования. Она была горда, она была великолепна! Она пила вино, однако не вино делало ее такой великолепной, такой величественной, просто наружу вырвалась та сила, что в течение девяти лет была заперта в ней.
Она танцует, танцует, танцует,
Пришла – и танцует,
Улыбается людям,
И смех ее вспыхивает и гаснет,
Как свет костров на речных берегах.
Бабушка в ту ночь напилась пьяной и выглядела очень неопрятно. Она провела ночь где-то в амбаре, играя в азартные игры. Когда я устала и решила лечь спать, я вытащила свою постель на балкон, чтобы мать и отец могли остаться в комнатах одни. Мне приятно было думать об этом, засыпая, и шум, царивший во всем городе, совершенно мне не мешал. Дети в других семьях всегда спали на балконе или в соседском доме, когда их родители хотели остаться наедине, и вот теперь я тоже была как все. Подобно тому как котенок подражает остальным котятам, ребенок тоже стремится поступать, как все дети, причем желание это столь же сильно, сколь и неосознанно. Поскольку нам, людям, всему в жизни нужно учиться, мы должны начинать именно с подражания, однако настоящий разум пробуждается в человеке только тогда, когда исчезает это детское желание быть как все.
Примерно за год до того, как я начала писать эту историю – люди из Общества Земляничного Дерева попросили меня об этом, – я пошла к Щедрой, дочери Ярости, которая пишет всякие истории, и спросила, не может ли она научить меня, как их писать, потому что я понятия не имела, как за это взяться. Помимо всяких разных вещей, которые Щедрая мне посоветовала, она сказала, что, когда я буду писать свою историю, надо постараться представить себя такой, какой я была в те времена, о которых пишу. Это оказалось гораздо легче, чем я думала, пока я не дошла до этого вот места, вот до этого самого, когда мой отец появился в нашем доме.
Трудно уже вспомнить, как мало я тогда понимала. И все-таки совет Щедрой был очень хорош; ибо теперь, когда мне известно, кто был мой отец, почему он оказался в нашем городе и зачем пришел туда, кто такие люди Кондора и чем они занимаются, теперь, когда я обладаю всем этим знанием, именно мое детское невежество, само по себе никакой особой цены не имеющее, представляется бесценным, полезным и даже могущественным. Мы должны учиться всему, что можем узнать, но должны все время помнить, что наши знания не замыкают круг, а лишь прикрывают бездонную пропасть незнания, так что мы забываем о том, что неведомое безгранично, не имеет ни пределов, ни дна, а то, что мы знаем сейчас, вполне возможно, будет опровергнуто теми новыми знаниями, которые мы получим. То, что видишь одним лишь глазом, должной глубины не имеет.
Печальнее всего в жизни моих родителей то, что они всегда могли видеть только одним глазом.
Меня же печалило вот что: я была как бы наполовину одно существо, а наполовину другое, но в целом ни то ни другое. Это больше всего угнетало меня в детстве, однако, когда я стала взрослой, именно это неожиданно пробудило во мне неведомые новые силы.
Одним глазом я видела Ивушку, дочь Бесстрашной из Дома Синей Глины, живущую в Синшане и ставшую женой «человека, не имеющего Дома», у которой была дочь и восемь овец, несколько плодовых деревьев и небольшой питомник саженцев. Если бы у нее в семье был мужчина, работник, можно было бы посадить большой сад и собрать куда больший урожай и, разумеется, куда больше давать, чем брать из общего хранилища, ибо давать – само по себе уже огромное удовольствие. И тогда можно было бы жить, будучи всеми уважаемыми и без всякого стыда.
Другим глазом я видела Тертера Абхао, Подлинного Кондора, командующего Южной Армией, который вместе со своими войсками на осень и зиму получил отпуск в ожидании распоряжений относительно грядущей весенней кампании. Он привел триста своих воинов в Долину Великой Реки На, потому что знал, что жители здесь сговорчивые, живут в достатке и хорошо примут его людей, и еще потому, что здесь, в одном из небольших городков, девять лет назад он оставил любимую девушку – он тогда командовал всего лишь пятью десятками воинов, и это был его первый поход на Юг, – но девушки той он не забыл. Девять лет – срок долгий, и девушка та, без сомнения, уже вышла замуж за какого-нибудь местного земледельца и родила целый выводок малышей, однако, несмотря на это, он непременно хотел зайти в тот городок и повидать ее.
Итак, он явился и обнаружил, что у него есть дом, где приветливо пылает очаг, готов обед, а жена и дочь рады его видеть.
Вот уж чего он не знал, так не знал!
И с первой ночи Танца Вина отец стал жить в нашем доме. Жители Синшана не желали ему зла, поскольку он был мужем Ивушки и все-таки к ней вернулся, но ни один из Домов Земли его не принял. Хотя у нас в Синшане жил один такой человек, что был родом даже не из Долины; звали его Путешественник, и он поселился в доме Синие Стены давно, лет тридцать назад, когда пришел сюда с северного побережья вместе с торговцами, да так и остался в Долине, женившись на Дикой Розе из Дома Желтого Кирпича; и его пускали даже в хейимас Змеевика. Ну а в больших городах, разумеется, таких людей много. Вот в Тачас Тучас, говорят, вообще все жители пришлые, откуда-то с севера, в принципе тоже «не имеющие Дома», хоть и явились сюда неведомо сколько сотен лет назад. Не знаю, почему моего отца не принимали ни в один Дом, но догадываюсь, что так было решено на советах в хейимас. Ему приходилось много учиться, учить все то, что знал в Долине любой ребенок, а он ни за что не желал с этим мириться, он был уверен, что и так знает все, что ему необходимо. Дверь редко сама открывается навстречу человеку, который сердито ее захлопнул. А может, он даже и не знал, что такая дверь существует. Слишком был занят.
Через советы Домов и Общество Сажальщиков четырех городов Нижней Долины он отлично разместил три сотни своих людей. Для устройства лагеря и выпаса лошадей им были переданы Эвкалиптовые Пастбища на северо-восточном берегу Реки На, ниже Унмалина. Четыре города согласились выделить из своих запасов и отдать им некоторое количество зерна, картофеля и бобов и позволили охотиться повсюду от северо-восточного хребта до Соленых Болот, ловить рыбу в Реке ниже впадения в нее Ручья Кими, а также собирать раковины на восточном берегу На ближе к ее устью. Это было немало, но, как говорится у нас в Долине, нет большего удовольствия, чем дарить, так что, хотя прокормить три сотни человек было нелегко, все относились к этому спокойно, считая, что воины покинут Долину после Танца Солнца и еще до Танца Вселенной.
Мне и в голову никогда не приходило, что и отец мой тоже уйдет с ними вместе. Он наконец жил с нами, дома, наша семья стала целой, настоящей; теперь все было так, как и должно быть, все пришло в равновесие, все стало на свои места и ни за что не должно было измениться.
Кроме того, отец разительно отличался от всех пришельцев, что жили в лагере. Он говорил на языке кеш, жил в семье и имел здесь родную дочь.
Когда он впервые взял меня с собой на Эвкалиптовые Пастбища, я не была уверена, что эти воины действительно люди. Они были одеты совершенно одинаково и выглядели тоже одинаково, словно стадо каких-то животных, и они не говорили ни слова на том языке, который знала я. А стоило им подойти к моему отцу, как они либо шлепали себя рукой по лбу, либо, но не всегда, даже падали перед ним ниц, словно хотели рассмотреть пальцы у него на ногах. Я думала, что, может, они сумасшедшие или просто дураки какие-то и что единственный настоящий человек среди них всех – это мой отец.
Однако среди жителей Синшана глупым как раз порой казался именно он, хотя мне ужасно не хотелось в это верить. Он не умел ни читать, ни писать, ни готовить еду, ни танцевать, а если и знал какие-то песни, то слов в них не понимал никто; он не работал ни в мастерских, ни на винокурнях, ни в зернохранилищах и ни разу даже не прошел по полям; и хотя он весьма часто выражал желание пойти на охоту вместе с другими, лишь самые беспечные из охотников соглашались на это, потому что он никогда не пел хейю оленю и не обращался к Смерти с подобающими случаю словами. Сперва охотники приписывали это его неведению и делали все за него сами, но когда увидели, что он упорно не желает учиться вести себя должным образом, они совсем перестали брать его с собой. Лишь однажды он оказал нашему городу сколько-нибудь заметную услугу – когда потребовался ремонт хейимас Красного Кирпича. Их спикер был человеком суровым и не любил прибегать к помощи обитателей других Домов, а поскольку мой отец вообще не имел Дома, то как бы не было причин не принять его помощь, а помощь он мог оказать немалую, ибо был очень силен. Но эта работа не принесла ему радости, а люди, увидев, как он может и умеет работать, стали без конца приставать к нему с вопросами, почему это он до сих пор делал так мало и плохо.
Моя мать старалась держать язык за зубами, однако не могла полностью скрыть своего презрения к мужчине, который не желал ни пасти скот, ни возделывать землю, ни даже просто рубить дрова. А отец, несмотря на то что сам открыто презирал и пастухов, и земледельцев, и дровосеков, обнаружил вдруг, что презрение Ивушки его задевает. Однажды он сказал ей:
– У твоей матери ревматизм. Ей не следует возиться в этой грязи, под дождем, копая картошку. Оставь ее дома, пусть прядет в тепле. Я заплачу какому-нибудь молодому парню, и он мигом выкопает на вашем участке всю картошку.
Мать только рассмеялась. Я тоже: это уж просто ни на что не было похоже!
– Вы ведь такими деньгами пользуетесь, верно? Я такие здесь видел, – сказал отец, протягивая на ладони целую горсть самых различных монеток с обоих побережий.
– Да, конечно, мы тоже пользуемся деньгами. Но для того, чтобы давать их людям, которые ставят для нас спектакли, танцуют, или декламируют стихи, или готовят для нас большие праздники. И ты это прекрасно знаешь! А ты хоть раз в жизни сделал что-нибудь такое, чтобы тебе за это заплатили? – спросила моя мать и снова засмеялась.
Он не знал, что ответить.
– Деньги – это особая почесть, это знак того, что ты богат. – Мать пыталась объяснить ему, но он ничего не понимал, и она в итоге сказала: – Ну, довольно о деньгах, поговорим лучше о нашем саде. Видишь ли, у нас слишком маленький участок, чтобы просить кого-то разделить с нами наши труды. Мне, во всяком случае, было бы стыдно.
– Тогда я приведу кого-нибудь из своих людей, – пожал плечами отец.
– Чтобы они работали в нашем саду? – удивилась мать. – Но ведь эти земли принадлежат Дому Синей Глины!
Отец выругался. Нехороших слов он почему-то набрался в первую очередь и ругался отменно.
– Синяя глина, красная глина – какая разница! – заорал он. – Любой дурак сумеет копаться в черной грязи!
Мать некоторое время молча пряла, а потом проговорила:
– Нет, так разговаривать невозможно! – Она снова засмеялась. – Если копаться в земле может каждый дурак, то почему этого не можешь ты, мой дорогой?
– Я не тьон, – сухо сказал отец.
– А что это такое?
– Человек, который копается в земле.
– Земледелец?
– Я не земледелец, Ивушка. Я командующий войском, тремя сотнями людей, я… Существуют такие вещи, которые мужчина может делать, и такие, каких он делать не может. Ты, конечно же, понимаешь это!
– Конечно, – сказала мать, глядя на него с восхищением. Так что никто из них друг друга так и не понял, но все-таки ни злобы, ни обид не последовало: их любовь и удивительная схожесть характеров не давали злу укорениться меж ними и все время гнали его прочь, точно мельничные колеса воду.
Когда воины строили мост через Великую Реку, отец брал меня с собой на Эвкалиптовые Пастбища каждый день. Его бурый мерин был примерно в два с половиной раза выше любой самой крупной лошади в Долине. Сидя верхом на этом коне, да еще в седле с высокой лукой, да еще перед таким великаном в шлеме кондора, я чувствовала себя не просто девочкой, а совсем иным существом, редким и куда более замечательным, чем обычные люди. Я внимательно слушала и смотрела, как отец разговаривает со своими воинами: каждое его слово воспринималось как приказ, которому следовало беспрекословно подчиняться. Здесь никто никогда ни о чем не спорил. Отец просто отдавал приказ, и тот, кому он его отдавал, шлепал себя ладонью по глазам и по лбу и бросался исполнять, что бы ему ни велели. Мне было приятно видеть это. Я все еще побаивалась людей Кондора. Все они были мужчины, все очень высокие, в странных одеяниях, пахнувших тоже непривычно, все были вооружены, и ни один не говорил на моем родном языке; когда они мне улыбались или заговаривали со мной, я вся съеживалась от страха и смотрела в землю, но не отвечала.
Однажды, еще в самом начале работ по строительству моста, отец научил меня одному слову из своего языка – пайз, что означало «давай». Когда он подавал знак, я должна была крикнуть «Пайз!» изо всех сил, и воины роняли копер на очередную сваю. Я слышала свой тонкий пронзительный голос и видела, как десять сильных мужчин снова и снова подчиняются моему приказанию. Так что сперва я испытывала только невообразимый восторг от того, что повелеваю силой, во много раз превосходящей мою собственную. Согласитесь, это приятно не только при работе с копром, но и при решении совсем иных вопросов. И вот, будучи, так сказать, копром, а не забиваемой в землю сваей, я считала, что это восхитительно.
Однако по поводу строительства моста возникли серьезные разногласия с жителями Долины. С тех пор как воины Кондора разбили лагерь на Эвкалиптовых Пастбищах, в Синшан стали постоянно приходить люди из Верхней Долины; они прогуливались мимо лагеря или просто стояли неподалеку на холмах, над виноградниками Унмалина – не охотились, а просто слонялись поблизости. Все они были членами Общества Воителей. Люди в Синшане говорили о них неохотно, однако с затаенным восхищением – например, некоторые восхищались тем, что Воители каждый день курят табак и у каждого из них есть собственное ружье. Мой троюродный брат Хмель, который недавно вступил в Общество Благородного Лавра, больше уже не позволял Пеликану и мне быть дикими собаками, когда мы играли; мы должны были быть людьми Кондора, а он – Воителем. Но я сказала, что Пеликан не может быть Кондором, потому что она не Кондор, а Пеликан, а я – могу, хотя я только отчасти Кондор. Моя сестра на это сказала, что она и так не желает быть никаким Кондором, что это глупая игра, и отправилась домой. А мы с Хмелем целый день охотились друг за другом в холмах с палками, заменявшими нам ружья, и с воплями: «Пух! Ты убит!» Как раз в такую игру, видимо, и хотели поиграть те взрослые люди, что бродили и стояли без дела вокруг Эвкалиптовых Пастбищ. Хмель и я прямо с ума по этой игре сходили и играли в нее целыми днями, вовлекая и других детей, пока моя бабушка не заметила, чем мы занимаемся. Она очень рассердилась. О самой игре, правда, она ничего не сказала, но заставила меня колоть и чистить грецкие орехи и миндаль, пока у меня уже руки не начали отваливаться. Она мне сказала, что если я еще хоть раз пропущу занятия в хейимас до наступления каникул, то уж точно вырасту суеверной, злой, тупоумной, вредной и трусливой девчонкой; впрочем, прибавила она, если мне действительно хочется стать такой, то это дело мое. Я понимала, что наша игра ей ужасно не нравится, так что играть в нее, конечно, перестала; мне и в голову не приходило, как ей не хочется, чтобы я ходила на Эвкалиптовые Пастбища с отцом и любовалась, как люди Кондора строят мост.
В следующий раз, когда я отправилась с ним туда, его солдаты не работали: какие-то Воители из Чумо и Кастохи разбили лагерь прямо между сваями будущего моста на берегу Реки. Некоторые из людей Кондора очень сердились, сразу было видно: они просили моего отца разрешить им силой выгнать жителей Долины с этого места. Но он не разрешил и пошел разговаривать с этими Воителями. Я было двинулась следом, но он меня отослал и велел присмотреть за его конем, так что понятия не имею, что они там ему сказали, но вид у него, когда он вернулся, был прямо-таки свирепый, и он еще довольно долго говорил о чем-то со своими офицерами.
В ту же ночь Воители сняли лагерь, работа на мосту пошла своим чередом и продолжалась вполне мирно еще дня два, так что отец снова согласился взять меня с собой на Пастбища. Но когда мы туда приехали, нас уже поджидали представители городов Долины. Они собрались под крайними эвкалиптами в двойном ряду этих деревьев, окружавших пастбище. Несколько человек подошли к нам и начали переговоры с моим отцом. Они сказали, что сожалеют, если несколько невоспитанных юношей вели себя здесь грубо или даже нарывались на ссору; они надеются, что впредь такого не повторится; однако, сказали они, поразмыслив хорошенько, большая часть жителей Долины пришла к выводу, что решение строить мост над Рекой было ошибкой, ибо его приняли, не посоветовавшись ни с самой Рекой, ни с людьми, что живут на ее берегах.
Отец ответил, что людям Кондора нужен этот мост, чтобы перевозить свои припасы через Реку.
– Есть ведь и другие мосты – в Мадидину и Унмалине, например; есть и паромы – близ Голубой Скалы и Круглого Дуба, – сказал кто-то из жителей Долины.
– Они не выдержат тяжести наших грузов.
– В Телине и Кастохе есть каменные мосты.
– Слишком большой крюк придется делать.
– Твои люди могут переправить свой груз через Реку на паромах, – сказал Солнечный Ткач из Кастохи.
– Солдаты не должны носить грузы на собственных спинах, – сказал мой отец.
Солнечный Ткач некоторое время обдумывал его слова, потом сказал:
– Ну что ж, если они захотят есть, то, может быть, научатся хотя бы пищу для себя приносить на спине.
– Мои солдаты здесь отдыхают. А для доставки пищи существуют повозки. Если наши повозки не смогут переправиться через Реку, ваши люди должны будут снабжать нас едой.
– Обойдетесь! – сказал какой-то незнакомец из Тачас Тучас.
Солнечный Ткач и остальные уставились на него. Воцарилось молчание.
– Мы строили мосты во многих местах. Люди Кондора – не только храбрые воины, но и великие инженеры. Дороги и мосты вокруг Столицы Кондора – чудо нашего века.
– Если бы в этом месте требовался мост, он бы уже непременно был здесь построен, – сказала Белый Персик из Унмалина. Отцу явно было неприятно, что женщина в присутствии его солдат заговорила с ним первой, и он промолчал. Снова повисла напряженная тишина.
– По нашему общему мнению, – вежливо сказал Солнечный Ткач, – этот мост здесь никак не на месте.
– Но вас связывает с Югом лишь ваша жалкая рельсовая дорога с шестью деревянными вагончиками! – сказал мой отец. – А мост откроет вам путь прямо к… – Он не договорил.
Солнечный Ткач кивнул.
Отец мой крепко подумал и сказал:
– Послушайте. Моя армия здесь вовсе не для того, чтобы как-либо вредить жителям Долины. Мы с вами воевать не собираемся. – При этом он раза два растерянно оглянулся на меня, потому что все свои силы тратил на то, чтобы подыскать нужные слова. – Но вы должны понять, что народ Кондора правит всем Севером и что теперь вы живете под сенью Его крыла. Повторяю: я не вестник войны. Я пришел лишь для того, чтобы расширить и улучшить ваши дороги и построить всего один мост, хороший, широкий мост, а не такой, по которому с трудом может пройти какая-нибудь здешняя толстуха! Видите, я строю его вдали от ваших городов, где он мешать вам не будет. Но и вы не должны стоять у нас на пути. Вы должны идти с нами вместе, рука об руку.
– Мы ведь люди оседлые, а не какие-то перекати-поле, – сказал Землекоп из Телины, спикер тамошней хейимас Синей Глины, человек всеми уважаемый, спокойный, один из лучших в Долине ораторов. – Человеку не нужны ни широкие дороги, ни мосты, чтобы перейти из одной комнаты своего родного дома в другую, верно ведь? А эта Долина и есть наш дом, здесь мы живем, здесь мы рады принять гостей, чей дом находится вдали от нашего, если они по пути заглядывают к нам.
Отец некоторое время переваривал его ответ, потом громко и отчетливо провозгласил:
– Я от всей души желаю быть вашим гостем. Вы знаете, что здесь и мой дом! Но я служу Великому Кондору. Я получил от него приказ. Так что это решение не мое и не ваше, не нам его и менять. Вы должны понять меня.
Тот нахальный тип из Тачас Тучас только покрутил головой, потом ухмыльнулся и отошел в сторону, показывая, что считает бессмысленным продолжать подобный разговор. И еще двое-трое последовали его примеру; но тут вперед выступила Обсидиан из Унмалина. Она тогда была единственным человеком во всех девяти городах Долины, которого назвали именем собственного Дома. Обсидиан лучше всех исполняла Танец Луны и Танец Крови; она была не замужем, занималась любовью с женщинами; считалось, что она наделена большой властью. Она сказала:
– Послушай меня, детка. По-моему, ты не ведаешь, что творишь. Но я думаю, ты еще сумел бы научиться кое-что понимать, если бы сперва выучился читать.
Этого, да еще в присутствии своих солдат, мой отец вынести не смог. И хотя они по большей части не поняли, что говорила Обсидиан, но насмешку в ее голосе уловили, как и ее повелительный тон. И отец не сдержался:
– Помолчи-ка, женщина! – рявкнул он и, глядя мимо нее на Солнечного Ткача, прибавил: – На этот раз я велю пока что прекратить работы на мосту, поскольку не хочу никаких раздоров. Мы сделаем только деревянный настил, чтобы переправить повозки, и снимем его, когда будем уходить отсюда. Но мы вернемся! И, возможно, куда большая армия, по крайней мере, тысяча человек, пройдет тогда через Долину. И дороги здесь будут расширены, а мосты построены. Не будите же гнев Кондора! Позвольте его народу… позвольте Кондору свободно летать над Долиной, подобно тому как вода протекает меж лопастями мельницы.
Отец даже головы в мою сторону не повернул. Всего за несколько месяцев он уже почти постиг образ Воды. Ах, если б только он родился здесь, в Долине, если б он остался здесь и жил с нами! Но, как говорится, он был что вода под мостом: не удержишь.
Обсидиан в гневе пошла прочь, и все жители Унмалина последовали за ней, осталась только Белый Персик, которая, набравшись мужества, вышла вперед и заговорила снова:
– Но в таком случае, по-моему, жители наших городов должны помочь этим людям перевезти еду, которую мы им даем; странно ставить какие-то условия, если даришь что-то.
– Это верно, – поддержал ее Землекоп; к нему присоединились еще несколько человек из Мадидину и один из Тачас Тучас. И Землекоп прибавил с улыбкой из «Песни Воды»: – Мосты падают, а Река бежит… – и протянул моему отцу свои руки ладонями вверх, снова улыбнулся и отступил назад. Те, кто стоял с ним рядом, сделали то же самое.
– Вот и хорошо, – сказал отец. Быстро повернулся и пошел прочь.
Я стояла, не зная, в какую же сторону пойти мне самой: то ли с отцом, то ли с жителями Синшана. Я отлично понимала, что, хоть приличия были соблюдены, обе стороны едва сдерживали гнев и ни о чем в общем-то так и не договорились. Слабого ведет за собой слабость, а я была всего лишь ребенком; и я последовала за своим отцом, но при этом зажмурилась – так мне казалось, что меня никто не видит.
Строительство стали сворачивать на скорую руку. Солдаты быстро делали деревянный настил, способный выдержать их повозки, а жители Долины доставляли припасы – по нескольку мешков или корзин сразу – и складывали их в сарае для сушки фруктов, куда легко можно было подъехать, чтобы перевезти продукты на тот берег. Но Воители продолжали слоняться группами вокруг, наблюдая за лагерем Кондора, а многие жители Унмалина вообще отказались давать что-либо людям Кондора или разговаривать с ними; они даже смотреть в их сторону не хотели и стали часто собираться в Обществе Воителей. Обсидиан из Дома Обсидиана, которая была родом из Унмалина, тогда стала главной выразительницей их недовольства.
В Тачас Тучас какая-то девушка из Дома Обсидиана подружилась с одним из людей Кондора и пожелала стать его женой; но, поскольку ей было всего семнадцать и кое-какие слухи ее пугали, она попросила разрешения на брак в своей хейимас – чего в свое время не сделала моя мать Ивушка. Люди Дома Обсидиана из Тачас Тучас послали своих гонцов в Унмалин, чтобы тщательно обсудить этот вопрос, и танцовщица Обсидиан из Дома Обсидиана сказала:
– Почему все люди у Кондора мужчины? А где же его женщины? Может, они уродины или сделаны из дерева? А может, они двуполые, как гинкго? Нет уж, пусть люди Кондора и женятся, и рожают, как там им самим нравится. А мы не допустим, чтобы дочь нашего Дома взяла себе в мужья бездомного!
Я только слышала об этом, но так и не знаю, согласилась ли та девушка с подобным требованием или продолжала ходить на свидания со своим молодым солдатом. Но, разумеется, замуж она за него не вышла.
Между Танцами Травы и Солнца члены Общества Воителей из Верхней и из Нижней Долины провели несколько очистительных обрядов на Старой Прямой Дороге и на берегах Реки На. Во всех городах мужчины начали вступать в Общество Воителей, пока люди Кондора оставались в Долине. Сын моего побочного деда и его родной внук тоже вступили в это Общество, поэтому вся их семья была занята тем, что ткала для них специальные одежды – особые туники и плащи с капюшонами из темной шерсти, похожие на те, что носили солдаты Кондора. В Обществе Воителей своих Клоунов не было. Когда несколько Кровавых Клоунов из Мадидину явились на один из их очистительных обрядов, Воители, вместо того чтобы вместе с ними пускать воздушных змеев или просто не обращать на них внимания, стали их толкать и прогонять. Получилась даже небольшая драка, и было немало обид.
Вокруг этих Воителей вечно витало какое-то сексуальное напряжение, и вечно они со всеми ссорились. Некоторые женщины из Синшана, чьи мужья присоединились к Воителям, жаловались на их строгие правила насчет полового воздержания, но другие женщины только над ними посмеивались; зимой обычно столько всяких ритуальных воздержаний и постов для всех, кто хочет танцевать Танец Солнца или Танец Вселенной, что добавление еще одного особой погоды не делало, хотя, возможно, именно оно и было той последней каплей, что переполнила чашу.
В тот год моя бабушка танцевала Танец Внутреннего Солнца, а я впервые праздновала Двадцать Один День и каждую ночь спускалась в хейимас и слушала пение впавших в транс.
Это был странный праздник. Каждое утро в ту зиму наплывал туман, не поднимавшийся даже днем, висел у самой подошвы Горы Синшан, так что мы жили словно под низкой крышей, а по вечерам туман снова сползал в Долину, окутывая ее целиком. И в тот год больше чем когда-либо было Белых Клоунов – именно в тот год! Даже если некоторые из них и пришли в Синшан из других городов, все равно их было слишком много; некоторые, наверно, явились прямо из Четырех Небесных Домов, из Дома Облака или Пумы, по этому влажному белому туману, что скрывал весь окружающий мир. Дети боялись отойти от домов. Даже балконы в сумерках казались им страшными. Даже сидя в гостиной у камина, ребенок мог, взглянув нечаянно в окно, увидеть там белое лицо и уставившиеся на него глаза и услышать, как щелкают чьи-то зубы.
Готовясь к празднику, я посадила свои саженцы в укромном местечке – в лесу, за второй грядой холмов, к северу от города и довольно далеко от дома. Мне ужасно хотелось, чтобы они стали настоящим сюрпризом для матери и бабушки. Оказалось, очень трудно заставлять себя ходить туда в одиночку и ухаживать за растениями в течение Двадцати Одного Дня, особенно потому, что я ужасно боялась Белых Клоунов. Стоило какой-нибудь птичке или белке зашуршать или пискнуть на ветке, как я уже застывала, холодея от страха. Утром, в день солнцеворота я отправилась за своими саженцами в таком густом тумане, что и в пяти шагах ничего разглядеть было невозможно. Каждое дерево в лесу казалось мне Белым Клоуном, готовым меня схватить. Вокруг царила полная тишина. Все буквально тонуло в тишине и тумане. Все было неподвижно среди этих белых холмов. Двигалась лишь я одна. Я промерзла до костей, у меня даже внутри все заледенело. Я зашла в Седьмой Дом, Дом Облака, и не знала, как мне оттуда выбраться. Но упорно шла дальше, хотя лес казался таким таинственным и незнакомым, что мне все чудилось, будто я сбилась с пути. И все-таки я добралась до своих маленьких саженцев! Я спела молитву солнцу, почти не разжимая губ, потому что любой звук казался пугающим в этой неколебимой тиши, выкопала саженцы и пересадила в горшки, которые сама для них сделала, но все время я тряслась от страха, спешила и все делала неуклюже, может быть, даже корни повредила. Теперь мне нужно было отнести саженцы в Синшан. И вот ведь что странно: когда я уже шла по знакомым виноградникам на вершине холма и понимала, что дом совсем близко, я отчего-то вовсе не была рада этому. Словно какая-то часть меня предпочла бы мерзнуть, дрожать от страха и блуждать там, в горах, и остаться в Седьмом Доме, но не возвращаться в дом Высокое Крыльцо. Однако путешествие мое было закончено. Я поднялась на веранду и стуком в дверь разбудила всю нашу семью – навстречу Солнцу. Ивушке я подарила саженец конского каштана, Бесстрашной – саженец дикой розы, а отцу своему – юный дубок из Долины. Этот дуб и сейчас растет там, где мы его тогда посадили, с западной стороны дома – раскидистый, аккуратный, крепкий, с еще не слишком толстыми ветвями. Конский каштан и дикая роза погибли.
До Танца Солнца и некоторое время после него мой отец жил с нами в доме Высокое Крыльцо и каждую ночь ночевал там, а по утрам завтракал с нами. Моя бабушка, которая в тот год танцевала и Танец Солнца, и Танец Вселенной, почти все время проводила в хейимас. Ивушка в тот год не танцевала совсем, а отец, разумеется, не интересовался ни танцами, ни праздниками. Тогда я еще ничего не знала о его народе и считала, что отец вообще никаких обрядов не соблюдает, никаких священных песен не поет и никому в мире не приходится родственником, разве что, может, своим солдатам, которые беспрекословно слушаются его приказов, моей матери и мне. В ту зиму он и Ивушка все свободное время проводили вместе в нашем доме. После праздника Солнца низкие стелющиеся туманы уступили место дождям и холодной изморози со снегом, ложившимся на склоны Горы Синшан и оседавшим на волосах точно мучная пыль, а порой по утрам случались заморозки, и траву покрывал иней. У отца было несколько отличных красных шерстяных ковров, которые он привез с собой, чтобы украсить ими свою палатку; он давно уже перетащил их в наш дом, и теперь ими была украшена наша гостиная. Мне нравилось валяться на них. Они сладко пахли шалфеем и еще чем-то таким, названия чего я не знала: то был запах страны, откуда пришел мой отец, находившейся где-то далеко на северо-востоке от Синшана. У нас было много дров для камина, причем яблоневых, потому что в городе вырубили сразу два старых яблоневых сада, посадив новые. У нашего камина этими долгими вечерами царил мир и покой – как для родителей, так и для меня. Мне вспоминается мать, освещенная пламенем камина, в расцвете своей красоты, как раз на границе «возраста печали». Это было так прекрасно – все равно что смотреть на костер, горящий среди дождя.
Но вот посланники Кондора спустились в Долину, перевалив через горный хребет, и принесли донесение командующему армией.
В тот вечер, после ужина, отец сказал:
– Нам придется уйти еще до вашего Танца Вселенной, Ивушка.
– В такую погоду я никуда не пойду, – откликнулась мать.
– Нет, – сказал он. – Лучше не надо.
Наступило молчание. Зато громко говорил огонь в камине.
– Чего – «лучше не надо»? – спросила мать.
– Когда мы станем возвращаться домой… тогда я лучше за тобой и заеду, – пояснил он.
– О чем это ты? – не поняла мать.
Они снова начали все сначала, он рассказывал ей, как армия Кондора отправится воевать на побережье, а потом будет возвращаться назад и он заедет за ней, а она не желала признаваться, что давно уже обо всем догадалась. В конце концов она сказала:
– Так это действительно правда? Ты говоришь о том, что собираешься покинуть Долину?
– Да, – сказал он. – Но ненадолго. Мы ведем войну с жителями внутреннего побережья. Таков план Великого Кондора.
Она не ответила.
Он сказал:
– Если бы я мог взять тебя с собой, то непременно взял бы, но это, конечно, было бы глупо и чересчур опасно. Если бы я мог остаться… Но нет, этого я не могу. Ты просто подожди меня здесь, хорошо?
Мать встала и отошла от камина. Мягкий красноватый отблеск пламени больше не падал на ее лицо, теперь оно было скрыто в тени. Она сказала:
– Если не хочешь оставаться, уходи.
– Послушай, Ивушка, – сказал он. – Послушай же меня! Неужели это так уж нечестно – просить тебя подождать? Ведь если бы я отправлялся на охоту или с торговцами в дальнюю поездку, разве ты не подождала бы меня? Ведь жители Долины тоже порой ее покидают! И возвращаются назад – и жены в таких случаях ждут своих мужей. Я вернусь. Обещаю тебе. Я твой муж, Ивушка.
Она некоторое время постояла там, словно на границе света и тьмы, потом обронила:
– Когда-нибудь.
Он не понял.
– Когда-нибудь, лет через девять, – пояснила она. – Один разок, может, два. Ты мой муж, но ты и не мой муж. Мой дом – для тебя. Если хочешь, оставайся в нем или уходи. Выбирай.
– Я не могу остаться, – сказал он.
Она повторила тихо, тоненьким голосом:
– Тебе выбирать.
– Я командующий армией Кондора, – сказал он. – Я сам отдаю приказы, но обязан и подчиняться приказам тех, кто выше меня. В этом смысле выбора у меня нет, Ивушка.
Тогда она совсем отошла от камина – скрылась в тени на другом конце комнаты.
– Ты должна понять, – сказал он умоляюще.
– Я понимаю, что ты предпочел не делать никакого выбора.
– Ты не понимаешь! И я могу лишь просить тебя: пожалуйста, подожди меня.
Она не ответила.
– Я вернусь, Ивушка. Сердце мое навсегда здесь, с тобой и нашей девочкой!
Слушая его, она молча стояла у двери, ведущей во вторую комнату. Моя постель была как раз напротив двери, и я видела их обоих и чувствовала, как разрывается надвое ее душа.
– Ты должна подождать меня, – сказал он.
Она ответила:
– Ты уже ушел.
И прошла во вторую комнату и закрыла за собой дверь, которую держали открытой, чтобы от камина туда шло тепло. И стояла в темноте. Я лежала, не шевелясь. Он сказал за дверью:
– Вернись, Ивушка! – Подошел к двери и еще раз окликнул ее по имени, позвал сердито, в голосе его слышалась боль. Она не ответила. Мы обе точно застыли. Прошло довольно много времени, в той комнате было тихо. Потом мы услышали, как он резко повернулся, отошел от нашей двери, выскочил из гостиной и загрохотал по лестнице.
Мать прилегла рядом со мной. Она ничего не сказала и лежала совершенно неподвижно; и я тоже. Мне не хотелось вспоминать сказанное ими. Я попыталась заснуть, и вскоре мне это удалось.
Утром мать свернула красные коврики, принесенные отцом, и положила их вместе с его одеждой на перила балкона возле входной двери.
Где-то около полудня отец пришел снова, поднялся по лестнице, даже не взглянув на ковры и развешанную на перилах одежду. Мать была дома; на него она не смотрела и не отвечала ни на одно его слово. А когда он чуть посторонился, бросилась в дверь и побежала в нашу хейимас. Отец хотел было последовать за ней, но оттуда сразу же выскочили несколько мужчин из Дома Синей Глины и удержали его, не давая войти в наше святилище. Отец был похож на помешанного, он вырывался и никого не желал слушать, но им удалось его успокоить. Девять Целых объяснил ему, что, согласно обычаям нашего народа, любой мужчина может уйти и прийти, когда ему вздумается, и любая женщина имеет право принять его назад или не принять, но дом принадлежит именно ей, и если она захлопнет перед носом мужчины дверь, то лучше ему не пытаться ее открыть. Собралась целая толпа любопытных, потому что сперва они с отцом кричали друг на друга, и многие находили это чрезвычайно смешным, тем более что нужно было объяснять такие простые вещи взрослому мужчине. Особенно над ним насмехалась Сильная, спикер Общества Крови. Когда отец сказал: «Но она ведь принадлежит мне… и это мой ребенок!» – Сильная принялась ходить вокруг него с видом надутого индюка, как ходят Кровавые Клоуны, и стала кричать: «Ой, никак у моего молота месячные!» и еще кое-что похлеще. Кое-кому из жителей города было приятно, что так унижают представителя Великого Кондора. Я это сама видела, притаившись у нас на балконе.
Отец снова вернулся в наш дом и поднялся наверх. Он в гневе пнул скатанные в трубку ковры и одежду, словно разозлившийся мальчишка. Я возилась у кухонного стола и плиты – пекла кукурузные лепешки, а он остановился в дверях. Я продолжала работать и на него не глядела. Я просто не знала, что мне делать, как себя вести, и ненавидела отца за то, что он заставляет меня испытывать такую неуверенность и чувствовать себя такой жалкой и несчастной. Я была даже немного рада, что Сильная так над ним издевалась; мне и самой хотелось посмеяться над ним, потому что он вел себя ужасно глупо.
– Сова, – вдруг спросил он, – а ты будешь ждать меня?
Я вовсе не собиралась плакать, однако слезы полились сами.
– Если я останусь в живых, то обязательно вернусь к тебе, – сказал он. Он так и не переступил порог, а я так и не подошла к нему. Я только обернулась, посмотрела на него и кивнула. В этот момент он уже надевал свой шлем Кондора, скрывавший его лицо. Потом повернулся и вышел.
Бабушка весь день ткала; ее станок стоял во второй комнате у окна. Когда домой наконец вернулась моя мать, бабушка сказала ей:
– Ну что ж, вот он и ушел, Ивушка.
Лицо матери было бледным и каким-то измятым. Она ответила:
– Я тоже ушла – отказалась и от него, и от этого имени. Теперь я стану называться своим первым именем.
– Зяблик, – сказала бабушка нежно; так мать впервые произносит имя своего новорожденного. И сокрушенно покачала головой.
Вторая часть истории Говорящего Камня начинается на стр. 238.
Устав Дома Змеевика
Данный текст, выполненный в старинной каллиграфической манере, является единственным письменным вариантом Устава среди прочих его вариантов, представляющих собой пиктографические символы. Эта небольшая складная книжечка в форме «гармошки» хранится в Центральной библиотеке города Ваквахи.
«Девять Домов живых и мертвых – это Дома Обсидиана, Синей Глины, Змеевика, Желтого Кирпича, Красного Кирпича, Дождя, Облака, Ветра, Безветрия. Цвета четырех Домов мертвых – белый и радужный. Те народы, что живут вместе с людьми, – обитатели Земных Домов; народы дикого края живут в Домах Небесных. Птицы обитают в Четырех Небесных Домах, вылетают из Правой Руки Вселенной и могут приносить послания мертвых живым и наоборот; перья птиц – это слова, сказанные мертвыми. Когда из Четырех Домов должен явиться на свет ребенок, он рождается и живет в Доме своей матери. Небесные Дома танцуют Танец Земли, а Земные Дома танцуют Танец Неба. Дом Синей Глины танцует Танец Воды; Дом Желтого Кирпича танцует Танец Вина; Дом Змеевика танцует Танец Лета; Дом Красного Кирпича танцует Танец Травы; Дом Обсидиана танцует Танец Луны. Солнце вместе с другими звездами танцует Путь Возврата. Хейийя-иф и есть изображение этого Пути и Дом Девяти Домов».
Приведенный выше текст дает краткое представление о структуре общества, временах года и строении Вселенной – с точки зрения жителей Долины.
Все живые существа, названные среди обитателей Пяти Земных Домов, зовутся Земным Народом; сюда включается и Земля как таковая, камни и почва, различные геологические образования, Луна, все водные источники, ручьи и озера с пресной водой, все в настоящее время живые люди, животные, на которых ведется охота, домашние животные, некоторые другие животные, являющиеся собственностью отдельных людей, домашняя и живущая главным образом на земле птица, и все растения, которые собирают, выращивают или как-то используют люди.
Небесный Народ, или Жители Четырех Домов, или Люди Радуги – это Солнце и звезды, океаны и моря, дикие животные, на которых люди не охотятся, и все животные, растения и люди, рассматриваемые как вид или племя, а не как отдельные представители или отдельные личности, а также все народы и существа, являющиеся во сне, в видениях, герои сказок и легенд, большая часть птиц и все мертвые и нерожденные существа.
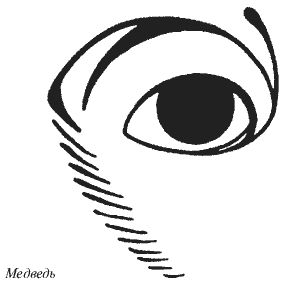
В таблице (стр. 71—72) перечислены эти Девять Домов, цвет и сторона света, ассоциируемые с каждым из них, ежегодный праздник, за который каждый из них является ответственным, а также Общества, Союзы и Цехи, находящиеся под началом каждого Дома. Таблица крайне схематична, а примечания к ней весьма упрощенны. Однако она может служить чем-то вроде глоссария для тех, кто захочет разобраться в значении того или иного термина или изречения, а также некоторых вольных интерпретациях отдельных понятий в литературных и фольклорных текстах Долины, приведенных далее; кроме того, она представляет собой как бы некое введение в образ мышления народа Кеш, в особенности их художественного творчества и мастерства. Однако же важно понять, что никакой подобной таблицы на самом деле не существует, обитатели Долины никогда ничего подобного не создавали. Так что, хотя числа «четыре», «пять» и «девять», а также представления о Девяти Домах и их размещении в хейийя-иф (или вращающейся вокруг Стержня двойной спирали), а также цвета, стороны света, времена года, существа и предметы, ассоциируемые с этими Домами, являются постоянными мотивами в искусстве Долины и образной системе мышления се обитателей и хотя граница между Землей и Небом, смертностью и бессмертием связана с фундаментальными грамматическими явлениями их языка (Земная и Небесная его формы), все же приведенная здесь схема девяти структурных подразделений и перечисленные в этой схеме различные их компоненты и функции, безусловно, удивили бы жителя Долины, который воспринял бы все это как нечто «детское», а также – из-за того, что информация в схеме как бы фиксирована, «замкнута», – счел бы эту схему в высшей степени опасной и неуместной.
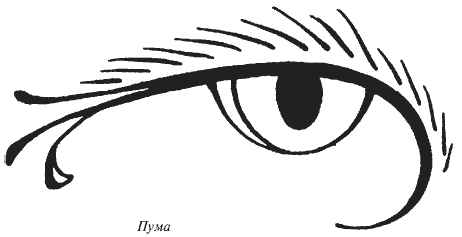
Пять Земных Домов представляют собой пять основных подразделений общества и служат у Кеш эквивалентом понятия «клан» или «община». Все люди, не принадлежащие к народу Кеш, называются «людьми-без-Дома». Наследование в Домах идет по материнской линии и экзогамно: все представители одного Дома считаются родственниками первой степени; между ними сексуальные связи недопустимы (см. главу «Система родства»).
Не существует никакой иерархии Домов – по власти, богатству и тому подобному, и нет никакого соперничества меж ними по поводу более высокого статуса; Дома называются Первый, Второй и т. д., однако нумерация эта не имеет абсолютно никакого отношения к оценочным категориям – рангу, важности и т. п. Некоторое соперничество возникает, правда, во время праздников, которые проводит каждый год тот или иной Дом, однако не столько даже между самими Пятью Домами, сколько среди принадлежащих к ним обитателей девяти городов Долины. Слово, которое я обычно перевожу как священный танец – ваква, может также означать ритуал, тайное знание, церемонию, праздник. Полный цикл определенных ваква и составляет год в Долине.
Так, в ноябре, когда начинают зеленеть холмы, Дом Красного Кирпича танцует Танец Травы. Во время зимнего солнцеворота все Девять Домов танцуют Танец Солнца. Во время весеннего равноденствия Пять Земных Домов танцуют Танец Неба, а Четыре Небесных Дома – Танец Земли, и все это вместе называется Танцем Вселенной. На второе полнолуние после этого праздника Дом Обсидиана танцует Танец Луны. Во время летнего солнцеворота и после него Дом Змеевика танцует Танец Лета. В первой половине августа Дом Синей Глины танцует Танец Воды у ручьев, родников и прудов. Во время осеннего равноденствия Дом Желтого Кирпича танцует Танец Вина.
Эти семь Великих Ваква могут быть наглядно представлены в виде хейийя-иф, где Вселенная («Стержень») – посредине, а слева и справа – симметрично – Солнце и Луна; далее следуют Трава и Лето, а Вино и Вода находятся на левом и правом концах двух спиралей. Такая непоследовательная интерпретация времени характерна и для хронографии Долины. И поскольку здесь нет настоящих времен года, а всего лишь два сезона, дождливый и сухой, то в разговоре события обычно соотносятся с тем или иным праздником: например, до Танца Травы, или между Танцами Воды и Вина, или после Танца Луны. (В главе «Время и Столица» представления жителей Долины о времени рассматриваются более подробно.)
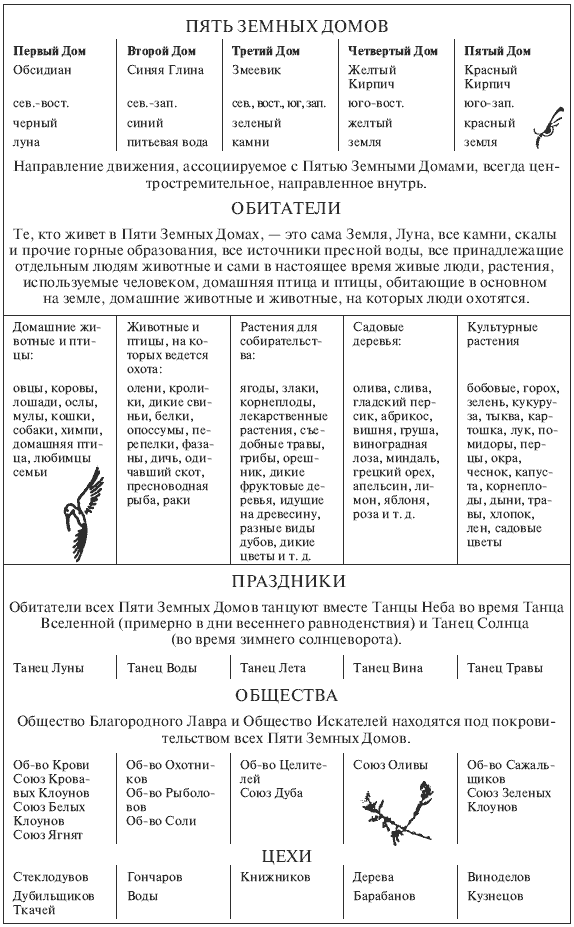
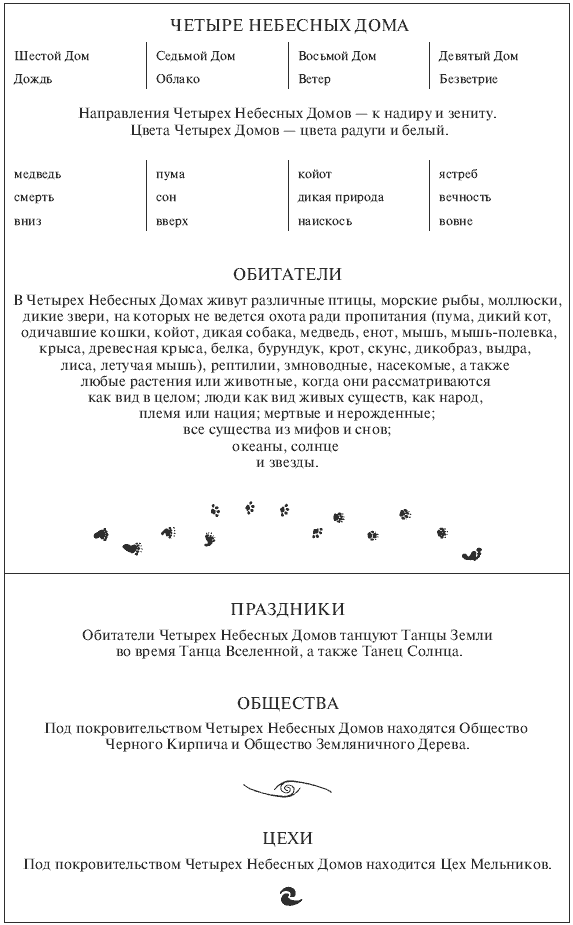
Материальным воплощением каждого из Пяти Домов в каждом из девяти городов Долины являются хейимас. Обнаружив, что все слова, типа «церковь», «храм», «замок», «тайная обитель», лишь вводят в заблуждение, я в данной книге использую слово языка кеш. Оно образовано из элементов хейя, хейишйня– отдельными значениями которых являются: «святость», «стержень», «связь», «спираль», «центр», «хвала» и «перемена» – и корневого слова «ма» со значением «дом».
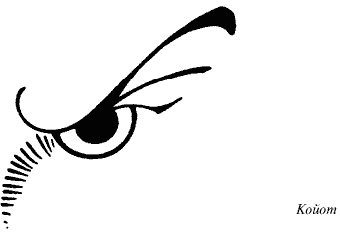
Хейийя-иф, две спирали, центром которых служит некий невидимый стержень, бездонная пропасть, пустота, являются материальной или скорее визуальной репрезентацией понятия хейийя. Разнообразные и изощренные вариации на тему хейийя-иф входят в качестве хореографических и пластических элементов в танец, определяют форму самой сцены и движения актеров, представляющих драму; хейийя-иф служит организующим началом при планировании городов, в графике и скульптуре, в декоративном искусстве и в дизайне музыкальных инструментов; она же является объектом сосредоточения при медитации, а также поистине неистощимой метафорой. Хейийя-иф – некая визуальная форма идеи, пронизывающей мышление и культуру всех народов Долины.
В городах у каждого человека как бы по два дома: дом, в котором вы действительно живете, ваше жилище, расположен в Левой Руке двойной спирали хейийя-иф, по форме которой построен город, а в Правой Руке находится ваш Земной Дом, то есть, конечно, хейимас вашего Дома. В обычном доме вы проживаете вместе с вашими родственниками по крови или по браку; в хейимас своего Дома вы встречаетесь со своей Большой Семьей. Хейимас служит центром отправления обрядов, хранилищем традиций и знаний, местом обучения, школой и т. п.; к тому же это место для встреч, собраний и политических диспутов; это и мастерская, и библиотека, и архив, и музей, и расчетная палата, и приют для сирот, и гостиница, и богадельня, и убежище, и оздоровительный центр, и орган экономического контроля и управления деятельностью всего сообщества, как во внутренних делах, так и во всем, что касается обмена или торговли с другими городами Долины и теми, что находятся за ее пределами.

В маленьких городах хейимас представляют собой большое пятистенное подземное помещение, разделенное перегородками, под невысокой четырехскатной пирамидальной крышей, поднимающейся над землей. По углам крыши имеются лесенки: чтобы попасть внутрь хейимас, надо подняться по ним на крышу, открыть люк и спуститься по приставной лестнице вниз. В Телине и Кастохе обе части здания – и подземное помещение, и украшенная орнаментом крыша – значительно больше, а в Ваквахе, на самой Горе-Прародительнице, пять хейимас – это пять огромных подземных комплексов; их прекрасные крыши-пирамиды высятся над различными вспомогательными постройками и площадками. В любом городе Долины площадь, ограниченная полукругом стоящими жилыми домами, называется «городской площадью»; а та площадь, вокруг которой расположены пять хейимас, называется «площадью для танцев». На карте города Синшан отражено типичное расположение жилых домов и хейимас в городе народа Кеш.
Далее (в главе «Общества, Союзы, Цехи») можно найти более подробный рассказ о взаимосвязях различных общественных и профессиональных организаций и их принадлежности определенным Домам. Как показано на схеме, Цех Мельников, который отвечает за все мельницы – водяные, ветряные и электрические, за генераторы, за различные виды машинного оборудования, за создание и наладку машин, за управление различными механизмами, занимает строго определенное, хотя и весьма необычное положение в обществе: члены этого Цеха не имеют своего Дома среди земных жителей.
Некоторые очевидные несообразности являются простым следствием схематизации и перевода. Мы, например, можем сказать, что перепелка живет во Втором Доме, однако нам представляется несколько странноватым, когда Кеш говорят, что и помидорный куст «живет» в Пятом Доме; еще более странно звучит то, что мертвые и нерожденные «живут» в Небесных Домах. На языке кеш так сказать вполне можно, однако, с их точки зрения, нам это кажется странным как раз потому, что сами мы не живем ни в одном из Домов, а находимся вне их.
Итак, хейимас являются, если угодно, материальными воплощениями Пяти Земных Домов или, если хотите, их представительствами. Что же касается Четырех Небесных Домов, то основным материальным их воплощением считаются различные метеорологические явления: дождь для Шестого Дома, облако, туман и дымка над горными вершинами для Седьмого, ветер для Восьмого и для Девятого Дома – тихий, прозрачный воздух, который также называется Безветрием. Другие великие символы Четырех Домов – Медведь, Пума, Койот, Ястреб – могут трактоваться как мифологические персонажи, то есть персонажи вымышленные, которые не следует воспринимать буквально; и все же соотносимость определенного Дома с тем или иным животным или явлением природы тоже невозможно сбросить со счетов. «Войти в Дом Койота», например, означает перемениться. Кроме того, Четыре Небесных Дома – это Дома Смерти, Снов, Дикой Природы, Вечности. Все названные аспекты каждого из Домов взаимосвязаны и активно взаимодействуют, так что Дождь, Медведь или Смерть, каждый по отдельности, способны символизировать и любой из двух остальных символов; словесные и зрительные образы расцветают благодаря этой взаимной связанности. Вся система представлений Кеш в целом глубоко метафорична. Мысль о том, что можно ограничить ее, свести к какому-то иному образцу, – с точки зрения жителей Долины, безусловно предосудительный предрассудок.
Именно по этой причине я и не рассматриваю систему Девяти Домов как некую форму религии, а хейимас – как священные храмы или молельные дома, несмотря на то, что обитатели Долины явно относятся к ним как к чему-то священному.
У людей Долины нет единого бога, нет и богов вообще, нет и религии. Что у них, по всей вероятности, есть – так это рабочая метафора. Идея, которая представляется нам наиболее близкой к понятию религии или веры, – это идея Дома; его знак – закрученная вокруг стержня двойная спираль, или хейийя-иф; главное Слово – это слово хвалы сущему на земле и переменам; таковы центральные понятия всей системы, хейя!
Где находится Долина
Горные хребты, обрамляющие Долину, невысоки: даже Гора-Прародительница, Ама Кулкун – старый вулкан в центре запутанного горного массива – немногим выше четырех тысяч футов. Долина в основном представляет собой довольно ровную местность, по которой протекает Река На, однако склоны холмов, превращающих Долину в некое подобие чаши, весьма круты, а горные пастбища сильно изрезаны глубокими ущельями, прорытыми речками и ручьями. На склонах, обращенных к востоку и укрытых от морского ветра, густо растут различные деревья и кустарники: карликовая сосна, ель, секвойя, земляничное дерево и дикая вишня манзанита, а также карликовые и обыкновенные дубы, дубы белые, красильные и пробковые и украшение Долины – гигантский дуб; много там и конских каштанов, лавров, ив, ясеней и ольхи. Там, где посуше, – чапараль, заросли вечнозеленого карликового дуба, низкий густой кустарник, дикая сирень, что цветет прелестными ароматными голубовато-сиреневыми цветами, когда кончается сезон дождей, и обвивающий карликовые дубки терновник, и оленье дерево, и дикие розы, и кофейные деревья, и кустарник койота, и ядовитый дубок… Вдоль ручьев – тоже заросли душистых кустарников, пестрые и желтые азалии, дикие розы, дикий калифорнийский виноград. На западных склонах гор, продуваемых всеми ветрами, а также на круглых холмах, состоящих почти целиком из змеевика, растут только дикие травы да цветы.
Здесь всегда была суровая земля – довольно щедрая, но отнюдь не легкая в обработке. Здесь нет времен года – только сезон дождей и сухой сезон. Дожди могут быть проливными, а жара поистине свирепой, пугающей. Все, что растет в Долине, как и везде, должно миновать особую стадию появления нежных всходов и цветения, а потом растениям нужно созреть и отдохнуть, однако переход от одного сезона к другому здесь скорее напоминает государственный переворот, бурную революцию. Несколько темно-серых, набухших дождем дней, когда сожженные и промокшие насквозь коричневые холмы вдруг светлеют и вспыхивают вызывающей головную боль яркой зеленью свежей травы… Несколько ясных дней с облачками-хлопьями в небесах, когда оранжевые маки, синие люпины, душистый горошек, клевер, дикая сирень, голубоглазые незабудки, маргаритки, лилии – все расцветает одновременно и склоны холмов сплошь покрыты белыми, пурпурными, синими и золотыми цветами, но в то же время травы уже сохнут, бледнеют, и дикий овес уже почти созрел в своих метелках… Таковы эти краткие переходы из сезона в сезон: последняя зелень лета сменяется мрачной зимой, а к лету как бы застывшие холмы вновь расцветают недолгим буйством красок.
Приходят густые туманы. Они поднимаются из обширных плоских болотистых низменностей, приморских болот и тростниковых зарослей, из бесчисленных эстуариев на юго-востоке и с морского побережья, протянувшегося за юго-западной грядой. Вокруг Горы Синшан, Горы-Сторожихи и Горы-Прародительницы, четкие, темные, гигантские силуэты которых вырисовываются на фоне ясного неба, плавают стаи влажных туманов, стирая, затушевывая очертания предметов. Да и сами горы как бы тихо отступают прочь. Под ставшей совсем низкой крышей небес холмы тонут в густой дымке. С каждого зеленого листа непрерывно течет и капает. Маленькие коричневые пташки – обитатели чапараля – неуверенно перепархивают в тумане, что-то приговаривая и пощелкивая «тц-тк» где-то совсем близко, но совершенно невидимые. Гигантские дубы в Долине становятся похожими на каких-то страшных великанов: невозможно понять, где кончаются их могучие ветви. Если таким вот утром двинуться от Ваквахи дальше в горы, то через некоторое время выйдешь из полосы тумана и окажешься прямо над этой венчающей Долину «крышей», похожей на белое море, что колышется в сверкающей тишине. Туман издавна любит вот так подшутить над холмами. Это очень старые холмы, но туман куда старше.
Почва в Долине – различные виды глинозема, пригодные для изготовления кирпича, или же красноземы, из которых торчат обломки скал сине-зеленого змеевика, покрытые застывшими потеками вулканического происхождения. Не слишком легкая для обработки почва, эта бедная и капризная глина. Например, пшеницу она просто выплевывает. Или может заявить фермеру: сажай здесь только виноградную лозу, оливы, розы, лимоны и сливы. Все это – трудоемкие культуры, но все они обладают сладостным ароматом, отличным вкусом и живут долго. А что касается кукурузы или маиса, бобов, кабачков, тыкв, дынь, картошки, моркови, всякой зелени и чего там вам еще будет угодно, то если станете трудиться достаточно прилежно, то есть копать землю и рыхлить ее, когда она больше всего напоминает сырой бетон, и поливать ее, когда она похожа на сухой цемент, тогда, пожалуйста, сколько угодно! Тяжелая земля.
В наши дни река в Долине в засушливый год еле-еле течет; к сентябрю все ручьи, кроме самых больших, обычно пересыхают, да и сама река становится тоже всего лишь ручьем, хотя и довольно широким и мощным. Когда же со временем Великая Калифорнийская Долина распадется на части, когда появятся горные разрывы, сбросы и, возможно, даже кое-где, в предгорьях Ама Кулкун, выходы наверх магмы, то и высота Долины над уровнем моря повысится и поднимется уровень грунтовых вод; вместе с тем летняя жара будет в Долине значительно смягчена сильным влиянием Внутреннего Моря и обширных болот, а также морскими туманами, прилетающими вслед за морскими течениями через широкие горные «ворота». Климат изменится в лучшую сторону. Сухой сезон станет не таким чудовищно засушливым; в ручьях будет больше воды, река поведет себя с большей солидностью и достоинством, хотя в ней останется меньше тридцати миль от истоков до устья.
Тридцать миль могут показаться как очень короткими, так и очень длинными. В зависимости от того, как их пройти; от того, что Кеш называют словом вакваха, что буквально значит «путь реки».
Соблюдая особый ритуал, с вежливыми заверениями, они берут воду у Реки и ее маленьких притоков как бы взаймы – для питья, для того, чтобы соблюдать чистоту, для полива – и расходуют ее аккуратно, экономно, осторожно. Они всегда жили на земле, которая на любое проявление жадности отвечала засухой и смертью. Трудная земля: словно бы и ведет себя как чужая, но уж больно чувствительная! И еще она похожа на горных коз, которые крадут у людей пищу и сами становятся их пищей – тощие маленькие горные козы, воришки и жертвы одновременно, вечные соседи и ревнивые наблюдатели, за которыми тоже кое-кто наблюдает, любопытные, бесстрашные, недоверчивые и приручению не поддающиеся. Никогда не изменяющие своей дикой природе.
Корни и источники жизни в Долине всегда были дикими. Ряды виноградных лоз и серых олив, цветущие миндальные сады, овцы с острыми копытцами и кареглазые коровы, винокурни из грубого камня, старые амбары и хлевы, мельницы на берегу ручьев, маленькие тенистые города – о, они прекрасны, человечны, с первого взгляда очаровывают, внушают любовь; однако корни Долины – это корни карликовой сосны, вечнозеленого дубка, диких трав, равнодушных ко всему и не требующих заботы, и многочисленные ручейки, текущие по трещинам, оставшимся после землетрясений, среди скал, поднявшихся некогда со дна тех морей, что существовали задолго до появления на земле человека, или рожденных огнем, что скрыт в глубинах земных. Корни Долины – в дикой природе, в мечтах, в смерти, в вечности. Вон следы диких коз, а вон следы человека и его повозок, – все пробираются не напрямик, старательно огибают корни вещей. Чтобы пройти тридцать миль – и вернуться назад, – может понадобиться целая жизнь.
Пандора беспокоится о том, что делает: рисунок на чашке
Пандора не желает смотреть в широкий конец телескопа на сверкающий как самоцвет, ясно видимый, крошечный, целиком охватываемый взглядом мирок Долины. Она зажмуривает глаза, она не хочет смотреть, она и так знает, что увидит там: Все Под Контролем. Кукольный домик. Кукольная страна.
Пандора выбегает из обсерватории с закрытыми глазами и хватает, хватает вокруг себя все, что попадется под руку.
Ну и что же она получила в итоге, если не считать нескольких порезов на руках? Кусочки, стружки, обломки, черепки. Осколки того, что было Долиной, ее подлинной жизнью. Не где-то там, далеко, а тут, рядом; их можно пощупать, подержать в руках и услышать Долину. Не рассудком, а умом и сердцем. Не вообразить, а ощутить тяжесть куска земляничного дерева, осколка обсидиана, комка синей глины. Даже если разрисованная чашка разбита (а она действительно разбита), то из этого комка глины, да еще зная, как лепить и обжигать такую чашку, даже если рисунок вам целиком неизвестен (а он вам целиком неизвестен), вы сделаете такую же, и пусть заработают ваши ум и воображение. Пусть сердце подскажет вам, как закончить рисунок на этой чашке.
Назад: По поводу археологии будущего
Дальше: Несколько устных преданий

