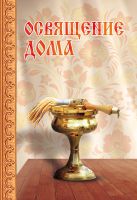«Мои заветные тетради...»
Когда я первый раз пришла к Татьяне Александровне, дверь мне открыла милая, аккуратно одетая в чёрное пожилая женщина с пучком волос, собранных на затылке, и, церемонно поздоровавшись со мной, пригласила меня войти. Т. А. жила у Красных Ворот в коммунальной квартире. Направила меня к ней Евгения Семёновна, моя учительница и мой давний друг. «Пойдёшь заниматься французским к Т. А.? — спросила она меня, — будете с ней там воспарять под зелёным абажуром». Действительно мы занимались с Т. А. большей частью вечером, сидели за столом под зелёным торшером и, как выразилась Е. С, «воспаряли»: беседовали о мистических рассказах Моруа, о летающих тарелках, о разных таинственных историях вперемежку с французской грамматикой.
Т. А. была из семьи старых интеллигентов. В куклы играла по-немецки и по-французски. На стене в её комнате висела картина: молодая девушка с двумя длинными светлыми косами, перекинутыми на грудь, мило улыбаясь, идёт по лесной дорожке. Девушка это была Т. А. в молодости. В детстве Т. А. жила с родителями и сестрой на Арбате. Она помнила из того времени дворника-татарина в фартуке и с бляхой.
У Т. А. в детстве был порок сердца, и она не могла бегать и играть, как другие дети. Зато она запоем читала. Рассказывала, как она ела яблоки, прочитывала книгу от первой страницы до последней — и начинала с начала. В институте иностранных языков Т. А. учила французский и немецкий, английский выучила сама.
В детстве её учили музыке, и с тех пор Т. А с увлечением играла на фортепьяно. В комнате её стояло пианино фирмы «Беккер» с изумительным серебристым звуком. Т. А. знала наизусть 65 пьес и считала необходимым поддерживать их в памяти.
В углу мягко светилась икона Николая Угодника. Т. А. была глубоко верующим человеком, ходила в храм «Всех скорбящих радосте» на Ордынке. Несколько раз она брала меня с собой. Я тогда была далека от религии, стояла, слушала красивое пение и ничего не понимала. А Т. А. говорила мне: «Бывало, идёшь со службы и думаешь: только бы донести, только бы не расплескать!» Теперь я понимаю. Т. А. говорила о благодати причастия, которую она стремилась сохранить в своей душе, а тогда её слова были для меня весьма туманны. Как-то я услышала от неё молитву «Царю Небесный», и, хотя я не поняла её смысл, красота её проникла мне в сердце, и я переписала молитву в свою тетрадь.
Муж Т. А. умер, когда ей было 50 лет, и она осталась одна. Т. А. была «внутренней эмигранткой», она читала на трёх языках, слушала на старой радиоле «Голос Америки», переписывала в свою тетрадь Солженицына и Сахарова и не принимала советского режима.
Она писала в своём дневнике: «Сахаров прав: интеллигенция у нас угнетена, бесправна и беззащитна, т. е. истинная интеллигенция, не умеющая хамить, не умеющая быть беззастенчиво агрессивной, не умеющая обороняться, не умеющая постоять за себя, легко ранимая, легко уязвимая, болезненно переживающая любое слово, любой акт грубости. Для преуспевающего плебса, имеющего квартиры, телевизоры, ковры и хрусталь, жизнь легка и приятна, а хамские стычки, перебранка просто полируют ему нервы... Интеллигенция теряется перед грубостью торжествующего плебса, а он себе торжествует и наступает интеллигенции на лапки, наступает, хотя она боязливо поджимает их. Только элита интеллигенции — академики и определённая прослойка занимающих высокие посты учёных — имеет место под социалистическим солнцем и греется в его лучах, но нередко она покупает это тёпленькое место ценой сделок с совестью, поэтому ей не позавидуешь». Это записывает Т. А. в 1978 году.
Тонкую и деликатную Т. А. ранило её окружение, повсеместное хамство, грубость соседки в коммунальной квартире, которая особенно донимала Т. А., так что она в своём дневнике высчитывает месяцы и дни до отъезда её на дачу. Поводом для ненависти были коты Т. А. и, конечно же, её игра на фортепьяно. Только в последний год своей жизни Т. А. получила квартиру на Бауманской и обрела свободу от угнетающей её Н. М. Как-то раз эта соседка принудила Т. А. зайти к ней посмотреть по телевидению концерт с Анной Герман. «Два-три номера я ещё посмотрела терпеливо, — пишет Т.А., — но потом уже стало невыносимо, а уйти сразу я не могла, не уязвив Н. М., а уязвлённая Н. М. опасна. И я досидела до конца с тоской и отвращением. Или безголосый шёпот перед микрофоном, «пасущимся» у рта, или дикие, хрипло-распластанные, в подражание неграм, звуки, хриплый ор... И оформление! Пестрит, рябит в глазах, отвлекает, утомляет, надоедает. Ёлка, на фоне которой ведущие объявляют номера, не только вся серебряная и сверкает под в упор на неё наставленными прожекторами, но непрерывно вращается до обалдения, до боли в глазах... Ужасно! Я смотрела на всё это поневоле, смотрела и думала: как же можно добровольно на всё это смотреть? Как выдержать более 10 минут, когда рука может по своей воле выключить телевизор? Как можно сидеть и смотреть на это целый час? Ведь этот час жизни больше никогда уже не вернёшь. А с другой стороны, наблюдая жизнь моих соседей, я не могу не задать неотвратимый вопрос: а что они будут делать, если выключат этот «концерт»? На что им употребить этот час? А тут и думать ничего не нужно: сиди и смотри, а там и спать пора ложиться. Ужасно». Т. А. писала, что её соседка смотрит по телевизору всё подряд: Рихтера, фигурное катание, эстраду, и всё ей нипочём, «всё с неё скатывается, как вода с полированной поверхности». «Массовая культура» — бессмысленное сочетание слов, т. к. культура, становясь массовой, перестает быть культурой, — пишет Т. А., — она делается мелкой, теряет свою иерархичность. Это похоже на то, что воду, налитую в узенький бокал и доходившую ему до краёв, вылили в большое неглубокое блюдце. Было — до шейки, а стало — до щиколотки. Обмелело. В кафе и кулинариях едят в шапках. Противно смотреть. Ведь вековые традиции — это тоже культура. Традиции одобряли один образ действий и категорически запрещали другой, и смысл этих одобрений и запрещений никогда не был поверхностен, но всегда был глубок, корни его уходили в глубину бытия. Теперь всё смешалось. У всех есть телевизоры и холодильники, радио и стиральные машины, все ездят "отдыхать" на юг, все учат своих детей фигурному катанию на коньках, и это всё вместе взятое называется "массовой культурой". Это вульгаризация культуры и ничего больше».
Сравнивая людей среднего класса, «буржуя» дореволюционного и «буржуя» социалистического, Т. А. поразительно чётко определяет признаки полной деградации последнего. Она пишет: «Блок ненавидел „буржуя" дореволюционного... Что бы он сказал, если бы увидел „буржуя" современного, социалистического? Тот буржуй был хорошо воспитан, вежлив, у него была домашняя библиотека, он не был алкоголиком, квартира у него была обставлена мебелью, доставшейся ему от отцов и дедов; если у него и был хрусталь, ковры и фарфор, то слишком большого значения он им не придавал, т. к. считал их чем-то обычным; в квартире у него зачастую жили животные: сенбернары и доги, пушистые сибирские коты и обыкновеннейшие Васьки. Он ходил в театры и на концерты, летом выезжал на дачу, одевался у хорошего портного, не позволяя себе никаких экстравагантностей, он принимал у себя и ходил в гости „на чашку чая", его дети имели „детскую", имели старушку няню, подрастя, поступали в гимназию и получали прекрасное образование. Теперешний буржуй пьёт, хамит и сквернословит. Книгами в его малогабаритной квартире и не пахнет, но там непременно стоит полированная мебель, висит хоть один ковёр, в „серванте" за стеклом стоят хоть две хрустальные вазы, и у одной из стен обязательно телевизор, перед которым он сидит целыми часами по вечерам. Животные? Боже сохрани! Шерсть, грязь, следы от лап — несовместимо с полированной мебелью. Эта уродливая мебель, хрусталь и ковры стали не просто аксессуаром домашней обстановки, а самоцелью и делом престижа: как у других, так и у меня. Современный буржуй — сноб до мозга костей, он всё боится быть хуже других, ему надо во что бы то ни стало «догнать и перегнать». В театр и на концерты он не ходит: зачем, если есть телевизор, музыка для него — просто сопровождающие жизнь звуки радиоприемника, он её никогда не слушает, только слышит. Одевается во всё дорогое: кремплин и нейлон, во всё ультрамодное. Встречи с родственниками и друзьями — только попойки. Круг интересов ограничен телефильмами и хоккейными матчами. Дети его, пока маленькие и управляемые, учатся в музыкальных школах, плавают в бассейне и учатся фигурному катанию на коньках — тоже вопрос престижа, но когда подрастут, всё это бросают, учатся они в наших средних школах, где гуманитарное образование — именно то, что прививает культуру и интеллигентность, — даётся однобокое, узкое, тенденциозное. Вымирание культуры, вот что такое современный буржуй, облепившийся магнитофонами (ради буги-вуги), пылесосами, холодильниками и прочими техническими удобствами». Дальше Т. А. обличает повальное порабощение нашего общества техническими «удобствами» и произносит хвалу «бесполезному», но подлинно ценному духовному наследию человечества. «Как отрадно было читать в выпущенном недавно манифесте французских интеллектуалов призыв к бесполезному, т. е. не имеющему никакого утилитарного применения. Они правы: всё, что создало человечество истинно ценного, — бесполезно, т. е. не применимо ни к какой утилитарной цели. В самом деле: зачем Рейнский собор? К чему стихи Фета? Для чего Джоконда? Или Pieta? Или наскальные рисунки? Или музыка Рахманинова? Но они есть и являются великими, огромного значения симптомами того, что представляет собою человечество в его истинном существе, что оно — не случайное соединение материи, даже самой высокоорганизованной, а духовный организм, способный создавать прекрасное ради прекрасного и ни для чего больше».
Мы занимались с Т. А. французским, а вокруг нас гуляли коты. Их было, кажется, трое или четверо. Бывало, один из них вспрыгивал на стол, прямо на тетради. Т. А. мягко и укоризненно говорила: «Ну Муша!», если это была она, и ласково снимала её со стола. У неё я училась любви к животным, как к Божьим созданиям. Питание этих котов было вечной заботой Т. А., потому что ели они исключительно рыбу хек или минтай, которая не всегда бывала в продаже в ближайшем магазине, и приходилось идти за ней далеко к Покровским воротам. А когда Т. А. была больна и не могла выйти на улицу купить корм котам, приходилось просить соседей, что было тяжело для деликатной Т. А. «О, несчастье одинокой старости! — пишет в дневнике Т. А. — В прежние времена была бы у меня приходящая прислуга, и всё было бы в порядке. Но моя потенциальная прислуга уже давно защитила кандидатскую, нисколько не одарив этим науку. А я вот, больная и старая, — беспомощна, когда у меня простуда с температурой. Выйти — значит рисковать слечь окончательно. А тогда что будет?» ... «Кормить животное, дать ему поесть — это действие прекрасное, одно из благороднейших и чистейших действий человека и всегда даёт его душе чувство теплоты, — пишет в дневнике Т. А., — но кормить животное из рук, как я кормлю моего милого Клякса, — это просто какое-то наслаждение, душа оттаивает, смягчается, начинает "улыбаться"».
Я купила на птичьем рынке щенка, как я думала, спаниеля, запихнула его не без труда в сумку и повезла на просмотр к Т. А. Там я узнала, что моя Дора — «детуся» — как ласково назвала её Т. А., заглянув в её щенячьи глаза... «Мариночка, у Вас замечательная собака, и Вы будете очень её любить, но к спаниелю она имеет очень далёкое отношение», — заявила мне она. Когда погиб Клякс, выпав из окна, Т. А. запричитала мне в трубку. Моя рассудительная и холодноватая подруга Т. возмущалась: «Всё-таки, это кот, не человек!» Ей было не понять горя Т. А., которая передавала животным часть своей души. «Я Кляксу наговаривала глаза, — говорила она мне, — с животными надо разговаривать!» Т. А. глубоко страдала даже при одной мысли о страдании невинных животных — «как будто без кожи живу» — писала она. «Сознание зла и страдания, ежесекундного, неисчезаемого... вышло теперь на поверхность души. Особенно страшно думать о страданиях животных: обязательно кто-то где-то голодает, замерзает, кого-то мучают, и все страдают, страдают... Мучительно так жить». Т. А. подкидывали котят, зная, что она их возьмёт, и она брала, а когда она умерла, их всех — о, ужас! — усыпили.
Т. А. заразила меня увлечением шведским тенором Николаем Геддой. «Гедды голос золотой...» — писала она в посвящённом ему стихотворении. Мы переписывали Гедду с магнитофонной ленты, которую приносил ученик Т. А. Саша, на огромные бобины, и я слушала записи на своём допотопном магнитофоне, сейчас такого уже нет в продаже. Недавно я купила диск Гедды и послушала мои любимые с тех пор записи. Да, это и правда, совершенно. Когда Гедда поёт арию Ленского из «Евгения Онегина» или арию Вертера из оперы Массне, мелодия льётся неудержимо и страстно сплошным потоком, как кровь из открытой раны: «Ах, Ольга, я тебя любил...», и в груди закипают слёзы страдания и восторга. Но самая моя любимая вещь у Гедды — ария Надира из «Искателей жемчуга» Бизе, там, где тембр певца становится невыразимо нежным, а когда он берёт самые высокие ноты, просто нематериальным, тогда сердце замирает, а мысленный взор уносится куда-то в беспредельную даль, туда, где в голубом тумане море сливается с горизонтом... Тогда на полке у меня появилась автобиография Гедды с его фото на обложке. А какое это было событие, когда сам Гедда приехал на гастроли в Москву и пел в зале Чайковского! Я поднесла ему розы, а Т. А., которая, конечно, была в зале, не решилась подойти: « Куда я, с моим старым лицом...» — она стеснялась своей старости.
Когда-то Т. А. преподавала французский в школе, а после выхода на пенсию она жила своей уединённой жизнью вместе с любимыми животными в своей комнате. Она любила дом, ей был мил уют, окружающие её вещи, книги, музыка. И я, приходя к Т. А., невольно погружалась душой в покойный уют, создаваемый Т. А., в особенную, ласковую атмосферу её комнаты и отдыхала у неё, отогревалась. Сознавая, как хрупко её убежище — своя комната, Т. А. всё-таки пряталась за её стенами от грубости и пошлости её окружения. «За письменным столом, у своей радиолы, под своим торшером я ощущаю благодатную для меня изоляцию от мира, я ощущаю себя, как птица в гнезде: устроилась, расправила пёрышки, она у себя дома. Четыре стены ни от чего не спасают. Мне ли не знать этого! И всё-таки я жмусь к ним, отгораживающим меня от холодных, скользких улиц, от грубых людей; я сижу, окутанная своим собственным миром, душа отдыхает от ставшего почти непосильным напряжения, она дышит своим воздухом, живёт в своей атмосфере».
В своём мире ценностей Т. А. предпочитала цвета, вещи и освещение, которые располагают к тишине, покою, уюту, внутренней сосредоточенности. «Есть вещи — и даже не вещи, а иногда их расположение, освещение в комнате, цвета, запахи, — источающие нечто ласковое, тёплое, уютное, дающее охоту, желание быть с ними, чувствовать их, пользоваться ими. И наоборот, есть всё то, что я перечислила, — холодное, отталкивающее, отчуждающее. Я вот люблю настольные лампы, их яркий свет, падающий на письменный стол, потёмки, окутывающие остальную часть комнаты, её углы, тонущие во мраке. Комната делается необычной, приобретает другую „тональность", всё в ней умиротворяется и почиет на ней покой. Свет настольной лампы располагает к чтению, к записи мыслей, к внимательному нерассеянному слушанию, к внутренней сосредоточенности. Терпеть не могу „верхнего света", голого и безличного, назойливого и равнодушного, освещающего всё и всех подряд и ничего и никого в особенности. Я его с трудом переношу, внутренне ему всегда сопротивляюсь, и заняться чем-то милым сердцу, личным при этом ядовитом освещении для меня невозможно. Люблю торшеры и бра, люблю старинные висячие над письменным столом фарфоровые или шёлковые абажуры. А эти современные рожки из пластмассы, заливающие глупым бессмысленным светом всю комнату, делают её для меня нежилой».
Т. А. брала книги в Библиотеке иностранной литературы и читала на трёх языках, она следила за современной литературой, ища в ней малейший проблеск таланта, отдушину, веяние чего-то нового, отличного от бездарного соцреализма. Так она восхищается Распутиным: «...какой прекрасный писатель, какие прекрасные образы, эпитеты, сочетания слов! В точности, меткости, уникальности, первозданности определений его проза имеет общее с прозой Бунина. Распутин пишет, что "самое большое счастье в жизни — видеть, думать, запоминать". Какие слова золотые! Именно думать о том, что увидел, и запоминать увиденное и продуманное. Хотя и видеть — тоже дар. Не все видят. Только смотрят. Вот мои соседи сегодня с утра уже смотрят телефильм, слышатся грубые выкрики, никчёмная музыка...» В другом месте Т. А. пишет: «Читаю Распутина. Впечатление большой глубины, вдумчивости, знания души человеческой... Он правдив и искренен, любит свою сибирскую природу любовью сильной до боли. Создание искусственных „морей", затопление любимых им лесов сибирских, изменение знакомой, любимой с детства родной природы ему тяжелы, болезненны. Хороший писатель». У Распутина Т. А. находит созвучие своим мыслям, так, размышляя об индивидуальном бессмертии, она пишет: «А звери? У них ведь тоже индивидуальности... А цветы и деревья? Но тут предел постижению. Как пишет Распутин: "Не нужно писать о том, чего ты не можешь знать. Совсем не можешь, никак. Это не похоже ни на что совершенно, что у вас есть. Это настолько больше и значительней, настолько невероятней того, что может придумать ваша бедная фантазия. И ваши слова не годятся для этого. Они слишком мелки, слишком коротки. Вы о своём-то, о человеческом не можете говорить как следует, а тут вон куда захотел, в какую тайну! Что-то видите, что-то слышите, что-то чувствуете, а что именно, не скажете, или скажете неточно, приблизительно, невпопад. До чего же вы любите говорить приблизительно, ходить вокруг да около". Что после этих слов можно написать? Действительно, "что-то чувствую", но как могу выразить?»
Т. А. отчётливо осознавала и трезво оценивала состояние глубокого духовного кризиса, в котором находилась страна. Она писала: «Я живу в стране, где общим духом стали грубость, резкость в обращении, невоспитанность во всех её гранях. Где утерян дух деликатности, мягкости, где все истинные, веками выработанные понятия семьи, чести, достоинства, ответственности или уже отброшены, как негодные, или искажены, вывихнуты, лишены основного своего содержания, и за них только держатся из-за инстинктивного, смутного опасения, что если их открыто отбросить, то начнётся нечто хаотическое, непредсказуемое, и от цивилизации останутся только телевизорные клавиши, кнопки от автоматов и вилки для включения стиральных машин и холодильников. Этого явно мало для наполнения слова "цивилизация", т. к. оно включает в себя наполнение духовное. Правда, сейчас в ходу выражение "техническая цивилизация", но всё-таки его употребляют, сознавая наличие другой, интеллектуально-духовной».
Наделённая ясным критическим умом, Т. А. отнюдь не была склонна видеть всё пессимистически, в чёрном свете, напротив, она с радостью замечала и приветствовала малейший луч света, который нет-нет, да и промелькнёт в нашей однообразной тусклой действительности. Так, она с восторгом и благодарностью записывает в свой дневник впечатление об «изумительном» фильме Образцова «Удивительное рядом»: «Чувствуется огромная любовь ко всему живому, непосредственная, яркая, глубокое восприятие природы. Засняты очаровательные уголки Подмосковья во все времена года и разные звери, зверки, зверушки, начиная от лосей и кончая птенцами в гнезде. Всё это сопровождается простой, живой речью, будто этот, ваш хороший приятель, сидит возле вас и комментирует свой фильм. Говорит он много обличительного, хлёсткого о нашем невежестве по отношению к природе и зверям, о равнодушии и жестокости, о невнимании, о глупости человеческой. Заснятое им крупным планом целое поле алых тюльпанов всё стоит у меня перед глазами. Он любит природу и животных, собак, кошек, птиц, даже жаб и ужей. Он, наверное, хороший человек». «Огромная любовь ко всему живому», которую отмечает Т. А. у Образцова, была в высшей степени свойственна ей самой.
Т. А. любила свою семью, близких людей, она тосковала по мужу и горько переживала своё одиночество. Она пишет в дневнике: «...Варю мясные кислые щи. Для себя, только для себя! А посадить бы за стол тебя, любовь моя бесценная, любимых моих — папу, маму, Тинку, дядю Колю... Семейный стол, семейный обед. Ведь я всё это помню. Потом остались мы втроём: папа, Тинка и я, потом вдвоём с тобою. И вот теперь одна. Как тяжело, как горько. Разливать суп, спрашивать, кто хочет ещё. Все едят, разговаривают, смеются. Семейное счастье. Нет для меня выше его. И вот теперь одна до конца моих дней. А я страдаю без семьи». В её одинокой старости, среди печалей и болезней Господь посещал её благодатными утешениями, светлыми предчувствиями: «Иногда вдруг на душу пахнёт какое-то необъяснимое благодатное дуновение: всё будет хорошо. Это — как мгновенная вспышка. Уйдёт — и опять тяжело и сумрачно. Что это: обманчивое воспоминание о прошлых счастливых минутах или знамение будущего? Кто знает? Озарит — и уйдёт».
Т. А. нежно любила русскую природу. Особенно она любила весну и лето. Её трогали даже первые появляющиеся летом мухи: «Смотрю на окно — мушка!» — умилённым голосом говорила она. Не имея дачи и возможности куда-то выезжать летом, Т. А. привязалась душой к уголку парка в Измайлове, в нём она черпала радость и вдохновение, о нём мечтала долгими зимними вечерами. Она пишет: «Иногда надежда мелькнёт: вот придёт весна, лето, уедет Н. М., я вздохну свободнее в квартире, поеду в Измайлово, подышу чистым свежим воздухом его берёзовых просек, ароматом его нагретых солнцем трав, полюбуюсь скромной Серебрянкой, неторопливо струящейся между зелёных берегов с огромными серебристыми ивами, осеняющими её, и, может быть, вернётся ко мне что-то прежнее, почувствую себя бодрее физически, обрету заглохшую душевную энергию... всё мечтаю об Измайлове. Воздуха хочется свежего и простора. Мечтаю в начале апреля, солнечным днём, выйти берёзовой рощей на дорогу, ведущую через луга к "асфальтовой ленте", посмотреть на луговые дали, на голубое весеннее небо (ведь его в Москве почти не видишь), вдохнуть сырой весенний воздух, пахнущий тающим снегом и мокрой землёй».
Книги были постоянной темой наших бесед. Т. А. давала мне читать старые дореволюционные издания любимых ею стихов Тютчева, Фета, а также переписанные ею от руки «крамольные» вещи, такие как «Грядущий хам» Мережковского. Как и Е. С, Т. А. нежно любила Диккенса, она говорила, что в романах Диккенса всегда присутствует какой-то свет, как бы печальны они ни были. Ещё Т. А. любила английские детективы (она их читала в подлиннике), как она шутливо говорила: «люблю роман с трупиком на первой странице».
В больницу Т. А. привезли без сознания. Навещать её ходили мы с моей подругой Мариной-«беленькой», как называла её Т. А. в отличие от меня, Марины-«чёрненькой», приходили Е. С. и подруга Т. А. Нина Николаевна. Помню Е. С., стоящую в больничном коридоре с потрясённым лицом: «Я говорю медсестре на посту — у неё пролежни, помогите мне её перевернуть, а она глядит на меня с отсутствующим выражением!..» — растерянно говорила мне Е. С. Это был настоящий ад, где человеческие страдания усугублялись не менее страшным человеческим жестокосердием. Свойство милосердия было почти задушено в наших сердцах... Тем большим чудом в этом аду казалось явление ангела: добрая Н. Н. приходила к Т. А. и лечила её пролежни какими-то мазями. Я приносила сладкий чай в термосе и по совету Н. Н. поила Т. А., которая уже не поднималась, из носика чайника. Т. А. благодарно закрывала глаза: «Наслаждение!» — шептали её губы. Я упомянула о романе Диккенса, «Николас Никльби», который в то время читала. «Николас Никльби... — прошептала Т. А., — какая роскошь!» Ей грезилось любимое Измайлово: «Посидеть на лавочке! — шептала она, — только бы подняться!» Соседи в больнице рассказывали, что накануне смерти Т. А. с кем-то громко разговаривала, называя имена своих умерших родственников. Наверное они её уже ждали и пришли встречать...
Отец Георгий Чистяков в своей книге сетует на то, что «в отличие от тех, кто оказался за границей, эмигранты внутри страны не оставили ни дневников, ни мемуаров...» А вот Т. А. вела дневники! Их было так много, этих тетрадей, надписанных по-французски аккуратным круглым почерком Т. А. Когда она умерла, мы с Мариной-«беленькой» успели спасти только три из них, одна хранится у меня и две — у неё, остальные пропали. В её дневниках встречаются выписки по-французски из романа Мопассана, по-немецки из Фейхтвангера и по-английски из Голсуорси. И остались ещё две толстые тетради с переписанной из неуказанных источников литературой на самые разные темы: о матери Марии Скобцовой с предисловием митрополита Антония Блюма, из писем оптинского старца Анатолия, из слова св. Дмитрия Ростовского, отрывки из статьи о Пушкине Смоктуновского, статья о Японии, выписки из Владимира Солоухина, передача из Ватикана и даже весьма сложная для среднего ума богословская концепция о. Павла Флоренского из «ЖМП» и многое другое. У Т. А. не было пишущей машинки, она, по-видимому, не умела печатать и переписывала «крамольную» литературу в свои тетради от руки! С какой любовью и терпением переписывала она эти источники страницу за страницей, тетрадь за тетрадью своим аккуратным круглым детским почерком, как трудолюбивая пчела, собирая этот духовный «нектар» отовсюду, где только было можно в эти голодные для духа времена. И сколько же их всего было, этих тетрадок, много, очень много! На сохранившихся указаны порядковые номера: 33, 45, 100. И их почти все уничтожили! Какая боль. Мы с Мариной-«беленькой» по молодости и глупости не понимали тогда всей ценности этих тетрадок и взяли из всего множества только несколько себе на память. Словно предчувствуя судьбу своих тетрадей, она пишет в дневнике:
Мое наследство — жизнь моя.
Мои заветные тетради!
Что с вами будет без меня?
Ненужный груз потехи ради?
Единственное утешение — «рукописи не горят», труды Т. А. не пропали даром, они все собраны в небесной духовной сокровищнице и изливаются сейчас невидимым потоком на «алчущих и жаждущих». В дневниках было много стихов, сочинённых Т. А. Особенно мне жалко одно стихотворение, я помню его образ и интонацию, с которой Т. А. мне его читала. В нём она идёт через пронизанную светом берёзовую рощу, и ей кажется, будто в конце рощи её ожидает счастье... «Иногда вдруг пахнёт на душу какое-то необъяснимое благодатное дуновение: всё будет хорошо. Озарит и уйдёт...»
И мне кажется, что Т. А. сейчас хорошо. Она — вместе с дорогими ей близкими людьми, со своими любимыми животными — гуляет в милой её сердцу берёзовой роще, а вечером пишет свой дневник при свете зелёной лампы. Она там, где её давно ждали, куда всегда стремилась её душа.
Назад: «Каждый человек — драгоценен!»
На главную: Предисловие