Книга: Иван III – государь всея Руси (Книги первая, вторая, третья)
Назад: Глава 13. Рать казанская
Дальше: 1
Глава 14. Смирение царя Ибрагима
В тысяча четыреста шестьдесят девятом году, февраля одиннадцатого, прибыло на Москву к великому князю посольство необычное и для всех нежданное. Прибыли из Рима от кардинала Виссариона Георгий Траханиот, по-русски его звали Юрий Грек, а с ним Антон Джислярди, родной племянник Ивана Фрязина, который издавна был денежником у великого князя московского.
Послы привезли государю лист, а что в нем писано кардиналом было, все с ведома самого папы римского.
Узнав о содержании грамоты Виссариона, Иван Васильевич принял послов итальянских келейно у себя в покоях. При нем был только дьяк Курицын да малая стража.
Одежды у послов кардинала показались великому князю по краскам и покрою своему скоморошьими и предосудительными. Юрий Грек был с бородой, и одеяние его было степеннее: широкий кафтан, весь в складках, с двумя поясами – один, узкий, на обычном месте, другой, широкий, на животе. На широком поясе висел кожаный мешочек с деньгами, туго перевязанный шнурком.
Самый кафтан у Юрия Грека был двухцветный: правая половина желтая, а левая красная. Кафтан короткий, только до колен, а ноги в одних длинных чулках: на правой ноге – красный, а на левой – желтый. Красная нога была обута в желтый длинноносый башмак, а желтая нога – в таком же башмаке красного цвета. Голова же у него повязана была широким синим поясом, короткий конец которого лежал на спине, а длинный спускался на грудь и, перекинутый через руку, висел до колен.
Вглядевшись в это странное одеяние, Иван Васильевич заметил еще, что в разрез желтой половины кафтана высовывалась рука в красном рукаве, а в разрез красной половины – в желтом рукаве.
Еще неприличнее показалось государю одеяние молодого бритого итальянца Джислярди. Он даже переглянулся с Федором Васильевичем, а стража княжая еле сдерживала улыбки.
У молодого итальянского дворянина на голове был навернут такой же пояс, как и у Юрия Грека, но ярко-кровяного цвета. На плечи накинута короткая безрукавка из леопардовой шкуры, лежавшей на спине, как широкий плащ. Безрукавка была очень короткая, чуть пониже бедер. Из-под нее высовывались руки в рукавах кровяного цвета, а в вырез у шеи виден был такого же цвета ворот, а под ним – белый ворот исподней рубахи.
Ноги же молодого итальянца видом были непристойны: можно было бы подумать, что он совсем без портов, если бы порты его, обтягивающие обе ноги, как длинные тонкие чулки, не были бы из цветных тканей. Правая нога от бедра до самого носка спереди синяя, а другая половина ее, сзади, желтая; левая же нога от бедра до носка спереди желтая, а сзади от бедра до колена синяя, а от колена до пятки – белая.
– Словно чиж со щеглом, – беззвучно шевельнул губами Иван Васильевич и, чтобы скрыть усмешку, сказал ласково:
– Слушаю вас.
Послы поклонились, став на одно колено, и, поднявшись, поклонились опять, но уж только в пояс.
Заговорил Грек, сильно сюсюкая и не выговаривая звуков «ч», «ц», «з» и «ж». Дьяк Федор Васильевич с трудом разбирал его речь и медленно переводил:
– Архиепископ грецкий Виссарион, ныне кардинал его святейшества, молит господа бога, государь, о твоем здравии на многие лета. После грозной и скорбной гибели Царьграда отец Виссарион с рвением печется о царском роде Палеологов. Наставник он и попечитель царевичей и юной сестры их. На сем яз кончаю и передаю тобе сей лист…
Юрий Грек отдал лист дьяку Курицыну и, опять поклонившись великому князю, отступил подальше от него, как этого требует на Западе порядок почитания государей.
– Погляди, Федор Василич, как писано, и читай, – молвил Иван Васильевич.
– Писано, государь, как подобает к тобе писать, – сказал Курицын.
– Читай мне токмо наиглавное. Какой речью сей лист писан?
– По-латыньски, государь, – промолвил дьяк и стал читать: «Есть в Рыме деспота морейского, Фомы Ветховсловца от царства Константинограда, дочь его, именем Зоя, православная христианка. Восхочешь взять ее собе супругой, яз сие сотворю и пришлю ее в твое государство. За ней уже присылались король французский и герцог великий меделянский, но она не хочет в латыньство…»
Федор Васильевич поклонился государю и добавил:
– Все, государь. Как прикажешь?
Иван Васильевич невольно закрыл глаза, но пересилил себя и тотчас же открыл их.
– Прими подобающе послов кардиналовых, – сказал он своим обычным голосом, – наряди корм, покои и все прочее. После придешь, когда позову! Теперь же идите все…
На другой день утром, после завтрака, с разрешения великого князя допущены были в покои его для беседы итальянцы-братья: Карло, приехавший из Рима, и Иван Фрязин вместе с племянником их обоих, Антоном Джислярди.
Иван Васильевич хотел поболе вызнать о Риме, а главное о папе, дабы ведать, какие наказы давать послам своим и какие подарки отправить папе, чтобы не было у того худого мнения о Москве и о нем, государе московском…
Великий князь сидел за столом, а подле него стояли справа дьяк Федор Курицын, а слева дворецкий Данила Константинович.
– Федор Василич, – обратился государь к дьяку, – яз токмо приму сих фрязинов и отъеду к митрополиту. Ты же тут один угостишь их, а Данила Костянтиныч в сем поможет тобе. Помни токмо, что яз тобе сказывал, и все вызнай об их обычаях рымских и на что у папы-то задор есть, дабы знать, какие подарки ему давать. Пои, не жалей. Иван Фрязин пьяница и во хмелю хошь много и наврет, но и правду по хвастовству своему скажет. Да ты и сам, Федор Василич, разумеешь сие. Яков-то писарь хитрей был, а спьяну забыл, что по-русски не разумеет. Не забудь и про турок вызнать, о какой рати против них папа мыслит.
Ефим Ефремович доложил о приходе итальянцев.
– Пусти их, Ефимушка, – молвил Иван Васильевич и, улыбнувшись, добавил: – Да скажи страже-то, не фыркали бы собе в бороды и рукава, глядя на щеглов сих рымских.
Все рассмеялись, государь же, остановив их, приказал:
– Ну, веди послов-то, Ефим Ефремыч. Да повели там, возок бы мне подали. К отцу митрополиту поеду.
Начальник княжой стражи вышел, а великий князь добавил, обращаясь к дьяку:
– При мне за стол их не сажай. Дам им испить здравицу, а отыду, тогда сажай и пируй с ними. После дойдешь ко мне. Буду яз, как ворочусь от митрополита, в хоромах у старой государыни. Обедать у ней буду…
Итальянцы и племянник их Антон вошли с низкими поклонами и, остановясь шагах в пяти от великого князя, встали перед ним на одно колено, а Иван Фрязин сказал ото всех по-русски:
– Челом бьем тобе, государь, живи многая лета.
– И вы здравствуйте, – молвил Иван Васильевич, сделав знак, чтобы они встали с колен.
Затем дворецкий Данила Константинович подал послам на подносе три серебряных кубка с заморским вином. Иван Фрязин взял кубок первым и, держа его перед собой, опять за всех провозгласил здравицу государю.
Иван Васильевич поблагодарил и, встав из-за стола, молвил:
– О том, что мне довести хотите, скажите дьяку моему, а сей мне передаст. Яз же сей часец еду к митрополиту…
Кивнув головой, он вышел из трапезной, сопровождаемый низкими поклонами.
Этот день государь обедал, как обычно, когда тайные беседы вел, у матери своей. Да и Ванюшеньку повидать хотел он: отрок уж совсем возрастал и стал лицом походить на свою покойную мать. Недоволен был Иван Васильевич сыном, что мало еще вникает он в дела государства, но, видя у него прилежание к наукам разным и к военному искусству, любил его нежно.
От митрополита государь приехал прямо к столу, а к концу обеда пришел и дьяк Курицын.
– Ну как отец-то Филипп мыслит? – спросила Марья Ярославна у сына.
– Так же, как и яз, – глухо ответил Иван Васильевич, – спешить некуда, вызнать все надобно…
– Истинно, сыночек, истинно, – одобрительно кивая, заговорила княгиня. – Жена-то не сапог, с ноги не скинешь. Жениться ведь недолго, да жить-то ведь долго, а то и весь век…
Иван Васильевич стиснул зубы, но, притворно позевнув, продолжал ровно и спокойно:
– Митрополит Филипп баит, может, папа-то рымской опять нас к унии понуждать будет? А может, царевна-то сама унию приняла в Рыме? Может, она, став княгиней московской, латыньство сеять будет среди православных?..
Великий князь замолк вдруг, поймав подозрительный, тревожный и недоброжелательный взгляд Ванюшеньки… «Разумеет, что ему мачеху берут», – подумал он, но вслух продолжал тем же ровным голосом:
– Митрополит хочет Юрия Грека повыпытать. К собе позовет на беседу и трапезу, а у него есть некий книжник, именем Никита Попович, зело хитер он во святом писании и разумеет по-грецки. Сей Никита будет вызнавать все про Виссариона и папу. Митрополит баит: «Пусть поживет Юрий Грек на Москве подоле…»
Иван Васильевич немного подумал и, обратясь к матери, спросил:
– Поманить, может, сего Грека к собе на службу, вотчину пожаловать?
– А пошто не поманить? – ответила старая княгиня. – Отец твой вотчины давал и татарам, ежели польза от сего была. Грек же Юрий не татарской веры, а единой с нами, христианской.
Иван Васильевич вопросительно взглянул на дьяка Курицына.
– И яз так мыслю, государь, – быстро ответил дьяк. – Надобен нам такой человек на службе, а слугой он, мыслю, будет верней Ивана Фрязина, денежника, а как за сие награждать, ты сам, государь, лучше меня разумеешь…
– Подумаем еще о сих делах вместе со всей родней нашей, с митрополитом и боярами. Ласкать же сего Юрья надобно: от него много вызнать можно о Рыме, о папе, и о Виссарионе, и о прочем, Ивану-денежнику мало яз верю: сей за деньги на всякое воровство пойдет. Токмо и такой нам нужен. Митрополит сказывал мне, что Фрязины все такие же, все на един лад.
Яз и мыслю, денежник наш будет под стать рымлянам, но у нас ему прибыльней. У него тут и хоромы, и деревенька есть, и жена, и дети, и жалованье немалое, а там, чай, он и не надобен, без него хватит…
Иван Васильевич оборвал свою речь и спросил Курицына:
– Ну а ты что скажешь, Федор Василич, о сем?
– Вызнал яз, государь, что все сии фрязины, – заговорил Курицын, – родня нашему Ивану-денежнику и все они венецианцы, как и наш денежник.
Бают они, что и папа Павел Второй из одного с ними государства, из знаменитого рода венецианских купцов Барбо. Хвастались, что их и родню их папа знает и верит им. Мыслю, они и ране ссылались меж собой.
– За сим гляди, Федор Василич, – перебил дьяка великий князь, – людей для сего верных найди.
– Есть такие, государь, – продолжал Курицын. – После разорения турками Крыма многие фряжские купцы, как тобе ведомо, на Москву приехали.
Все они хотят прибытка друг перед другом, а наибольшая вражда и ревность у них меж венецианцами и генуэзцами. Вот яз и найду меж генуэзцев нужных нам людей…
– Льготы некие дадим им, – снова перебил дьяка великий князь. – Разумею замыслы твои. Твори, как мыслишь, а к совету нашему собери все, что сможешь. Ныне же о папе скажи, какие подарки ему надобны, на что у него задор?
– На все, государь, – усмехнувшись, молвил дьяк. – Фрязины прямо так и говорят: «Все любит, что цену добрую имеет, а наиболе всего самоцветные каменья, сребро и злато…»
Все засмеялись, а Марья Ярославна молвила:
– У него, у папы-то, губа не дура, а язык не лопата…
– И о Цареграде баяли? – улыбаясь, спросил Иван Васильевич. – И о турках? Что деять-то хотят?
– Просто у них все, государь, – шутливо ответил Курицын. – Фрязины хвастают так: «Оженим, мол, московского государя на грецкой царевне, а она его и заставит на турок идти…»
Великий государь насмешливо улыбнулся, хотел было сказать грубую колкость о «ночной кукушке», но удержался, встретившись с тревожным и враждебным взглядом сына.
«О мачехе мыслит», – опять подумал он, и ему стало досадно и горько.
Быстро встав из-за стола, он перекрестился и поклонился матери.
– Прости, матушка, – молвил он, – днесь зело притомился яз. Пойду к собе…
С казанской войны приходили разные вести. Московские полки били казанцев, но и татары местами христиан били, а земли друг друга опустошали взаимно.
– Так не может быть доле, – говорил Иван Васильевич. – Губим зря православных. Надо обмыслить все и так ударить, дабы сразу пришибить Ибрагима…
Великий князь торопился покончить дела с посольством папы и уже обдумывал новый, дополнительный поход на Казань. Он спешно вызвал из-под Казани к себе брата князя Юрия Васильевича на думу о войне, а заодно и на семейный совет, который назначен был им на десятое марта, в субботу на второй неделе великого поста.
Князь Юрий прибыл вовремя. Он сам спешил к брату, ибо многим недоволен был в ведении войны с татарами. Пуще всего не по нраву были ему разнобой и случайность действий воевод, не было в войске единого воинского управления. Братья часами беседовали с глазу на глаз, а Юрий даже чертил на бумаге, как и где ратные силы размещать…
Семейный совет отвлек их от военных совещаний. Утром десятого марта, после завтрака, собрались в трапезной государыни Марьи Ярославны сыновья ее с государем во главе, князья Патрикеевы, князья Ряполовские, бояре Плещеевы и другие представители от знатных родов. Ждали митрополита, и когда тот подъехал к красному крыльцу княжих хором, его встретил там князь Юрий Васильевич с боярами, а при входе в переднюю – сам государь и старая государыня.
Пройдя в трапезную Марьи Ярославны и прослушав краткую молитву, произнесенную митрополитом, государь и государыня сели за стол в красном углу, возле митрополита, а все прочие по старшинству сели вокруг них.
Длинный стол накрыт был шитой белой скатертью, а на нем по случаю поста великого стояли сулеи только с медом пресным и жбаны с квасом житным без хмеля, а меж них на блюдах лежали ломти хлеба ситного, репа пареная, грузди соленые, капуста квашеная, яблоки моченые с брусникой и прочая зеляньица из разных овощей.
Владыка, прочитав молитву, благословил трапезу, и, когда все закусили и стали пить квас и мед, великий князь молвил:
– Отче, государыня, и братья мои, и все князи, и бояре мои! Яз молю вас думу со мной подумать о грамоте кардинала рымского Виссариона. Оный, как всем уже ведомо, за меня царевну грецкую сватает, родную племянницу последнего царя грецкого Костянтина. Надобно ныне ответ дать и Виссариону и папе римскому, ибо без воли папы не может в сих делах один кардинал решать…
Иван Васильевич помолчал и вопросил митрополита Филиппа:
– Отче и учителю мой! Первое слово твое, ибо дело тут не токмо в пользе государства Московского, а и в пользе и вреде для веры православной…
Владыка Филипп, подумав малое время, заговорил ясно и отчетливо:
– Государь мой и сыне духовный! Аз, грешный, мыслю, сам господь посылает тобе столь знаменитую невесту, отрасль царственного древа, которого сень покоила некогда все христианство православное, когда оно неразделимо еще было папскими ересями с Рымом. Сей благословенный союз с племянницей царя Константина будет подобен союзу святого Володимера киевского с грецкой царевной Анной…
Митрополит поднялся со скамьи и, перекрестившись широким крестом, торжественно провозгласил:
– Ниспосли, господи, сему делу успех, да будет Москва новым Константиноградом, сиречь Третьим Рымом, дабы оплотом стать всему христианству православному…
Старая государыня прослезилась и молвила громко, крестясь:
– Дай, господи, дай сие народу моему православному…
Говорили потом князья Патрикеевы, и князья Ряполовские, и брат государя, князь Юрий Васильевич, и Плещеевы, и прочие бояре. И говорили все в согласии с митрополитом, добавляя только об осторожности, не попасть чтобы в сети латынян. Говорили о согласии всех удельных князей и бояр, дабы в содружестве крепком общими силами скинуть иго татарское…
Когда все сказали, что думали, великий князь только поблагодарил присутствовавших за советы, но своих мнений не высказал.
Отпуская же всех, добавил:
– Руководствуясь наставлениями вашими, так все содею, дабы не впасть в сети латыньства, а добыть для Москвы токмо выгоды…
Иван Васильевич встал и поклонился всем.
Марта двадцатого, после приема у великого князя в присутствии всего двора его, послы кардинала отбыли в Рим с грамотой о согласии государя на брак с царевной и с его подарками. С ними, по поручению государя московского, поехал Иван-денежник, которому приказано было повидать царевну и лик ее, на кипарисовой доске писанный, привезти…
С этого же дня Иван Васильевич, вызвав к себе воеводу Беззубцева, Константина Александровича, с ним и братом своим, князем Юрием, весь пост обдумывал поход на Казань, а воевода чертил на бумаге и отмечал, что надобно. К концу же марта был уже беспримерный поход на судах по всем рекам, ведущим к столице Казанского царства. Наибольшим воеводой назначен был Константин Александрович Беззубцев. Ему приказано было к Фоминой неделе, что приходилась в этот год в первые числа мая, заготовить ладьи и прочие суда для похода. Но и после этого не прекращались обсуждения и военные совещания у великого князя…
Все же, когда зазвонили, загудели кремлевские колокола в светлое воскресение, не смог пересилить себя Иван Васильевич: с радостью и болью душевной встретил он у себя в покоях Дарьюшку. Никогда он так не любил ее, как теперь, чуя скорую разлуку с ней навсегда. Все горести и все дела свои забыл он, когда снова, как дитя малое, носил ее на руках, целуя и в уста и в очи… В ласках и нежностях уходила короткая весенняя ночь, и ранняя заря молочно-розовым светом стала уж по небу разливаться, когда Иван Васильевич, взглянув в лицо Дарьюшки, увидел – затосковали глаза ее…
– Ты что, Дарьюшка?
Улыбнулась она, но не вышла улыбка.
– Так, Иване, – молвила она тихо. – Не хочу я ни о чем мыслить. Дума у меня одна – еще часец малый, а с тобой побыть, Иванушка. Что мне ныне горевать-то, хватит вборзе мне горюшка до гробовой доски…
И видит Иван Васильевич, опять веселеет она. Ласкает его, и глаза сияют снова, и шепчет ему:
– Ведаю, токмо за малое время счастья моего не едину, а две жизни отдам, Иване мой…
Он тоже шепчет, сжимая ее в объятиях:
– Доколе возможно, радость моя, не отойду от тобя, души моей неувядаемый цвет…
В конце Фоминой недели по указу государя выступил из Москвы воевода Беззубцев в поход на татар. Хотел он поспеть в казанские земли ко времени, не пропустить половодья на мелких речках, по которым надобно плыть до Оки и Волги. Под началом его шел на рать не только весь двор великокняжий с детьми боярскими ото всех городов и уделов, но и сурожане и суконники с Москвы, и московские купцы вместе с черными людьми всякого рукомесла и занятия. Воеводой у москвичей был князь Петр Васильевич Оболенский-Нагой.
Другие же подначальные Беззубцеву воеводы с полками своими в те же дни тронулись из разных городов к месту соединения с главным воеводой, к Новгороду – Нижнему, старому.
Полки садились на суда в Москве, Коломне, Владимире, Суздале, Муроме, Димитрове, Можайске, Угличе, Ростове, Ярославле, Костроме и в иных местах.
Насады, лодки и другие суда с воинами и снаряжением воинским со всех сторон стремились к Оке и Волге и плыли потом по этим знаменитым рекам до их слияния у Нижнего Новгорода. Всполошил поход такой на пути своем все деревни и села, и быстрые вести о нем, одна за другой, непрерывно приходили в Москву отовсюду, сообщая с волнением и тревогой о грозном и небывалом судовом ополчении.
Государь и князь Юрий Васильевич внимали всем слухам народным и радовались.
– Ныне, государь, – говорил князь Юрий старшему брату, – вся чудь белоглазая, мещера и прочие язычники почуют силу руки московской, под которой живут!..
– Истинно так, – соглашался Иван Васильевич, – но, мыслю, не токмо страхом надо нам силу свою крепить, а и по-иному…
Он помолчал и, обратясь к вошедшему дьяку Курицыну, неожиданно спросил:
– Помнишь, Федор Василич, о реке-то что мы баили? Куда от нее и на какие мельницы воду отводить, дабы она впустую али во вред нам не работала? Сиречь на кого надо опираться нам, на ком нам силу свою государеву крепить?
– Помню, государь, – ответил дьяк.
– Ныне яз покоен, – продолжал с усмешкой Иван Васильевич. – Опора нам во всем дети боярские, дворяне, помещики малые. У сих сироты перво-наперво – вои государевой службы, а не токмо пашенные кони, как у иных. Сами же дети боярские и подобные им – слуги нам верные, ибо будем мы сильны и богаты, и они с нами сильны и богаты станут. Бояре же и князи добре ведают: чем государи сильней и богаче, тем они, бояре и князи, слабей да бедней, а посему – они идут против нас. Они, как и новгородская господа, мыслят о том, дабы изделать из нас угодников и слуг своих…
– Ну, государь, – возразил Курицын, – сил у них нет таких, как у господы новгородской…
Иван Васильевич рассмеялся.
– Ведаю, что сил-то у них нет, – произнес он резко, – но ведаю, Федор Василич, что в кажном из них сидит или Шемяка, до власти охочий, или вотчинник, жаднущий до земли, до холопов и до денег…
Иван Васильевич сжал кулаки и положил их на стол.
– Яз же, – воскликнул он, сверкнув глазами, – так их зажму, что и дохнуть не смогут! Всякие льготы и опричнины боярским детям дам, из крепких сирот и холопов дворян изделаю. Мелкие-то у меня крупных съедят…
Помолчав некоторое время, он успокоился и продолжал:
– Постоянное войско нам крепить надобно. Будут ежели у нас полки многие и верные, будут добре снаряжены, то Москва возьмет все в свои руки и скинет иго татарское…
Весна была в полном разгаре. Травы кругом цвели и деревья, в тальниках же и кустарниках на берегах волжских затонов пели соловьи по ночам, громко щелкая и рассыпаясь серебром от зари до зари, а днем комары, немолчно жужжа и звеня, тучами носились над берегом. Крякали утки в камышовых зарослях, пищали чайки, непрерывно мелькая в воздухе, и тонко посвистывали на песчаных отмелях большие и малые кулики…
Караван за караваном из лодок подплывал по широкой полой воде к Нижнему, а воевода Константин Александрович еле терпел сам и еле сдерживал полки свои, чтобы раньше времени не ринулись вниз по Волге-реке к ненавистной Казани. Гонца за гонцом слал он к великому князю на Москву, сообщая о прибытии новых полков и указывая примерный срок, когда можно будет ударить на Казань с разных сторон, окружить, осадить, разорить и сжечь дотла это разбойничье гнездо. Такая гоньба не зря была – почуял воевода Беззубцев что-то иное на Москве. Не стало уж на запросы его ясных и твердых ответов государя, как ранее…
На Москве же меж братьями не было согласия из-за молений вдовы покойного царевича Касима, приехавшей в стольный град бить челом великому князю. Просила она отпустить ее в Казань к сыну родному Ибрагиму, царю казанскому. С клятвами и лестью обещала она государю московскому миром добиться полной покорности сына, безо всякой войны.
– Муж и господин мой, – говорила она, – до конца живота своего служил Москве верой и правдой. Так и яз послужу тобе, государь.
По обычаю своему татарскому была она вся окутана широкими одеждами, а сверху на голову ее накинут был широкий красивый халат из темно-зеленого шелка, и среди всех этих одеяний видны были только глаза, мягкие и нежные, как дорогой черный бархат. В глазах этих, меж густых ресниц, блестели слезы…
Иван Васильевич колебался. По великой осторожности своей не хотел он вверяться случайностям войны и берег войско свое, боясь и Ахмата и польского короля. Мирное решение распри влекло его сердце, но боялся он вверяться и вдове Касима, по слухам, женщине коварной и хитрой.
– Государь, – горячился к тому же князь Юрий Васильевич, – послали мы к Устюгу, как решено было, воеводу своего князь Данилу Васильевича Ярославского. Пришел к нему из Вологды и воевода Семен Пешак-Сабуров с вологжанами, а каким воровством вятчане их изолгали? Стала Вятка за Ибрагима! Не приходится своим православным верить, как же верить басурманке?!
Но не послушал брата государь московский. Дал он подарки вдове Касима и опасные грамоты до самой Казани, веря, что мир и для Ибрагима нужен.
– Брате мой Юрий, – мягко сказал Иван Васильевич, – не басурманке яз верю, а делам сего времени. Разумеют, чаю, татары, что у Москвы сил-то поболе ихних, и потому захотят мира на таком случае. Мы же войска своего не тронем, палку будем доржать над Казанью…
Созвал всех воевод своих набольший воевода Константин Александрович.
– Утре, – молвил он радостно, – будем служить после обеда молебен перед войском, а вслед за сим воссядем на суда свои: изгоном поплывем на Казань, как сие еще на Москве решено было.
– Живи, Москва! – радостно кричали воеводы. – Дай бог нам помочи, а государю здравия!..
Веселый и радостный, распорядился Константин Александрович:
– Идите приказы давайте полкам своим о походе наутре. На вечернюю же трапезу прошу всех ко мне! Пир пировать будем…
С шумом, смехом и говором разошлись воеводы, а вечером, когда вновь собрались все за столами Константина Александровича и выпили уж по первому кубку за начало похода, прибыл гонец из Москвы и привез грамоту государя для главного воеводы.
Все затихли за столами, не ведая, чего ожидать от приказа великого князя, и молчали все князья и воеводы. Воевода же набольший, возвратясь из покоя своего, печален был и молвил:
– По-иному решил государь наш. Повелел он всем вам, князи и воеводы, кто захочет, идти воевать казанские места по обе стороны Волги. Мне ж велел здесь, в Новомгороде Нижнем, быть. Вам же идти, но токмо к самому граду Казани не ходить…
И пошел шум и разговоры, – спорили все, как выполнить сказанное и что лучше: старое московское замышление или это новое…
– А не все ль едино, – воскликнул один из воевод, – по какому замыслу бить татар и добро их имать! Спросим вот еще воев наших, кто из них в охочие люди пойдет…
– Утре после молебной, – молвил на это Константин Александрович, – сам яз из княжой грамоты воям прочту…
– Истинно, истинно, – весело закричали кругом, – утро вечера мудреней!..
– Сей же часец пировать будем! Будем пить, пока еще живы, а после – что бог даст…
Зазвенели чарки и кубки, и закружился колесом веселый пир.
Утром на другой день, лишь зазвонили к ранней обедне, все полки московские были в движении, и вести о новом повелении государя передавались из уст в уста. Весь берег был усеян воинами под Нижним Новгородом, ждали здесь, когда выйдет сам набольший воевода, ибо во граде не было места для такого множества людей.
Вот отзвонили и отпели уж во всех церквах, разошлись по домам православные, и набольший воевода Беззубцев пришел к берегу, стал на высоком краю и крикнул затихшему сборищу:
– Слово вам государево читать буду!..
И понеслось вдоль всего берега, переливаясь волнами и замирая вдали:
– Да здравствует государь наш!..
– Многие лета великому князю…
Но стихло снова все многолюдство, и слышно даже стало в тишине великой, как в посаде петухи перекликаются…
– Пишет мне государь наш, – начал снова зычным своим голосом Беззубцев, держа в руках грамоту, – оставаться-де всей силе его ратной здесь, в Нижнем Новомгороде, а воевать токмо охочим людям. Пишет он…
Воевода приблизил к глазам грамоту и прочел:
– Пишет он, государь-то: «Восхощете идти воевати казанские места, идите по обе стороны Волги, токмо к граду Казани не ходите!»
– Многие лета государю! Сла-ава! – снова волнами покатилось по всему берегу.
Замахал воевода шапкой, и снова все стихло и замерло.
– Кто охотники, – закричал опять Константин Александрович, – выступай вперед!..
Сразу, будто в бурю волны морские, закипел весь народ, и все войско передвинулось вперед, а из многолюдства ревели наиболее сильные голоса:
– Все хотим на татар окаянных!..
– За церкви святые!..
– За государя своего, великого князя Ивана!..
– За все христианство православное!..
Бросились все к судам своим, укладывать стали в них весь скарб свой и ратное снаряжение. Не прошло и двух часов, как ладьи и насады с воинами потянулись вниз по Оке к Волге-матушке, под Новгород под Старый, и стали там под Николою на Бечеве.
Вышли тут из судов своих, пошли все в молчании и чинно к церкви Преображения господня и повелели бывшим там попам молебен служить за великого князя и за воинов его. Вернулись к берегу и тут, у святого Николы, тоже отпеть повелели молебен Никольским попам, а потом всем клирам церковным и нищей братии милостыню роздали, каждый по достатку своему.
После того собрались все воедино у берега, и воины и воеводы, которые с ними пошли, и начали думать, кого себе воеводой главным поставить, дабы для порядка в войске единого начальника всем слушать. Сперва начался кругом шум и крики, до драки почти доходило, но после, утихомирясь и хорошенько пораздумав, избрали себе вольной волей Ивана Руно…
В тот же день под началом Ивана Руно отплыла вся сила охочих на шестьдесят верст от Новгорода вниз по Волге-реке, и на берегу ночевали все по-походному. На другой же день обедали они уж на Рознеже, а ночевали на Чебоксаре, а от Чебоксар день весь да ночь шли на веслах, и приплыли под самый град Казань на ранней заре, двадцать второго мая.
Туман еще молоком разливался над гладью речной и заливными лугами казанскими. Тишь стояла мертвая, и едва-едва розовело небо. Но вот и туман подыматься стал над водой и землей, превращаясь вверху в легкие розоватые тучки.
Тихо, без всякого шума и говора, строились полки московские и один за другим, только по знаку воевод своих, двинулись, окружая посады казанские все тесней и тесней. Во многих местах воины московские уж огни высекали из огнива на трут и поджигали солому и всякую горючую сушь, дабы посады зажечь, когда надобно будет.
В миг этот грянули вдруг все набаты разом, затрубили трубы звонкие боевые, ворвались в посады с криком и воплем воины московские, секут саблями, грабят и в полон имают, а что в плену у поганых тут христиан было московских, рязанских, литовских, вятских, устюжских, пермских и иных – всех на свободу пускают, под свою защиту берут. Зажгли посады казанские со всех сторон. Многие татары, не хотевшие попасть в руки христиан и хороня богатства свои, запирались в хоромах вместе с женами и детьми и сгорали там семьями со всем достоянием своим…
Сгорели дотла все посады казанские, а рать московская отступила от града, ибо притомилась от боя с неверными среди истомы огненной. С добычей многой и полоном татарским сели они в насады и лодки свои и отплыли на остров Коровнич, Делили тут промеж себя полонян и полонянок и всякое добро, что в посадах награбили. Средь шума, ссор и драки, не имея от воеводы своего Ивана Руно никаких приказаний, проводили время в ратном бездействии…
Только на восьмой день спохватилась рать московская, устрашась грозных вестей из Казани. Выбежал тайно от татар один пленник их, приплыл ночью вплавь на Коровнич остров и, собрав криком воинов, сказывал им в тревоге великой:
– Пошто, склав руки, сидите? Царь же Ибрагим дополна собрался на вас!
Со всей землей своей, с Камской и Сыплинской, с Костяцкой и Беловолжской, с Воцкой и Башкирской! И быть ему на вас, православные, ныне на ранней заре и с судовою ратью и с конной!..
Собрались воеводы великого князя наспех, думали думу наскоро.
Отобрали они молодых воинов, послали их на больших судах к Ирихову острову и стать велели там, а в узкое место Волги им не выходить. Сами же воеводы с прочими воинами на малых ладьях остались у берега, дабы первый удар принять от татар, которые, как видно уж было, выходили из града казанского.
В это время молодые воины московские, то ли ошибкою, то ли дерзостью, зашли на больших судах, вопреки приказанию, в узкую протоку. Видя это, татарские конники прискакали к самому берегу, зачали стрелы пускать тучами, дабы побить их всех, но русские отбились от конников казанских и, отогнав их от берега, ушли потом из узкой протоки в безопасное место.
Судовая и конная татарская рать, видя воевод только в малых лодках и в небольшом числе, окружила их со всех сторон. Воеводы же московские и воины их не испугались, что татар много, а грозно и с мужеством сами ударили на них, били, и топили, и гнали их до самого берега, да и на суше еще били их, пока не побежали татары ко граду Казани.
После боя этого славного пошли на ладьях воеводы к Ирихову острову и, став там, соединились с большими судами, на которых были молодые воины.
Вскоре прибыл сюда спешно из Нижнего главный воевода Беззубцев, сведав, что воеводы охочих людей, вопреки воле государевой, подступили к Казани. Уразумев дело и видя угрозу от силы татарской, послал он немедля гонцов к другим воеводам: к князю Даниле Ярославскому с москвичами и устюжанами и к Сабурову с вологжанами. Приказал им плыть к Вятке и, захватив вятскую рать, спешно идти на Казань «изгоном». Не знал еще тогда воевода о воровстве вятчан, которые, не желая под рукой Москвы быть, тайно договорились с царем Ибрагимом. После же этого призвал он к себе воеводу Руно на беседу с глазу на глаз. Константину Александровичу, старому воеводе, понятно все было, что и почему под Казанью случилось. Захотелось подручным его пограбить татар. Удачно посады сожгли, награбили, но мало им этого – запугать казанцев думали, выкуп с самой Казани взять…
Сурово встретил он воеводу Руно. Молча поглядел на него исподлобья и молвил:
– Ну, что скажешь, Иван Митрич? Пошто на Казань ты замахнулся вопреки воле государевой? Пошто потом, склав руки, случай утерял?
Беззубцев прищурился насмешливо и едко намекнул:
– Чего ж ты ждал-то? От кого и какого добра? Забыл слова государевы в Володимере-то? Его ведь умолить не можно – сего не простит. При нем ведь головы-то не крепко на плечах сидят…
Испугался Руно и, побелев, молвил:
– То вороги мои бают! Со зла на мя брешут…
Вспылил Беззубцев, закричал:
– С лету хотел сорвать? Казань, мол, все одно не ваять, а сорвать с нее, может, мол, и удастся! Да ведь и татары-то не дураки! Ведают, и без посула уйдешь: сил у тобя мало…
– Не погуби, Костянтин Лександрыч, сам ведь ведаешь ратные дела.
Случай-то легкий блазнит…
Старый воевода молчал.
– Одно тобе во спасение, – наконец проговорил он, – что посула еще не имал, токмо блазнился на сие. За ослушание же воле государевой тоже тобе снисхождение есть: из полона много православных отнял, бились вы с погаными знатно…
Вздохнул свободно Иван Димитриевич, а Константин Александрович, помолчав, добавил:
– Днесь же пошлю гонцов к государю о делах казанских. Сказывай мне все, что и как у вас под Казанью было, что о силах татарских тобе ведомо.
Сказывай токмо честно…
Более шести недель воевода Беззубцев ожидал прихода воевод великого князя из Устюга и Вятки и стоял со своими полками перед Казанью в бездействии, укрепившись на Ирихове острове. Ясно видел он, что для полного окружения Казани и взятия приступом крепости не хватает ему ратных сил.
Предвидел он все трудности осады и потери в людях во время приступов.
Только московские и устюжские полки князя Ярославского, да вологжане воеводы Сабурова совместно с вятичами могли дать ему нужную силу для удара по Ибрагиму. Не смел он ошибаться пред такими воеводами, как сам государь и брат его Юрий, а из Москвы тоже никаких вестей не было по непонятным причинам.
Между тем стало уж в войске его не хватать корма коням и продовольствия людям. Подумав думу с подручными своими, рассудил Константин Александрович за благо вернуться, пока еще сила у войска не иссякла. Ведь к Нижнему Новгороду идти вверх по Волге-реке и на веслах, а где и бечевой на конской тяге…
Ранним утром тронулась скрытно вся рать русская и до рассвета уж далеко была от Казани. До вечера шла на веслах без отдыха, а ночью ладьи небольшими караванами бечевой кони тянули вдоль берега. На другой день, ближе уж к полудню, заметили они ладью большую, богатую, с навесом из белой кошмы, расшитой цветами, как для князей и бояр это делают. Много слуг на ладье той было, а вокруг нее плыли лодки со стражей татарской.
Окружили встречных передовые лодки русской рати, а к ним вышел старый седобородый мулла и прокричал по-русски:
– Вдова Касима-царевича, Нур-Султан, едет. Вот опасные грамоты великого князя…
Подъехал сам главный воевода Беззубцев и по приглашению царицы татарской взошел в ладью. Она приняла его в глубине шатра, сидя на коврах и подушках.
Воевода поклонился ей, а мулла подал ему опасную грамоту государя московского. Хотел уж идти воевода, разрешив царице ехать дальше, но та пригласила его отведать шербету и, блестя только глазами из-под накинутого на голову халата, заговорила:
– Князь великий отпустил меня к сыну моему Ибрагиму, царю казанскому, со всем добром и с честию. Не будет уж боле никоего лиха меж них, но все добре будет!..
Понял только тут Константин Александрович, почему государь не велел ему в Казань идти.
– Может, бог даст, так и будет, – молвил он вслух и, поблагодарив царицу, вышел из шатра и сел в ладью свою, повелев воинам своим снова вверх идти на веслах, а царица поплыла вниз к Казани. Не понравилось только одно воеводе: две лодки из стражи татарской, вырвавшись вперед других своих лодок, погнали на веслах вниз по реке и скоро ушли из глаз.
– С вестью посланы, – сказал Иван Димитриевич Руно.
– И яз сие мыслю, – согласился Константин Александрович. – Токмо нам о сем мало гребты: мать ведь царица-то, и сына упредить хочет…
Подумав малость, он добавил:
– Ныне, Иван Митрич, мне ясно стало, пошто государь Казань воевать не велел, а ты вот все посады пожег, ограбил, полон татарский захватил…
– Зато, Костянтин Лександрыч, сколь своих православных из полона освободил…
– Ныне суббота, Иван Митрич, – перебил его Беззубцев, – мы вот дойдем днесь до острова Звенича, отдохнем, ночевать там будем, а утре, в неделю, обедню отслужим, пообедаем и поспим еще малость. После же, не спеша, поплывем к Нижнему…
Спали все долго, и уж в пол-утра только повелел воевода священникам, бывшим при войске, обедни служить по полкам, а кашеварам обед стряпать.
Одни уж, обедню отслушав, садились за столы, у других же, при походных церквах, еще служба шла, как вдруг показались татары казанские; судовой ратью по воде и конной – по берегу.
Видя это, все воеводы и все воины войска великого князя кинулись к лодкам и насадам и, подняв паруса и выгребаясь изо всех сил, бросились стремительно против судовой рати татарской.
– Москва! Москва! – кричали русские, врезаясь в татарский караван и нанося удары во все стороны. – Москва!
Не выдержали такого напора казанцы и, бросив бой, погнали в страхе лодки свои к берегу, где была их конная рать…
– Москва! Москва! – кричали русские и, преследуя, били татар, топили их с лодками вместе.
Татарские конники тучи стрел стали пускать в русских, и нельзя было этого выдержать. Повернули москвичи к своему берегу, а лодки татарские, воротясь, погнались за ними. Видя это, православные обернули ладьи назад и опять на татар ударили, а те снова к своему берегу бросились под защиту конных стрелков своих…
Так бились весь день, до самой ночи, а с темнотой разошлись ночевать, каждый на свой берег.
Наутро же, когда солнце всходить стало, повелел Константин Александрович на своем берегу строиться коннице, идти потом берегом к Нижнему Новгороду. Рати же судовой повелел, распустив паруса, ибо ветер попутный подул, и помогая веслами, плыть вверх по Волге-реке следом за конницей.
Татары же хоть и видели это, но не посмели выплыть на Волгу, дали русским уйти беспрепятственно…
В эти же дни воеводы князь Данила Васильевич Ярославский и Сабуров с москвичами и устюжанами, догадавшись об измене вятичей, с малой ратью своей одни пошли на Казань по зову гонцов воеводы Беззубцева. С конницей и судовой ратью спустились они по Вятке к Каме. Ходко шли вниз по течению рек до самой Волги, подгоняя ладьи и насады веслами, а при попутном ветре подымали и паруса.
В самом начале августа, через день только после первого спаса медового, вышли они уж в устье Камы и спешно пошли вверх по Волге, с трудом выгребаясь на веслах. Надеялись вскоре встретить своих, какие-либо отряды из войск главного воеводы Беззубцева.
Подымаясь к Казани уж и поставив паруса, вдруг увидели они втрое большую судовую рать, которая, преградив Волгу всю поперек течения, устремилась на них с криком и гиком татарским, поминая аллаха и пророка его Магомета…
Ужаснулись русские, да делать нечего, деваться уж некуда – надо и бой принимать и грести против течения. Дали знак воеводы и перекрестились, и все сразу поняли, что им делать надобно.
– Москва! Москва! – закричали русские воины, и запели стрелы с обеих сторон из луков и самострелов.
Сшиблись вражьи ладьи, попарно связанные, с ладьями московскими, и заблистали сабли, полетели копья, рогатины кололи, бердыши рубили.
Вскакивали русские в лодки татарские, били по головам татар ослопами, резали ножами и кончарами, топили в реке. На берегу же конные рати бились, и там русские, хоть и дорогой ценой, а путь себе тоже пролагали к Новгороду Нижнему…
Не час и не два уже бьются рати князя московского с казанцами и, вопреки их множеству, храбростью татар подавляют. Кипит, не переставая, на воде и на суше рукопашный бой. Много падает русских, но еще больше татар.
Вдруг будто слабеть стала судовая рать русских, но с криком тут как выскочит вперед всех князь Василий Иванович Ухтомский…
– Да живет Москва! – кричит. – Да живет великий князь Иван!
Побежал он с ослопом по связанным лодкам неверных – и топит в реке татар. Бросились все воины за ним и разметали всю татарскую рать судовую.
Понеслись лодки неверных к тому и другому берегу в бегстве, а русские, прорвавшись и собравшись воедино, на веслах и под парусами устремились вверх по Волге, открыв себе путь к Новгороду Нижнему. Пробились еще в меньшем числе и конная рать московская, которая, к счастию своему, шла по берегу правому, против левого, казанского…
Казанцы, измученные беспримерной битвой и мужество в сердце утратив, не смели гнаться за храбрыми устюжанами и вологжанами ни по воде, ни по суше…
В Москве же и государь и князь Юрий Васильевич были в великой тревоге и смятении, вестей никаких не имея из-под Казани, а было это уж после успенья, шестнадцатого августа. Все же оба они средь беспокойства своего уже о новом судовом походе думали.
– Главное, – говорил Иван Васильевич, – отдыху татарам давать не надобно. Они могут быть сильней нас в кратком бою. На долгое же время у них сил не хватит, и мы всегда побьем их…
– Верно, государь, – соглашался Юрий Васильевич. – У меня только гребта за воев наших и воевод, во зло не попали бы. Татар же, верю, побьем и Казань разорим…
– Ну, зорить-то не надо, – возразил государь, – пригодится еще! Нам бы токмо под свою руку взять, да, как в железы, всю данями опутать, рабов у нее поотымать и полонян наших всех отбить. Нам, Юрьюшка, силы-то беречь надобно, на Ахмата да на Казимира…
Стук в дверь прервал слова государя, вбежал дворецкий Данила Константинович.
– Государь, – воскликнул он, – гонцы и вестники от воеводы Костянтина Лександрыча, а следом за ними от князя Ухтомского!..
– Зови ране от Беззубцева, сии важнее нам…
Вестником был расторопный боярский сын из Владимира, Кузьма Коновяз, сын Ивана Овчинника. После моленья пред иконами и здравицы он перво-наперво, по наущению воеводы Беззубцева, повествовал:
– Полон большой христиан у поганых отбили, к Новугороду Нижнему с собой привели: московских, рязанских и даже литовцев православных, вяцких, устюжан, пермяков и прочих. Все за то Москву славят…
Государь усмехнулся и взглянул на брата. Тот был, видимо, тоже доволен.
Потом рассказал Кузьма Коновяз о встрече со вдовой Касима.
– Изолгала нас царица-то, – молвил он, – будто у тя, государь, добро во всем с царем Ибрагимом казанским, с сыном ее. Уразумел тут воевода, пошто ты на Казань идти не велел. Но все сие ложь татарская была. Токмо волей божьей да мужеством спаслись мы от воровства ее, когда рать судовая татарская и конная на нас напала нежданно-негаданно…
Иван Васильевич опять взглянул на брата и, увидев укор в глазах его, сказал с досадой:
– Яз почитал Ибрагима за разумного. Не мыслил никак, что сотворит он себе худшее, а не лучшее…
Долго потом расспрашивали оба брата вестников о всех боях и стычках с татарами как в конном строю, так и в судовой рати и в пешем бою.
Отпуская же вестников воеводы Беззубцева, повелели дать им все для пития и прокормления и ждать приказа государева.
Затем были призваны вестники от князя Василия Ухтомского. Эти вести о мужестве русских воинов еще более усладили сердце государя, но и более опечалили потерями в той битве славной. Государь дал устюжанам жалованье разное и золотую деньгу, сказав:
– Ежели что будет надобно, бейте челом мне, государю вашему…
Когда же братья остались одни, то, обсудив все с пристрастием и великим тщанием, решили слать немедля на Казань новую судовую рать.
Во главе нового похода этого поставил великий князь братьев своих – Юрия Васильевича и Андрея большого да князя верейского Василия Михайловича.
Юрий же Васильевич, как главный воевода, брал с собой воевод, которых ценил наиболее: князя Ивана Юрьевича Патрикеева, князя Данилу Димитриевича Холмского и князя Федора Давыдовича Пестрого…
Эта рать шла к Казани много скорее, чем первые две. Все пути уж были разведаны, а нижегородская рать воеводы Беззубцева и все повадки казанских татар на деле проверила и в речных и в сухопутных боях, да и устюжане тут были, а главное – дух был иной. Много значило, что во главе войска были братья государевы, особенно князь Юрий Васильевич – гроза татар, как его уж все звали, да и воевод знаменитых много было.
Князь Юрий, согласно воле великого князя, в первую очередь нарядил гоньбу вестников таким образом, чтобы государь всякий день получал вести с казанского ратного поля.
Видеть мог государь по этим донесениям, будто с горы высокой, весь поход. Видел он, как князь Юрий, наступая день за днем на Казань, отрезал от нее по пути к ногайским татарам, то пути к подручным князькам из язычников. Сами же рати московские, конные и судовые, словно грозные тучи, наползали со всех сторон на Казань неуклонно, гоня пред собой отряды татарские.
– Возьмет он Казань-то, – говорил Иван Васильевич дьяку Курицыну, – походка у него твердая, а головушка ясная.
Многочисленная конная рать шла сухим путем. Князь Данила Холмский вел Передовой полк, а с Большим полком ехал сам князь Юрий Васильевич. Князь Андрей Васильевич с судовой ратью плыл по Волге-реке.
К сентябрю уж близилось время, и в Москве с нетерпением ждали, когда Казань окружена будет.
– Юрьюшка-то знает, – говорил матери тайно Иван Васильевич, – как воду отнять у поганых. Токмо бы осадить град их крепко. Пока же гонит Юрьюшка татарские полки к Казани, Андреюшка уж немало лодок у поганых отбил, и от него тоже казанцы бегут…
Сентября первого, на Семена-летопроводца, когда осталась от лета только одна рябина-ягода, да и та горькая, подошли московские конные и судовые рати к Казани. Встретили их на суше полки татарские, выйдя из стен крепости. Со стен же пищали немецкие били, когда русские полки на татар пошли. Первым вышел в бой князь Данила Холмский с Передовым полком, стал стеной перед Казанью, а татарские конники с визгом и воплем бросились на него со всех сторон, но, как об стену ударясь, отскочили прочь, а следом за ними погнал весь полк ровным строем, но перед пешими полками казанскими разделился надвое и врубился в пехоту с правого и левого крыла, а в лоб пехоте татарской конники Большого полка ударили, а за конниками шла пехота московская, вся судовая рать. Гремели пищали со стен Казани, но толку для татар от этого не было. Русские же пешие воины, за спиной своих конников, бежали в обход татар, чтобы обойти их и к воротам если не ранее их, то в одно время поспеть и в град казанский вместе с ними вбежать.
Увидели это со стен воеводы казанские, дали знак, – затрубили трубы отбой, и татары в страхе, спеша и давя друг друга, назад кинулись к воротам. Гнали их полки московские, кололи копьями, и саблями секли, и многих побили прежде, чем в град татары вбежали, и ворота за собой затворили, да на засовы железные заперлись. Все же не успели некоторые, остались за стенами городскими и были побиты все, а из князей и воевод казанских троих москвичи живыми взяли в полон.
После этого, по приказу князя Юрия Васильевича, воеводы московские объехали вокруг всей Казани, поставили полки конные и пешие кольцом, приказав особенно крепко стеречь у всех ворот, чтобы ни войти в Казань, ни выйти из нее нельзя было. Обложили, осадили град казанский полностью.
Собрав воевод, сказал им Юрий Васильевич:
– Сами, чай, видели – духу ратного нет уж у казанцев. Надо еще боле страшить их с вечера, дабы ночь была тревожна, а на самой заре, когда воям их отдых надобен, якобы на приступы идти в разных местах, дабы до самого рассвета не спали…
Сам же князь Юрий с землекопами и плотниками поехал тайно кругом града казанского искать, где вода от реки Казанки под стенами проходит.
Говорили, что рукав есть подземный, от реки Казанки отведен, ибо в самом граде нигде никакой воды нету, даже в колодцах. На каменных холмах град поставлен, и стены его тоже на высоте построены, только с полунощной стороны на низину одна стена сходит, ближе к реке. Под стену эту, как мыслил князь Юрий, мог быть и рукав отведен тайный, скрытый от глаз совсем либо кустарником, либо помостом каким, и землею засыпан сверху.
В одном месте против стены, где узкий залив клином в берег реки врезается, показалось Юрию Васильевичу, что не природный он, а руками людскими выкопан…
– Княже Юрий Васильевич! – закричал вдруг один воин из стражи, сопровождавшей князя Юрия. – Гляди, на стене-то пищаль наряжают…
Юрий Васильевич, взглянув на стену, понял сразу, что стрелять в них хотят.
– Гони в разные стороны! – крикнул он и сам поскакал прочь от реки.
Грянул выстрел, и ядро угодило в то место, где только что он стоял со своей стражей. Взрыло землю возле заливчика, и с края берега обнажилась еле заметно часть бревна. Князь Юрий весело усмехнулся и поскакал прочь от берега, словно ничего и не приметил. Отъехав же с полверсты, собрал он землекопов и плотников, что с ним были, и приказал:
– Нынче же ночью, ближе к утру, подведите сюда на лодках тихо заплоты и колья. Заплоты же подогнать, как клепку у бочки, дабы и малой щелки не было. Там, у заливчика, куда палили татары, рукав подземный от реки есть.
Бревна увидите сверху. Вот заливчик сей заплотами наглухо загородите, отымите у поганых всю воду…
Седьмого сентября прибыли гонцы на Москву с грамоткой к государю от князя Юрия.
«Брат и государь мой, – писал он великому князю, – пятый день, как отнял яз воду у поганых. Трижды они из стен выбегали с великой дерзостью и яростью, воды хотяще, но биты были и во град свой с уроном великим затворялись трижды.
Ныне же, чаю, мира просить будут. Каков мир-то давать? Яз мыслю токмо на полную волю твою, Иване. Приказывай, что просить…»
Выслушав чтение грамоты, Иван Васильевич взволновался. Приказал дьяку Курицыну приготовить бумагу и чернила, прошелся молча несколько раз вдоль покоя своего, велел писать, говоря, будто беседуя:
– Любимый брате мой Юрьюшка, спаси бог тя за великий подвиг твой для-ради Руси православной. Обымаю тя, брата любимого, и лобызаю. От Ибрагима же проси токмо на полную волю мою, а воля моя такова…
Иван Васильевич прервал свое письмо и обратился к дьяку:
– Постой, Федор Василич, яз хочу тобе мысли свои сказать.
Перво-наперво надо нам всех христиан из полона татарского ослобонить.
Пойдут они: рязанцы – в рязанскую землю, тверичи – в Тверь, новгородцы разойдутся по всей великой земле своей, псковичи – по своей, вятичи – в Вятку, наши московские и все удельные – в княжество наше…
Государь усмехнулся и добавил радостно:
– Слово же у всех будет едино: «Никто, а токмо Москва за всех христиан против поганых! Токмо Москва защита от татар!» Вот, Федор Василич, что главное в докончании, ибо в сем токмо Москве слава. Черный народ со всех земель за нами пойдет, ибо разумеет он, народ-то, что Москва не токмо вотчина, а и государство для всех, как для бояр, так и для холопов. У всех государь един будет – токмо государь московский. У Москвы они правды искать будут, а князей великих и удельных, господу и бояр их сокрушим. Стану яз государь и единодержец всея Руси…
Иван Васильевич вдруг рассмеялся.
– Что ты, Федор Василич, на мя так глядишь, словно яз разума лишился?
– Дивлюсь, государь, – молвил дьяк Курицын, – не безумию твоему, а разуму! Все ты хитростью своей проницаешь и все на пользу государства своего обратить можешь! И всяк час и всяк часец малый о пользе сей токмо и мыслишь…
– Разумеешь ты думы мои, – молвил государь. – Ну, пиши Юрью-то.
Перво: отпустить всех рабов и пленных христиан православных, взятых татарами за сорок лет до нонешнего дни, дабы нигде во всей казанской земле не осталось ни единого православного полонянина, ни единой православной полонянки. Другое: дабы впредь татары не зорили земель наших и полону не брали. Купцов же наших не грабили бы, а купцам нашим торговать бы везде было слободно. Третье: ни с кем – ни с Казимиром, ни с Ахматом, ни с прочими – на Москву зла не мыслить. Мы же Ибрагима оставляем на царстве Казанском, ежели в сказанном нами клянется он на коране и в докончании своеручно подпишет…
Оборвав на этом, Иван Васильевич сказал:
– Дай грамотку-то митрополиту подписать. А ты сам, Федор Василич, скачи с ней в Казань. Помоги Юрию докончание с Казанью покрепче составить.
На месте-то ты лучше увидишь. Ежели надобно будет, впиши и о купцах казанских. Дадим, мол, и мы им слободу торговать и ездить в землях наших…
Сентябрьские дни стоят тихие и солнечные, а земля будто дремлет, греясь в теплоте осенней. Летит, золотясь в воздухе, паутина, деревья стоят еще в зеленых уборах, но в высоте небесной, еще синей и ясной, уже курлыкают журавли, а завтра-послезавтра потянут на юг и гуси.
Тишина и перед Казанью. Стоят кругом стен ее плотным кольцом русские конные и пешие воины в полной боевой готовности и ждут. Сдается на полную волю государя московского царь Ибрагим казанский.
Еще тише в Казани. Будто вымер весь город. Тяжко там, ослабели все люди до крайности – нет воды у них. Выпили всё, что можно: все запасы воды, кумыса, съели все сырые овощи и фрукты, пили кровь коней и баранов, и нечего больше пить, а небо ясно, и ни одной капли не упало с голубой высоты…
Но сегодня вся Казань будет пить: люди, кони, бараны, собаки, кошки, гуси и куры, и тихая радость освещает все лица людские. Слышно в тишине, как стучат топоры и ломы русских воинов; ломают они заплоты, которыми была отнята вода у города…
Солнце же печет с полуденной высоты и чуть уж начинает клониться к закату.
– Ля илляхе иль алла, Мухаммэд расул алла!
Это призыв к полуденной молитве зухр. Еще больше замерла Казань на молитве. В русских же полках было хотя и тихо, но весело. С радостным подъемом и нетерпением ждали все, когда начнут отворяться ворота городские и царь Ибрагим покорно примет мир на всей воле государевой.
Долго, казалось, тянется молитва зухр, но вот и она, видно, кончилась, – дрогнули, заскрипели ворота в стенах и одни за другими медленно стали отворяться. Из них поспешно выскакивали мужчины, женщины, дети и бежали к реке с кувшинами и деревянными ведрами. За людьми мчались к воде собаки и кони, но не было ни криков, ни шума – все живое так истомилось, и ни у людей, ни у животных не было сил делать что-либо, не нужное для утоления жажды…
Вот отворились главные ворота, и выехал из них царь Ибрагим с телохранителями, в сопровождении знатных биков и мурз, одетых в дорогие одежды. Следом за ними на прекрасном, пышно изукрашенном коне ехал сеид.
Князь Юрий Васильевич с братом Андреем, окруженный князьями и воеводами, выдвинулся немного вперед на своем коне. Царь Ибрагим, приблизясь к Юрию Васильевичу, первый сошел с коня и, коснувшись его стремени, произнес:
– Ассалям галяйкюм!
– Вагаляйкюм ассалям! – ответил Юрий Васильевич и тогда только сошел с коня и протянул руку царю Ибрагиму.
Тут же подошел спешившийся сеид, а за ним шли муллы, хакимы и имамы со священными книгами. Сюда же сошлись и толмачи с обеих сторон.
Царь Ибрагим заявил, что отдается на всю волю великого князя московского, и в подтверждение этого, положив руку на коран, воскликнул:
– Клянусь в сем святым кораном! Аллах велик, благодарение и хвала ему, милостивому и всещедрому…
Когда кончились священные клятвы, царь Ибрагим, обратясь к князю Юрию, сказал:
– Почтенный князь Юрий, – перевел толмач его слова. – Среди всех возможностей не может быть ничего иного, кроме того, что уже произошло.
Выслушав перевод, князь Юрий Васильевич ответил:
– У нас же в евангелии сказано: «Ни един волос не упадет с головы без воли божией».
Окружив своей стражей царя и духовенство мусульманское во главе с сеидом, Юрий Васильевич приказал своим полкам вступать в град казанский и занимать все его укрепления…
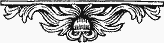
notes
Назад: Глава 13. Рать казанская
Дальше: 1

