Книга: Женщины Цезаря
Назад: ЧАСТЬ III ЯНВАРЬ 65 Г. ДО P. X. — КВИНТИЛИЙ (ИЮЛЬ) 63 Г. ДО Р. X
Дальше: ЧАСТЬ V 5 ДЕКАБРЯ 63 Г. ДО Р. X. — МАРТ 61 Г. ДО Р. X
ЧАСТЬ IV
1 ЯНВАРЯ — 5 ДЕКАБРЯ 63 Г. ДО P. X
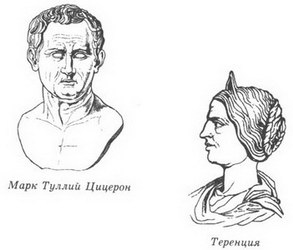
Не повезло Цицерону. Он стал консулом в период тяжелой экономической депрессии, и, поскольку экономика не являлась его коньком, настроение у него было довольно мрачное. Это совершенно не то консульство, о котором он мечтал! Он хотел, чтобы впоследствии о консуле Цицероне говорили как о человеке, который подарил Риму спокойный, безмятежный год, как обычно вспоминали о совместном консульстве Помпея и Красса, бывшем семь лет назад. Имея Гибрида в качестве младшего коллеги, следовало ожидать неизбежного: вся слава перейдет к нему. А значит, Цицерону лучше не ссориться с Гибридом, как Помпею с Крассом.
Экономические трудности Рима шли с Востока, который в течение двадцати лет был закрыт для римских деловых и торговых операций. Сначала его захватил царь Митридат. Затем Сулла, вырвав Восток у Митридата, ввел там достойные похвалы финансовые правила и таким образом помешал всадникам Рима возвратиться к старым дням, когда они буквально «доили» восточные провинции. К тому же пираты, хозяйничавшие на море, не способствовали развитию торговли к востоку от Македонии и Греции. Следовательно, те, кто собирал налоги, давали деньги в долг, торговали пшеницей, вином и шерстью, держали свой капитал дома. Дело приняло более серьезный оборот, когда в Испании разразилась война с Квинтом Серторием, несколько засух подряд снизили урожаи, а все Наше море стало опасным для плавания.
Все это способствовало тому, что в течение двадцати лет капитал и инвестиции концентрировались исключительно в Риме и Италии. Не представлялось никаких соблазнительных возможностей для римских всадников, занимающихся экономическими предприятиями, чтобы решиться на путешествие по морю. Поэтому им не нужно было изыскивать большие суммы денег. Проценты у ростовщиков стали низкими, арендная плата упала, инфляция, наоборот, выросла, и кредиторы не торопились требовать долги.
В несчастье Цицерона целиком был виноват Помпей. Сначала этот Великий Человек очистил море от пиратов, потом выгнал царей Митридата и Тиграна с тех территорий, которые некогда входили в сферу деловых интересов Рима. Он также отменил финансовые правила Суллы, хотя Лукулл настаивал на их сохранении, — единственная причина, по которой всадники желали удалить Лукулла и передать командование Помпею. И как только Цицерон и Гибрид вступили в должность, на Востоке открылась масса возможностей. Там, где когда-то были провинция Азия и Киликия, теперь находилось целых четыре провинции. Помпей добавил к империи новые территории — Вифинию-Понт и Сирию. Он устроил их таким же образом, как и другие две, предоставив большим компаниям публиканов, находящимся в Риме, право взимать налоги, десятины на храмы и подати. Частные контракты, заключаемые с позволения цензоров, спасли государство от обязанности собирать налоги и избавили от избытка государственных слуг. Пусть у публиканов болят головы! Все, чего хотела казна, — это ее оговоренная доля в прибылях.
В полном соответствии с новой тенденцией капитал устремился из Рима и Италии на Восток, где открылись ошеломляющие возможности. Как результат, резко возросли проценты, а ростовщики внезапно стали требовать старые долги. Теперь невозможно было получить кредит. В городах взлетела арендная плата, сельских землевладельцев связали по рукам и ногам выплатами по закладным. Неумолимо росла цена зерна, даже государственного. Огромные суммы уходили из Рима, и никто в правительстве не знал, как контролировать ситуацию.
Друзья — такие, как всадник-плутократ Тит Помпоний Аттик, в планы которого отнюдь не входило посвящать Цицерона во все коммерческие тайны, — сообщили Цицерону, что в утечке денег виновны иноземцы-евреи, живущие в Риме, которые посылают к себе домой всю выручку. Цицерон быстро внес предложение: запретить евреям отсылать деньги из Рима к себе на родину. Конечно, такая мера была малоэффективна, но что еще можно было сделать, старший консул не знал. И Аттик не мог просветить его.
Не в характере Цицерона было посвящать год своего консульства миссии, которая, как он теперь понимал, будет столь же тщетной, сколь и непопулярной. И он занялся делом, в котором разбирался очень хорошо. Со временем экономическая ситуация улучшится и без него, а вот законы требовали его личного участия. Цицерон останется в памяти Рима как консул-законодатель. Он будет издавать законы.
Сначала он принялся за закон, который четыре года назад уже вносил консул Гай Пизон, — против взяток на консульских выборах при подсчете голосов. Сам виновный в массовом подкупе, Пизон вынужден был отказаться от своего проекта. Вероятно, по логике вещей, в законе было множество дыр, но после того, как Цицерон заткнул самые зияющие из них, закон принял довольно приличный вид.
И что дальше? Ага! Должностные лица, возвращающиеся после окончания срока правления преторскими провинциями, где они занимались вымогательством, жаждут избежать обвинения, выставляя свою кандидатуру на должность консула in absentia! Преторы, посланные управлять провинцией, как правило, занимались вымогательством больше, чем консулы-губернаторы. Преторов было восемь, а консулов-губернаторов всего два. И большинство из них знали: их единственный шанс сколотить состояние в провинции — стать претором-губернатором. Но как избежать обвинения в вымогательстве при возвращении домой — после того, как выжмешь из провинции все? Если подобный губернатор — сильный претендент на консульский пост, то лучший способ — просить Сенат разрешить выставить свою кандидатуру на консула in absentia. Ни один обладатель империя не может быть обвинен. Если возвратившийся претор-губернатор не пересек священную границу и не вошел в сам город Рим, он сохраняет свой империй, полученный от Рима на управление провинцией. Поэтому он может сидеть на Марсовом поле вне стен города (сохраняя империй) и просить Сенат предоставить ему право баллотироваться in absentia — «в отсутствие». И проводить свою предвыборную кампанию, не покидая Марсова поля. И потом, если ему улыбнется удача и он будет выбран консулом, он снова получит империй — консульский. Благодаря такому хитрому ходу вымогателю удается избежать обвинения еще на два года, а к тому времени разгневанные провинциалы откажутся от идеи обвинить его и уедут домой.
«Эту практику пора прекратить!» — гремел Цицерон в Сенате и в колодце комиций. Поэтому он и его младший коллега Гибрид предложили запретить всем преторам-губернаторам выдвигаться на консула in absentia! Пусть губернатор сперва вернется в Рим и, если виновен, будет обвинен! И поскольку Сенат и народ посчитали идею отличной, новый закон прошел.
Что же еще можно сделать? Цицерон обдумывал и так и этак, какие еще полезные закончики могли бы повысить его репутацию. Хотя нет, увы, не повысить, а создать ему репутацию — как консулу, а не как юридическому светилу. Цицерону срочно нужен был кризис, но не экономический.
Цицерону даже не приходило в голову, что вторая половина срока его консульства предоставит ему этот необходимый кризис. Он не подозревал об этом даже тогда, когда по жребию должен был председательствовать на проводимых в квинтилии выборах. Для начала он не оценил должным образом последствия, к которым привел тот факт, что незадолго до тех выборов его жена неожиданно нарушила его уединение.
Теренция, как всегда бесцеремонно, ворвалась в кабинет Цицерона, не обращая внимания на неприкосновенность мыслительного процесса своего мудрого супруга.
— Цицерон, отложи все, чем ты там занимаешься! — рявкнула она.
Перо мгновенно легло на стол. Цицерон поднял голову. У него хватило ума не показывать своего недовольства.
— Да, дорогая, в чем дело? — как можно мягче спросил он.
С мрачным видом Теренция рухнула в кресло клиента. Поскольку у нее всегда был мрачный вид, он не догадывался, в чем заключается причина в данном случае. Он просто искренне надеялся, что причина не в нем.
— Сегодня у меня был посетитель, — сообщила она.
Он чуть было не спросил, понравился ли ей посетитель, но заставил себя промолчать. Никто в Риме не мог лишить Цицерона желания сострить. Одной только Теренции это удавалось всегда. Так что он притворился заинтересованным и стал ждать продолжения.
— Посетительница, — уточнила она и фыркнула. — Уверяю тебя, муж, она не из моего круга! Это Фульвия.
— Жена Публия Клодия? — поразился он.
— Нет, нет! Фульвия Нобилиор.
Это уточнение не уменьшило его интереса, потому что та Фульвия, которую она имела в виду, была темной личностью. Из отличной семьи, но разведенная с позором, без дохода, она теперь связалась с Квинтом Курием, который был изгнан из Сената при знаменитой чистке, устроенной Попликолой и Лентулом Клодианом семь лет назад. Самая неподходящая посетительница для Теренции. Своими незыблемыми моральными устоями Теренция была знаменита не менее, чем своей вечной угрюмостью.
— Боги милостивые! Какого дьявола ей-то понадобилось?
— На самом деле она мне понравилась, — задумчиво проговорила Теренция. — Она — просто несчастная жертва мужчин.
И что он должен ответить на это? Цицерон нашел разумный компромисс: он проблеял что-то невразумительное.
— Она пришла ко мне, потому что именно так делает женщина, когда хочет поговорить с женатым мужчиной твоего положения.
«И к тому же мужчиной, женатым на тебе», — подумал Цицерон.
— Естественно, ты захочешь увидеть ее лично, но сначала я расскажу тебе то, что рассказала мне она, — объявила матрона, чей взгляд был способен превратить Цицерона в камень. — Оказывается, ее… э… ее, скажем так, телохранитель Курий последнее время очень странно себя ведет. Со времени выдворения его из Сената его финансовое положение настолько ухудшилось, что он не может выдвигаться даже на должность плебейского трибуна, чтобы вернуться на общественную арену. Но вдруг он стал намекать, что скоро снова станет богатым и займет высокое положение. Мне кажется, — продолжала Теренция многозначительно, — что это как-то связано с тем, что в следующем году консулами будут Катилина и Луций Кассий.
— Так вот что задумал Катилина! Консульство в паре с таким жирным и апатичным дураком, как Луций Кассий, — сказал Цицерон.
— Завтра, как только ты откроешь выборный трибунал, оба придут туда, чтобы зарегистрироваться кандидатами.
— Все это очень хорошо, дорогая моя, но я все же не пойму, как совместное консульство Катилины и Луция Кассия сможет вдруг настолько обогатить Курия и повысить его положение.
— Курий говорит о всеобщем аннулировании долгов.
Цезарь разинул рот от изумления.
— Они не могут оказаться такими идиотами!
— А почему бы и нет? — поинтересовалась Теренция, хладнокровно обдумывая проблему. — Только подумай, Цицерон! Катилина знает, что, если ему не удастся стать консулом в этом году, у него уже не будет шанса. Похоже, предстоит настоящее сражение, если все, кто хочет избрания, выставят свои кандидатуры. Силану стало намного лучше, и он определенно тоже будет выдвигаться, так мне сказала Сервилия. Мурену поддерживают много влиятельных лиц, и, как сказала мне Фабия, он по максимуму использует свое родство с весталкой Лицинией. Потом есть еще твой друг Сервий Сульпиций Руф, высоко ценимый восемнадцатью центуриями и tribuni aerarii, а это значит, у первого класса он соберет много голосов. Что же могут противопоставить богачам Силану, Мурене и Сульпицию Катилина и его партнер по выборам Луций Кассий? Только один из консулов может быть патрицием, значит, голоса за патриция разделятся между Каталиной и Сульпицием. Если бы я голосовала, то выбрала бы Сульпиция.
Хмурый Цицерон забыл о своем ужасе перед женой и заговорил с ней, как со своим коллегой на Форуме.
— Значит, предвыборная платформа Катилины — всеобщее аннулирование долгов. Ты это хочешь сказать?
— Нет, так говорит Фульвия.
— Я должен увидеть ее немедленно! — воскликнул он, вставая.
— Предоставь это мне. Я пошлю за ней, — вызвалась Теренция.
А это, конечно, означало, что ему не позволят говорить с Фульвией Нобилиор наедине. Теренция намерена не упустить ни слова из разговора, ни одного взгляда.
Но беда в том, что Фульвия Нобилиор почти ничего не добавила к тому, что уже рассказала Теренция. Только изложила все очень эмоционально и сумбурно. Курий был по уши в долгах, он много проигрывал, много пил. Последнее время часто совещался с Катилиной, Луцием Кассием и их дружками, а после одного из таких совещаний пришел домой веселый, обещая своей любовнице всевозможные блага в ближайшем будущем.
— Зачем ты рассказываешь все это мне, Фульвия? — спросил Цицерон в растерянности.
Он был сбит с толку не меньше, чем сама Фульвия, поскольку не мог понять, почему она в таком ужасе. Всеобщее аннулирование долгов — конечно, плохая новость, но…
— Ты же старший консул! — захныкала она, ударяя себя в грудь. — Я должна была кому-то сказать!
— Дело в том, Фульвия, что ты не предоставила мне никаких доказательств того, что Катилина планирует всеобщее аннулирование долгов. Мне нужны надежные свидетельства! Ты лишь поведала мне историю, а я не могу явиться в Сенат, не имея ничего более существенного, нежели история, рассказанная мне женщиной.
— Но это ведь неправильно — аннулирование долгов, да? — спросила она, вытирая глаза.
— Да, очень неправильно, и ты хорошо сделала, что пришла ко мне. Но необходимы доказательства, — повторил Цицерон.
— Лучшее, что я могу предложить тебе, — это несколько имен.
— Тогда назови их.
— Два человека, которые раньше были центурионами Суллы, — Гай Манлий и Публий Фурий. У них есть земли в Этрурии. И они говорили о людях, которые намерены приехать в Рим для выборов. И если Катилина и Кассий станут консулами, долги перестанут существовать.
— Фульвия! И как же я должен связать двух экс-центурионов Суллы с Катилиной и Кассием?
— Я не знаю!
Вздохнув, Цицерон поднялся.
— Хорошо, Фульвия, я искренне благодарю тебя за то, что ты пришла ко мне. Попытайся точно разузнать, что происходит, и как только у тебя появится реальное свидетельство, что что-то нехорошее просочилось перед выборами на Марсово поле, скажи мне. — Он улыбнулся ей, надеясь, что это выражение симпатии выглядит достаточно платонически. — Продолжай действовать через мою жену, а она сообщит мне.
Когда Теренция увела посетительницу, Цицерон снова уселся и погрузился в раздумья. Но наслаждаться такой роскошью ему дали недолго. Через несколько минут Теренция поспешила вернуться.
— И что ты об этом думаешь? — осведомилась она.
— Если бы я знал, дорогая.
— Ну, — она нетерпеливо наклонилась вперед, потому что больше всего на свете ей нравилось давать мужу политические советы, — я скажу тебе, что я думаю! А я думаю, что Катилина замышляет революцию.
— Революцию? — взвизгнул Цицерон.
— Правильно. Революцию.
— Теренция, революция не имеет ничего общего с предвыборной кампанией, основанной на обещании всеобщего аннулирования долгов! — возразил он.
— Ты неправ, Цицерон. Как могут законно выбранные консулы инициировать такую революционную меру, как всеобщее аннулирование долгов? Ты очень хорошо знаешь, что такие замыслы появляются у людей, которые хотят свергнуть правительство. Таким был Сатурнин. Таким же был Серторий. Это диктаторы и всадники восемнадцати первых центурий. Как могут консулы провести подобную меру законным путем? Даже если они предложат ее народу в трибах, по крайней мере один плебейский трибун непременно наложит на нее вето in contio, не говоря уже об официальном обнародовании законопроекта. И ты думаешь, что те, кто выступает за всеобщее аннулирование долгов, не понимают всего этого? Конечно, понимают! Любой, кто проголосует за кандидатов, пропагандирующих такую политику, будет считаться революционером.
— О-о, это уже пахнет кровью, — медленно произнес Цицерон. — О, Теренция, только не в мое консульство!
— Ты должен помешать Катилине баллотироваться, — сказала Теренция.
— Я не могу этого сделать, не имея доказательств.
— Тогда нам нужно их найти, — объявила Теренция, направляясь к двери. — Кто знает? Может быть, мы с Фульвией сможем убедить Квинта Курия дать показания.
— Это помогло бы, — немного суховато произнес Цицерон.
Семя было брошено. Катилина замышляет революцию. И хотя события последующих месяцев, казалось, подтверждали это, Цицерон так и не узнал, когда у Луция Сергия Катилины появилась идея революции: до или после тех роковых выборов.
Старший консул стал усиленно собирать всю информацию, какую только мог найти. Он послал агентов в Этрурию и в другой традиционный очаг мятежей — Самнитскую Апулию. И конечно, все они сообщили: да, действительно, ходят слухи, что, если Катилина и Луций Кассий станут консулами, они проведут закон о всеобщем аннулировании долгов. Что касается более существенных доказательств надвигающейся революции, как, например, сбор оружия или тайная вербовка солдат, — такого не обнаружено. Однако Цицерон решил, что у него уже достаточно свидетельств, чтобы попытаться что-то предпринять.
Курульные выборы консулов и преторов были намечены на десятый день квинтилия. Девятого квинтилия Цицерон отложил их на одиннадцатое число, а десятого созвал заседание Сената.
Конечно, все сенаторы явились на это заседание, любопытствуя, что же случилось. Все, кто не был болен и находился в это время в Риме, пришли очень рано и убедились, что Катон, которым все восхищались, уже сидит с пачкой свитков у ног, держа в руках развернутый свиток и читая его медленно и сосредоточенно.
— Почтенные отцы, — обратился старший консул после завершения необходимых ритуалов и формальностей, — я собрал вас здесь, в курии, а не на Септе для голосования, чтобы вы помогли мне разобраться в одном непонятном деле. Я прошу прощения у тех из вас, кому я тем самым причинил беспокойство, и могу лишь надеяться, что результат нашего собрания даст возможность провести завтрашние выборы.
Было видно — все ждут объяснения. На этот раз Цицерон не стал испытывать терпение аудитории. Он надеялся выяснить все и сразу и заставить Катилину и Луция Кассия понять: их замысел потерпел поражение — теперь, когда он стал известен всем. Цицерон рассчитывал подавить в зародыше любые планы, которые мог лелеять Катилина. Ни мгновения Цицерон не предполагал, что та революции, которую предвидела Теренция, представляет собой нечто более серьезное, чем болтовня после чрезмерно выпитого вина, и некоторые экономические меры, более ассоциируемые с мятежниками, чем с законопослушными консулами. После Мария, Цинны, Карбона, Суллы, Сертория и Лепида даже Катилина должен был понять, что разрушить Республику не так-то просто. Он был плохим человеком, Луций Сергий Катилина, — все это знали, но, пока его не выбрали консулом, у него не было властных полномочий, у него не было ни империя, ни готовой армии. Да и клиентов в Этрурии у него гораздо меньше, чем было их у Мария или Лепида. Поэтому Катилина просто стремился напугать всех, чтобы с ним захотели сотрудничать.
Никто, думал старший консул, оглядывая ряды Палаты, не догадывается, в чем дело. Красc сидит с равнодушным видом, Катул выглядит немного постаревшим, а его зять Гортензий имеет довольно потрепанный вид, у Катона волосы торчат дыбом, как шерсть у злой собаки. Цезарь поглаживает макушку, чтобы убедиться, что редеющие волосы все еще прикрывают его череп. Мурена несомненно нервничает из-за этой задержки. А Силан не такой уж здоровый и бодрый, как утверждают его доверенные лица. И наконец среди консуляров величаво сидит великий Луций Лициний Лукулл, триумфатор. Цицерон, Катул и Гортензий пустили в ход все свое красноречие, чтобы убедить Сенат разрешить Лукуллу отметить триумф. А это означало, что настоящий завоеватель Востока теперь мог пересечь померий и занять принадлежащее ему по праву место в Сенате и в колодце комиций.
— Луций Сергий Катилина, — обратился Цицерон с курульного возвышения, — я был бы благодарен тебе, если бы ты поднялся.
Сначала Цицерон намеревался обвинить также и Луция Кассия, но, подумав, решил, что лучше сосредоточиться на одном Катилине, который теперь стоял, недоумевая. Какой красивый мужчина! Высокий, хорошо сложенный, с головы до пят патриций-аристократ. Как же Цицерон ненавидел их, этих Катилин и Цезарей! Что такого заключается в его собственном, в высшей степени приличном плебейском происхождении, чтобы к нему относиться как к вредному наросту на теле Рима?
— Я стою, Марк Туллий Цицерон, — тихо напомнил Катилина.
— Луций Сергий Катилина, тебе известны люди по имени Гай Манлий и Публий Фурий?
— Так зовут двух моих клиентов.
— Тебе известно, где они сейчас находятся?
— Надеюсь, в Риме! Как раз сейчас они должны были быть на Марсовом поле и голосовать за меня. А вместо этого, думаю, сидят где-нибудь в таверне.
— А где они были совсем недавно?
Черные брови Катилины взлетели вверх.
— Марк Туллий, я не требую от своих клиентов, чтобы они мне докладывали обо всех своих передвижениях! Я знаю, что ты — ничтожество, но неужели у тебя так мало клиентов, что ты даже не имеешь понятия о правильных отношениях, принятых между клиентом и патроном?
Цицерон густо покраснел.
— И ты не удивишься, узнав, что Манлия и Фурия недавно видели в Фезулах, Волатеррах, Клузии, Сатурнии, Ларине и Венузии?
Катилина удивленно моргнул.
— А почему это должно меня удивить, Марк Туллий? У них обоих имеются земли в Этрурии, а у Фурия есть еще земля и в Апулии.
— Тогда, может быть, тебя удивит то, что и Манлий, и Фурий говорили всем, кто имеет голос, засчитываемый на центуриатных выборах, что ты и твой предполагаемый коллега Луций Кассий намерены узаконить всеобщее аннулирование долгов, если вы станете консулами?
Катилина расхохотался. Успокоившись, он уставился на Цицерона, словно тот вдруг сошел с ума.
— Вот это действительно меня удивило! — сказал он.
Как только Цицерон произнес эти ужасные слова — «всеобщее аннулирование долгов», некоторое шевеление в Палате переросло в явный ропот. Конечно, среди присутствующих были и те, кто отчаянно нуждался в столь радикальной мере (включая и Цезаря, нового великого понтифика), особенно теперь, когда ростовщики требовали выплатить долги полностью. Но имелись и такие, кто не одобрял ужасных экономических последствий, которые могла повлечь за собой подобная мера. Несмотря на проблемы, создающие постоянный поток денежной наличности, члены Сената были прирожденными консерваторами в тех случаях, когда дело касалось радикальных перемен любого рода, включая структуру капиталовложений. И на каждого сенатора, находившегося в трудном финансовом положении, приходилось трое, кто мог потерять от всеобщего аннулирования долгов значительно больше, чем выиграть. Такие, как Красc, Лукулл, отсутствующий Помпей Магн. Поэтому неудивительно, что и Цезарь, и Красc с нетерпением подались вперед, словно рвущиеся с цепи собаки.
— Я навел справки в Этрурии и Апулии, Луций Сергий Катилина, — продолжал Цицерон, — и, к сожалению, должен сказать, что слухи подтвердились. Я считаю, что в твои намерения входит аннулирование долгов.
Катилина смеялся долго, до слез. Он держался за бока, героически пытался контролировать свое веселье, но это ему никак не удавалось. Сидящий недалеко от него Луций Кассий, весь красный, предпочел принять возмущенный вид.
— Чушь! — крикнул Катилина, когда наконец ему удалось совладать со своим смехом, вытирая лицо складкой тоги, потому что не смог вспомнить, где его платок. — Чушь, чушь, чушь!
— Ты можешь в этом поклясться? — спросил Цицерон.
— Нет, я не буду клясться! — резко ответил Катилина, приходя в себя. — Мне, патрицию Сергию, давать клятву, потому что меня необоснованно и злонамеренно обвиняет какой-то переселенец из Арпина? Кто ты такой, Цицерон? Что ты о себе возомнил?
— Я — старший консул Сената и народа Рима, — ответил Цицерон с болезненным достоинством. — Если ты помнишь, я — человек, который победил тебя на курульных выборах в прошлом году. И как старший консул, я — глава этого государства.
Новый взрыв смеха.
— Говорят, у Рима два тела, Цицерон! Одно хилое и с головой слабоумного, другое — сильное, но совсем без головы. Как ты думаешь, кто из этих двух тел — ты, о глава этого государства?
— Уж точно не слабоумный, Катилина. Я — отец Рима и его защитник в этом году, и я намерен выполнить свои обязанности, даже в ситуациях столь странных, как эта! Ты отрицаешь, что намерен аннулировать все долги?
— Конечно отрицаю!
— Но клясться ты отказываешься.
— Определенно. — Катилина шумно вдохнул. — Да, отказываюсь! Однако, о глава этого государства, твое низкое поведение и необоснованные обвинения, выдвинутые нынешним утром, заставили бы многих на моем месте сказать, что если сильному, но безголовому телу Рима необходимо приставить голову, то моя голова была бы не худшим выбором! По крайней мере, моя голова — это голова римлянина! По крайней мере, моя голова имеет предков! Ты задумал погубить меня, Цицерон, погубить мои шансы на справедливый и незапятнанный выбор! Вчера мое положение казалось незыблемым. И вот сегодня я стою здесь, оклеветанный, совершенно невинная жертва бесцеремонного, незнатного выскочки, какого-то горца, не-римлянина!
Понадобились огромные усилия, чтобы не отреагировать на эти колкости, но Цицерон сохранил спокойствие. Если бы ему этого не удалось, он проиграл бы. В этот момент он понял, что Фульвия Нобилиор была права. И Теренция была права. Луций Сергий Катилина мог смеяться, он мог отрицать все, но он все-таки замышлял революцию. Адвокат, который умел запугать любого негодяя, знал язык лица и тела виновного, когда тот решал, какой из возможных способов защиты выбрать — держаться развязно, агрессивно, с издевкой или изображать уязвленную добродетель. Катилина виновен, Цицерон был уверен в этом. Но знают ли это остальные в Палате?
— Можно мне сделать некоторые комментарии, почтенные отцы?
— Нет, нельзя! — крикнул Катилина, вскочил с места и, выбежав на середину черно-белого пола, потряс кулаком в сторону Цицерона. Затем он направился к большим дверям, у самого выхода обернулся и посмотрел на ряды притихших сенаторов.
— Луций Сергий Катилина, ты нарушаешь порядок, установленный в Палате! — крикнул Цицерон, вдруг осознав, что почти потерял контроль над собранием. — Возвратись на свое место!
— Не возвращусь! И не останусь больше здесь ни на минуту, чтобы слушать, как этот наглый безродный выскочка обвиняет меня в том, что я понимаю как измена! Почтенные отцы, я официально заявляю в этой Палате, что завтра на рассвете я буду на Септе, чтобы присутствовать на курульных консульских выборах! Я искренне надеюсь, что вы опомнитесь и заставите безмозглую главу этого государства выполнить свои обязанности, доставшиеся ему по жребию. Пусть проведет выборы! Предупреждаю вас: если завтра утром Септа будет пуста, тебе лучше прийти туда со своими ликторами, Марк Туллий Цицерон, арестовать меня и обвинить в perduellio! Обвинения в maiestas будет недостаточно для человека, чьи предки входили в сотню советников царя Тулла Гостилия!
Катилина повернулся к дверям, распахнул их и вышел.
— Ну что, Марк Туллий Цицерон? Что ты будешь делать теперь? — спросил Цезарь, откидываясь назад и зевая. — Ты знаешь, он ведь прав. На весьма ничтожном основании ты фактически обвинил его в тяжком преступлении.
Затуманенным взором Цицерон искал хотя бы одно сочувствующее лицо. Кто здесь верит ему? Катул? Нет. Гортензий? Нет. Катон? Нет. Красc? Нет. Лукулл? Нет. Попликола? Нет. Он расправил плечи, выпрямился.
— Будем делиться, — твердым голосом проговорил он. — Те, кто считает, что курульные выборы нужно провести завтра и что Луцию Сергию Катилине следует разрешить принять участие в выборах, встаньте слева от меня. Те, кто считает, что курульные выборы необходимо отложить, чтобы провести расследование по кандидатуре Луция Сергия Катилины, встаньте справа от меня.
Надежды Цицерона были весьма слабы, несмотря на эту хитрую уловку — так сформулировать предложение, чтобы нужный ему результат находился по правую от него сторону. Ни одному сенатору не хотелось вставать по левую сторону, считавшуюся неблагоприятной. Но на этот раз благоразумие одержало верх над суеверием. Вся Палата заняла место по левую руку от консула, тем самым позволив завтра утром провести выборы и разрешить Луцию Сергию Катилине претендовать на должность консула.
Цицерон распустил собрание, желая только одного: оказаться дома прежде, чем он не выдержит и расплачется.
Гордость диктовала не отступать, поэтому Цицерон председательствовал на курульных выборах — с кирасой под тогой. Предварительно он расставил вокруг Септы несколько сотен молодых людей, чтобы предотвратить беспорядки. Среди них находился и Публий Клодий, чья ненависть к Катилине была намного сильнее того слабого раздражения, которое вызывал в нем Цицерон. И естественно, там, где был Клодий, околачивались молодой Попликола, молодой Курион, Децим Брут и Марк Антоний — все члены процветающего сейчас «Клуба Клодия».
С огромным облегчением Цицерон видел: в то, чему не поверили сенаторы, безоговорочно поверило все сословие всадников. Ничто не могло быть более ужасным для делового человека из всаднических кругов, чем призрак всеобщего аннулирования долгов, даже если сам всадник был по уши в долгах. Одна за другой центурии проголосовали за Децима Юния Силана и Луция Лициния Мурену как консулов следующего года. Катилина отстал от Сервия Сульпиция, но набрал больше голосов, чем Луций Кассий.
— Ты, злобный клеветник! — прорычал Цицерону один из преторов нынешнего года, патриций Лентул Сура, когда центурии разошлись после долгого дня: выбирали двух консулов и восемь преторов.
— Что? — тупо переспросил Цицерон, с трудом выдерживая вес проклятой кирасы и страстно мечтая освободить от ее тисков талию, слишком располневшую, чтобы чувствовать себя комфортно в доспехах.
— Ты слышал меня! Это ты виноват в том, что Катилину и Кассия не выбрали, ты, злобный клеветник! Ты специально отпугнул от них выборщиков своими дикими слухами о долгах! О-о, очень умно! Зачем обвинять их и тем самым давать им шанс ответить? Ты нашел в политическом арсенале отличное оружие, не правда ли? Неопровержимое заявление? Клевета, инсинуация, грязь! Катилина был прав насчет тебя: ты наглый, безродный выскочка! И пора поставить на место зарвавшихся крестьян вроде тебя!
Цицерон застыл с открытым ртом. Он глядел вслед уходящему Лентулу Суре и чувствовал, как на глазах его выступают слезы. Он был прав в отношении Катилины, он был прав! Катилина закончит тем, что уничтожит Рим и Республику.
— Если это может послужить тебе утешением, Цицерон, — послышался голос рядом с ним, — я буду держать ухо востро и нос по ветру следующие несколько месяцев. Поразмыслив, я подумал, что ты мог быть прав в отношении Катилины и Кассия. Сегодня они недовольны!
Цицерон повернулся, увидел Красса и не выдержал.
— Ты! — с ненавистью заорал он. — Это ты во всем виноват! Это ты вытащил Катилину на его последнем суде! Купил присяжных и дал ему понять, что в Риме найдутся люди, которые хотели бы видеть его диктатором!
— Я не покупал присяжных, — сказал Красc, казалось, без всякой обиды.
— Ха! — сердито бросил Цицерон и быстро отошел прочь.
— И что все это значит? — спросил Красc у Цезаря.
— Просто он думает, что сейчас Риму грозит кризис, и он никак не может понять, почему никто в Сенате не согласился с ним.
— Но я как раз говорил ему, что согласен с ним!
— Оставь, Марк. Пойдем, отметим мое новоселье в Общественном доме великого понтифика. Такой славный адрес! А что касается нашего Цицерона, то бедняга попросту умирает от желания видеть себя в центре сенсации. И теперь, когда он считает, что нашел эту сенсацию, никто не проявляет к ней надлежащего интереса. А ведь он мечтал спасти Республику, — усмехнулся Цезарь.
— Но я не сдамся! — надрывался Цицерон перед своей женой. — Я еще не побежден! Теренция, держи контакт с Фульвией! Даже если ей придется подслушивать у двери, я хочу, чтобы она разузнала все, что может: с кем видится Курий, куда он ходит, что он делает. И если, как мы с тобой думаем, назревает революция, Фульвия должна убедить Курия в том, что лучшее, что он может сделать, — это сотрудничать со мной.
— Я это сделаю, не сомневайся, — оживилась супруга. — Сенат пожалеет о том дне, когда встал на сторону Катилины. Я видела Фульвию и знаю тебя. Во многих отношениях ты — идиот, но только не тогда, когда надо распознать негодяев.
— А почему это я идиот? — надменно осведомился ее муж.
— Во-первых, потому что пишешь плохие стихи. Во-вторых, пытаешься заработать себе репутацию знатока искусств. Тратишь деньги на виллы, жить в которых у тебя нет времени, даже если бы ты постоянно путешествовал, — а ты не путешествуешь. Ужасно балуешь Туллию. Подлизываешься к таким, как Помпей Магн.
— Хватит!
Теренция замолчала, устремив на него взгляд, который никогда не был согрет любовью. Жаль. Потому что, сказать по правде, Теренция любила своего Цицерона. Но она знала все его слабости, не замечая своих. Хотя у нее не было амбиций стать новой Корнелией, матерью Гракхов, она обладала всеми достоинствами римской матроны. Очень трудно человеку с характером Цицерона жить рядом с безупречной матроной. Экономная, трудолюбивая, хладнокровная, практичная, бескомпромиссная, прямая, бесстрашная, считавшая себя равной по уму любому мужчине, — такова была Теренция, не терпящая глупцов, даже если это ее муж. Она не понимала его незащищенности. Она не понимала, что он чувствует свою неполноценность, ибо ее происхождение было безупречным и все ее предки были истинными римлянами. Теренция считала, Цицерону лучше всего было бы расслабиться и въехать в самое сердце римского общества на хвосте ее юбок. А вместо этого он заточил ее дома, в безвестности, и самостоятельно старается войти в элиту, к которой не принадлежит.
— Ты должен пригласить в гости Квинта, — сказала Теренция.
Но Цицерон и его младший брат были так же несовместимы, как Цицерон и Теренция, поэтому старший консул опустил углы рта и покачал головой.
— Квинт такой же, как все остальные. Он думает, что я из мухи делаю слона. Но завтра я увижусь с Аттиком. Он мне поверит. Он — всадник, и у него здравый ум. — Цицерон немного подумал и добавил: — Лентул Сура был очень груб со мной сегодня на Септе. Я не могу понять почему. Я знаю, что много сенаторов винят меня за то, что я лишил Катилину шансов стать консулом, но Лентул Сура вел себя особенно странно. Казалось, все это слишком много для него значило.
— Он и его Юлия Антония и эти ужасные тупицы-пасынки! — презрительно фыркнула Теренция. — Трудно найти более ленивых дураков. Не знаю даже, кто из них мне больше неприятен: Лентул, Юлия или ее ужасные сынки.
— Лентул Сура снова добился успеха, учитывая, что цензоры выгнали его из Сената семь лет назад, — сказал Цицерон. — Он вернулся в Сенат через квесторство и начал все с начала. Он уже был консулом до изгнания, Теренция. Это должно быть ужасным унижением для него — в таком возрасте опять сделаться лишь претором.
— Беспомощный, как и его жена, — ядовито заметила Теренция.
— Как бы то ни было, сегодня был необычный день.
Теренция фыркнула:
— И не только в связи с Лентулом Сурой.
— Завтра я разузнаю, что знает Аттик, и это, вероятно, будет интересно, — сказал Цицерон, зевнув так, что на глазах выступили слезы. — Я устал, моя дорогая. Пожалуйста, пришли ко мне Тирона. Я подиктую ему.
— Похоже, ты и правда устал! Тебе не свойственно поручать кому-то писать вместо себя, даже Тирону. Я пришлю его, но только ненадолго. Тебе нужно поспать.
Когда Теренция встала с кресла, Цицерон импульсивно протянул ей руку и улыбнулся.
— Спасибо за все, Теренция! Чувствуешь себя совсем по-другому, когда ты на моей стороне.
Она взяла протянутую руку, крепко ее сжала и застенчиво улыбнулась, как-то по-детски и неуверенно.
— Не думай об этом, муж, — сказала она и быстро вышла, пока никто из них не расплакался.
Если бы кто-нибудь спросил Цицерона, любит ли он своих жену и брата, он мгновенно ответил бы утвердительно. И это было бы правдой. Однако ни Теренция, ни Квинт Цицерон не были так близки его сердцу, как некоторые другие, и среди них был только один человек, близкий ему по крови, — его дочь Туллия, представлявшая собой теплый и яркий контраст матери. Сын его был еще слишком мал, чтобы вызвать у Цицерона определенные чувства. Вероятно, маленький Марк никогда не будет близок отцу, поскольку по характеру он более походил на своего дядю Квинта — импульсивного, вспыльчивого, вечно с напыщенным видом и ничем не одаренного.
Кто же в таком случае были другие, сердечно близкие Цицерону люди?
Первое имя, которое пришло бы на ум Цицерону, задай ему кто-нибудь этот вопрос, был бы Тирон. Тирон являлся его рабом, частью его семьи, как это случается в обществе, в котором рабы — не столько низшие существа, сколько несчастные люди, которым приходится подчиняться закону собственности. Домашние рабы римлянина жили практически вместе со свободными членами семейства. Во многих отношениях это напоминало большую семью. Отсюда — все преимущества и все недостатки такого положения. Взаимоотношения между рабами и их господами складывались сложно. То и дело возникали, а потом улаживались конфликты, серьезные и несущественные. Поддержку могли получить и свободные, и рабы. И только строгий хозяин имел возможность оставаться невосприимчивым к давлению со стороны рабов. В семье Туллия Цицерона рабами распоряжалась Теренция. Но даже Теренция хорошо относилась к Тирону, который умел легко успокоить маленького Марка и так же просто мог убедить Туллию в правоте ее матери.
Этот грек пришел в семью Туллия еще совсем молодым. Он продал себя в рабство, которое считал альтернативой прозябанию в бедном и малоизвестном беотийском городе. Ласковый и добрый, он закономерно пришелся по душе Цицерону. К тому же грек оказался блестящим секретарем. Такого человека невозможно было не полюбить. Поскольку Тирон был неизменно внимателен и заботлив, даже самые недоброжелательные и эгоистичные среди его собратьев-рабов в хозяйстве Туллия не могли его обвинить в заискивании перед хозяином и хозяйкой. Его доброта распространялось и на отношения с другими рабами и вызывала в них ответную любовь.
Однако симпатия к нему Цицерона перевешивала все. Тирон не только великолепно знал греческий и латынь, но еще обладал литературным стилем, и когда Тирон соответствующим выражением лица показывал, что какая-нибудь фраза составлена неудачно или определение подобрано не вполне точно, его хозяин останавливался и старался подыскать более удачный вариант. Тирон великолепно владел скорописью, а после переписывал все надиктованное аккуратным, понятным почерком, не меняя в тексте ни одного слова.
Ко времени консульства Цицерона этот самый идеальный из слуг прожил в семье пять лет. Конечно, в завещании Цицерона он уже был записан свободным, но его служба должна была продолжиться еще десять лет, после чего Тирон сделается клиентом Цицерона в качестве преуспевающего вольноотпущенника. Его жалованье было уже высоким, и он всегда первым получал повышение. Так что всех беспокоило только одно: как будет существовать семейство Туллия без Тирона?
Вторым в списке друзей значился Тит Помпоний Аттик. Этой дружбе исполнилось уже много-много лет. Они встретились на Форуме, когда Цицерон был еще юношей, а Аттик учился, готовясь принять дела своего отца. После смерти старшего сына Суллы (лучшего друга Цицерона) Аттик занял его место. Аттик был на четыре года старше. Родовое имя «Помпоний» пользовалось большим почетом, ибо Помпоний были фактически ветвью рода Цецилиев Метеллов, а это, в свою очередь, значило, что они входили в самое ядро высшего общества Рима. Если бы Аттик захотел, карьера в Сенате, а может быть, и консульство были бы ему обеспечены. Отец Аттика мечтал стать сенатором и страдал из-за невозможности достичь этого, поскольку в Риме то и дело сменяли друг друга враждующие фракции, которые управляли государством в те ужасные годы. Имея прочное положение в рядах восемнадцати старших центурий первого класса, Аттик отрекся и от Сената, и от общественных должностей. Он стал заниматься тем, к чему у него имелась склонность, — делать деньги. И делать их как можно больше, чтобы войти в историю как один из величайших плутократов Рима.
В те ранние дни он был просто Тит Помпоний. Без третьего имени. Затем, в течение нескольких беспокойных лет правления Цинны, Аттик и Красc составили план и организовали компанию по сбору налогов в провинции Азия, когда Сулла отобрал ее у царя Митридата. От многочисленных инвесторов они получили необходимый капитал. Но Сулла реорганизовал администрацию провинции Азия таким образом, чтобы помешать римским публиканам извлекать прибыль для себя. Красc и Аттик были вынуждены бежать от кредиторов. Аттику удалось захватить с собой свое личное состояние, и поэтому он имел необходимые средства, чтобы в изгнании жить в комфорте. Он осел в Афинах, и ему там так понравилось, что с тех пор этот город занял в его сердце первое место.
Было нетрудно устроить свою жизнь при Сулле, после того как этот страшный человек возвратился в Рим в качестве диктатора и Аттик (так его теперь называли, потому что он считал своей истинной родиной Аттику — область Эллады с главным городом Афины) снова смог жить в Риме. Но обосновался он там не постоянно. Разумеется, Аттик не отказался от своего дома в Афинах и регулярно наезжал туда. Он также приобрел много земли в Эпире — той части Греции на побережье Адриатического моря, которая лежала к северу от Коринфского залива.
Всем было хорошо известно пристрастие Аттика к юношам, но, что удивительно, в Риме, отличавшемся неприятием гомосексуализма, к нему сохранилось доброе отношение. Потому что занимался он этим лишь в Греции, где такие предпочтения были нормой и только усиливали репутацию этого человека. Когда же Аттику доводилось бывать в Риме, он ни словом, ни взглядом ни разу не выдал, что практикует греческую любовь, и этот строгий самоконтроль позволял его семье, друзьям и людям, равным ему по положению, делать вид, будто другой стороны Тита Помпония Аттика не существует. Это было важно еще и потому, что Аттик стал очень богат и пользовался большим влиянием в финансовых кругах. Среди публиканов (то есть деловых людей, которые добивались государственных контрактов) он был самым могущественным и самым влиятельным. Банкир, корабельный магнат, крупный коммерсант, Аттик имел очень большое значение. Если он и не мог сделать человека консулом, он определенно был в состоянии помочь этому человеку — как помог Цицерону во время его предвыборной кампании.
Аттик стал также издателем Цицерона, решив, что деньги несколько ему поднадоели, а литература будет весьма недурна ради разнообразия. Исключительно образованный, Аттик тянулся к грамотным людям. Он восхищался Цицероном как никто. Стать патроном писателей — это и забавляло Аттика, и приносило ему удовлетворение. К тому же он получил возможность делать на литературе деньги. Издательский дом, который он организовал на Аргилете в пику братьям Сосиям, известным книготорговцам времен Горация, процветал. Благодаря многочисленным связям Аттик разыскивал новые таланты, а его писцы изготавливали манускрипты, которые ценились очень высоко.
Высокий, худощавый и суровый, он смог бы сойти за отца не кого-нибудь, а самого Метелла Сципиона, хотя их кровная связь была не слишком близкой, поскольку Метелл Сципион принадлежал к роду Цецилиев Метеллов только в результате усыновления. Однако благодаря этому сходству все члены славных семей понимали: его происхождение — безупречное и очень древнее.
Аттик искренне любил Цицерона, но был безжалостен к его слабостям — в этом он следовал примеру Теренции, такой же богатой и так же не желающей помогать Цицерону в тех случаях, когда его финансы нуждались в пополнении. Один раз, когда Цицерон набрался смелости и попросил у Аттика немного денег взаймы, его друг отказал ему таким образом, что Цицерон больше никогда у него не просил. У него еще оставалась слабая надежда на то, что Аттик когда-нибудь ему предложит денег, но Аттик никогда этого не делал. Охотно приобретая статуи и другие произведения искусства для Цицерона во время своих продолжительных путешествий по Греции, Аттик настаивал, чтобы за них заплатили, а также оплатили их доставку в Италию. Цицерон считал, что единственное, за что Аттик не требовал денег, было время, которое он потратил, чтобы разыскать все эти шедевры. Значило ли это, что Аттик неизлечимо скуп? Цицерон так не думал. В отличие от Красса Аттик был щедрый хозяин и платил хорошее жалованье своим рабам и наемным работникам. Деньги для Аттика являлись не просто деньгами. Он считал их товаром, заслуживающим огромного уважения. Он терпеть не мог отдавать этот товар бесплатно тем, кто не относился к нему с равным уважением.
Цицерон претендовал на понимание искусства, хотя был дилетантом, транжирой, хвастуном. Поэтому он не ценил — да и не мог ценить — деньги так, как они того заслуживают.
Третьим в списке друзей Цицерона шел Публий Нигидий Фигул из семьи такой же древней и уважаемой, как и семья Аттика (прозвище «Фигул» означает «Гончар», хотя каким образом получил это имя первый Фигул, семья не знала). Как и Аттик, Нигидий Фигул отрекся от публичной карьеры. В случае Аттика публичная карьера означала бы отказ от коммерческой деятельности, а Аттик любил коммерцию больше, чем политику. В случае Нигидия Фигула публичная карьера погубила бы его самую большую любовь — эзотерические аспекты религии. Признанный главным экспертом в искусстве предсказаний — таких, как практиковали давно ушедшие этруски, — он знал о печени овцы больше, чем любой мясник или ветеринар. Он мог прорицать по полету птиц, вспышке молнии, звуку грома или движению земли, числам, шаровым молниям, падающим звездам, затмениям, обелискам, стоячим камням, пилонам, пирамидам, сферам, курганам, обсидиану, кремнию, форме и цвету пламени, священным цыплятам, по извилинам кишечника у животных.
Он был, конечно, одним из хранителей римских книг предсказаний и кладезем информации для коллегии авгуров, ни один из членов которой не считался авторитетом в вопросах гаданий, поскольку жрецы-авгуры были лишь религиозными служащими, которых назначали в результате выборов и которые были вынуждены всякий раз обращаться к таблицам, прежде чем объявить знаки благоприятными или неблагоприятными. Самым большим желанием Цицерона было стать авгуром (у него хватало ума понять, что понтификом его никогда не изберут). Он поклялся, что если сделается авгуром, то будет осведомлен в искусстве прорицания куда больше, чем любой из коллег, когда-либо выбранный или назначенный на религиозную должность только потому, что их семьи имели на это право.
Сначала Цицерон искал дружбы с Нигидием Фигулом из-за его знаний, но вскоре поддался очарованию его натуры, спокойной и доброй, кроткой и чувствительной. Отнюдь не заносчивый, несмотря на свое социальное превосходство, Фигул любил находиться среди остроумных и веселых людей и с удовольствием проводил иногда вечер с Цицероном, знаменитым острословом, умеющим поддержать компанию. Как и Аттик, Нигидий Фигул был холостяком, но в отличие от Аттика он выбрал такое положение по религиозным соображениям. Он твердо верил, что женщина разрушит его мистические связи с миром невидимых сил.
Женщина — это земное существо. Нигидий Фигул — небесный человек. А воздух и земля никогда не смешиваются, они не усиливают друг друга, но поглощают силу друг друга. Он до жути боялся крови, если это не была кровь жертвенного животного. А женщины — это всегда кровь. Поэтому все его рабы были мужчинами, а свою мать он отправил жить с сестрой и ее мужем.
На следующий день после курульных выборов Цицерон намеревался повидаться только с одним Аттиком, но вмешались семейные дела. Брат Квинт был выбран претором. Естественно, это решили отметить, тем более что, по примеру своего старшего брата, он был выбран in suo anno, как раз в положенном возрасте (ему исполнилось тридцать девять лет). Этот второй сын скромного землевладельца из Арпина жил в доме на Каринах, который старик купил, когда первый раз привез свою семью в Рим, чтобы предоставить Марку все необходимые преимущества, которых требовал его выдающийся интеллект. Итак, Цицерон с семьей отправился с Палатина на Карины незадолго до часа обеда, но эта братская обязанность отнюдь не отменяла разговора с Аттиком. Он тоже там ожидался, потому что Квинт был женат на сестре Аттика — Помпонии.
Цицерон с братом были очень похожи, но Цицерон-оратор был посимпатичнее. Во-первых, он выше ростом и лучше сложен, а Квинт — низенький и худощавый. Во-вторых, у Цицерона сохранились волосы, а у Квинта образовалась большая плешь. Уши у Квинта выглядели оттопыренными куда страшнее, чем у его старшего брата, хотя это была иллюзия: просто у Цицерона голова больше, что зрительно уменьшало размеры ушей. Оба были кареглазые, с каштановыми волосами и очень смуглой чистой кожей.
В одном отношении они имели много общего: оба женились на богатых мегерах, чьи родственники уже теряли всякую надежду выдать их замуж. Теренция славилась тем, что ей невозможно угодить. У нее был настолько тяжелый характер, что никто, как бы он ни нуждался в деньгах, не мог собраться с силами и сделать ей предложение. Она сама выбрала Цицерона. Что касается Помпонии, Аттик уже дважды воздевал руки к небесам, приходя от нее в отчаяние! Она была безобразна, свирепа, груба, злобна, язвительна, мстительна и хорошо умела быть жестокой. Заняв прочное место на коммерческой лестнице благодаря поддержке Аттика, ее первый муж развелся с ней сразу же, как только отпала необходимость в этой поддержке, и привел ее обратно в дом к Аттику. Хотя причиной развода было названо ее бесплодие, весь Рим считал (и правильно), что настоящая причина кроется в отсутствии желания сожительствовать с подобной особой. Именно Цицерон посоветовал брату Квинту жениться на ней, и они с Аттиком убедили его совершить сей поступок. Это случилось тринадцать лет назад. Жених был значительно моложе невесты. Через десять лет после свадьбы Помпония развеяла миф о своем бесплодии, родив сына, тоже Квинта.
Они постоянно ругались и теперь уже использовали ребенка как орудие в нескончаемой борьбе за право воспитывать сына, вырывая друг у друга несчастного малыша. Это беспокоило и Аттика (сын его сестры являлся его наследником), и Цицерона. Но никому не удавалось убедить враждующие стороны, что единственный, кто страдает от их вражды по-настоящему, был маленький Квинт. Если бы брат Квинт догадался сделаться тряпкой, как Цицерон, старался ублажить жену и не привлекать к себе ее внимания, их брак мог бы сложиться даже лучше, чем брак Цицерона и Теренции, ибо Помпония хотела лишь одного — верховенства, в то время как Теренция настойчиво лезла в политику. Но, увы, брат Квинт больше походил на отца, чем Цицерон-оратор. Несмотря ни на что, он будет хозяином дома!
Война не угасала. Это сразу бросилось в глаза, едва Цицерон, Теренция, Туллия и двухгодовалый Марк вошли в дом. Управляющий сразу отвел Туллию и маленького Марка в детскую. Помпония была слишком занята — она орала на Квинта, а Квинт, не уступая жене, старался перекричать ее.
— Похоже, — рявкнул Цицерон своим самым громким голосом, каким говорил на Форуме, — что храм богини Теллус рядом! Иначе соседи стали бы жаловаться.
Остановило ли их это? Ничуть. Они продолжали вопить, словно пришедших не существовало. Это длилось до тех пор, пока не прибыл Аттик. Его способ прекратить сражение был весьма прост. Он вышел вперед, схватил сестру за плечи и стал трясти ее так, что у нее зубы застучали.
— Уйди, Помпония! — резко приказал он. — Возьми Теренцию, отправься с ней куда-нибудь. Там, вдали от нас, можешь поделиться с ней всеми своими бедами.
— Я ее тоже трясу, — печально сказал брат Квинт, — но это не помогает. Она просто пинает меня коленкой сам знаешь куда.
— Если бы она пнула меня, я убил бы ее, — мрачно сказал Аттик.
— А если бы я ее убил, меня судили бы за убийство.
— Правда, — усмехнулся Аттик. — Бедный Квинт! Я еще раз поговорю с ней и посмотрю, что можно сделать.
Цицерон не участвовал в этом разговоре, он ретировался еще до прибытия Аттика и теперь вышел из кабинета Квинта с развернутым свитком в руках.
— Снова пишешь, брат? — спросил он, подняв голову.
— Трагедия в стиле Софокла.
— А ты делаешь успехи. Написано хорошо.
— Надеюсь, у меня получается уже лучше. В нашей семье ты монополизировал все, что касается речей и поэзии, а мне приходится выбирать из оставшегося — истории, комедии и трагедии. У меня нет времени на исторические исследования, а трагедия мне дается легче, чем комедия, если учесть, в какой атмосфере я живу.
— Я бы подумал, что ваша домашняя обстановка скорее способствует фарсу, — с серьезным видом заметил Цицерон.
— О-о, заткнись!
— Есть еще философия и естественные науки.
— Философия моя проста, а естественная наука — трудная, значит, остаются история, комедия и трагедия.
Аттик отошел и теперь говорил с дальнего конца атрия.
— Что это, Квинт? — спросил он, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.
— Ты уже нашел! А я сам хотел показать тебе! — крикнул Квинт, торопясь к нему. — Теперь, когда я претор, это разрешено.
— Да, действительно, — серьезно проговорил Аттик, только глаза его смеялись.
Цицерон, сохраняя торжественное выражение лица, встал на некотором расстоянии, чтобы полностью охватить картину взглядом. Он смотрел на гигантский бюст Квинта. Изображение было настолько больше натуральной величины, что его нигде нельзя было бы выставить на публике, ибо только боги могли столь превзойти размеры реального человека. Мастер сначала сделал его из глины, потом обжег и раскрасил. Для бюста это оказалось и хорошо, и плохо. Хорошо — потому что стала особенно заметна схожесть черт, краски были подобраны отлично, а плохо — потому что глина — это все-таки дешевка, которая могла разбиться на множество черепков. Никто не знал лучше, чем Цицерон и Аттик, что кошелек Квинта не выдержит мрамора или бронзы.
— Конечно, этот бюст лишь временный, — объяснил сияющий Квинт, — но пока этого достаточно, а потом я могу его использовать как форму для отливки из бронзы. У меня есть мастер, который изготавливает мой imago. И он сделает и бюст. Нехорошо, когда твое восковое подобие скрыто в шкафу и никто не может его видеть.
Он взглянул на Цицерона, который продолжал восхищенно рассматривать бюст.
— Что ты думаешь, Марк? — спросил он.
— Я думаю, — осторожно сказал Цицерон, — что впервые в своей жизни вижу половину, которой удалось стать больше целого.
Это оказалось для Аттика уже слишком. Он захохотал так, что, обессилев, сел на пол. Цицерон последовал его примеру. Бедняге Квинту оставалось лишь обидеться или составить компанию смеющимся. Недаром он был братом Цицерона — он выбрал веселье.
После этого настала пора обедать. К ним присоединилась успокоившаяся Помпония с Теренцией и примирительницей Туллией, которая лучше всех умела ладить со своей теткой.
— Так когда же свадьба? — спросил Аттик.
Он не видел Туллию так давно, что для него явилось сюрпризом увидеть ее повзрослевшей. Такая хорошенькая девушка! Мягкие каштановые волосы, кроткие карие глаза, очень похожа на отца и, как он, довольно остроумна. Она уже несколько лет была помолвлена с молодым Гаем Кальпурнием Пизоном Фругием. Хорошая пара — не только с точки зрения денег и влияния. Пизон Фругий был самым привлекательным членом семьи, куда более знаменитой мерзостью и жестокостью, нежели чуткостью и мягкими нравами.
— Еще два года, — ответила Туллия со вздохом.
— Долго ждать, — сказал Аттик сочувственно.
— Слишком долго, — опять вздохнула Туллия.
— Ну-ну, — весело заметил Цицерон, — посмотрим, Туллия. Может быть, мы сможем немного ускорить это событие.
При этих словах все три женщины бросились в гостиную Помпонии уже готовиться к свадьбе.
— Ничто так не делает женщин счастливыми, как свадебные хлопоты.
— Она влюблена, Марк, а это редкость, когда браки организуются заранее. Как я догадываюсь, Пизон Фругий чувствует то же самое. Так почему бы им не образовать семью до восемнадцатилетия Туллии? — предложил Аттик, улыбаясь. — Сколько ей сейчас? Шестнадцать?
— Почти.
— Тогда пожени их в конце этого года.
— Я согласен, — угрюмо сказал брат Квинт. — Приятно видеть их вместе. Они так хорошо ладят, что стали друзьями.
Никто не прокомментировал этого замечания, и для Цицерона представился удобный случай сменить разговор. Со свадьбы он переключился на Катилину — не только более интересную, но и более простую тему.
— Ты считаешь, что он действительно собирался ликвидировать долги? — с любопытством спросил он Аттика.
— Не то чтобы я верил этому, Марк, но я определенно не мог это проигнорировать, — честно ответил Аттик. — Обвинение достаточное, чтобы напугать многих деловых людей, особенно в такой момент, когда так трудно получить кредит, а проценты подскочили. Конечно, многие будут это приветствовать, но таковые всегда останутся в меньшинстве, и они редко занимают ведущее положение в финансовых кругах. Всеобщее аннулирование долгов наиболее привлекательно для маленьких людей и людей с небольшими ликвидными средствами, не позволяющими поддерживать хороший оборот денежной наличности.
— Ты хочешь сказать, что первый класс отвернулся от Катилины и Луция Кассия из осторожности, — сказал Цицерон.
— Именно.
— Тогда Цезарь был прав, — вставил Квинт. — Ты фактически обвинил Катилину в Палате без серьезных доказательств. Другими словами, ты пустил слух.
— Нет, это не так! Не так! — крикнул Цицерон, стукнув локтем по валику. — Я не поступил бы столь безответственно! Почему ты так глуп, Квинт? Те двое планировали свергнуть хорошее правительство либо в качестве консулов, либо устроив революцию! Как правильно сказала Теренция, люди не планируют всеобщее аннулирование долгов, если они не заигрывают с представителями низших классов. Это типичная схема для тех, кто хочет установить диктатуру.
— Сулла был диктатором, но он не аннулировал долгов, — упрямо сказал Квинт.
— Нет, он лишь умертвил две тысячи всадников! — воскликнул Аттик. — Конфискация их имений наполнила казну, множество новичков разжирели на проскрипциях. И прочие экономические меры стали необязательными.
— Тебя он не проскрибировал, — ощетинился Квинт.
— Да уж! Сулла был жесток, но он не дурак.
— Хочешь сказать, я дурак?
— Да, Квинт, ты дурак, — подтвердил Цицерон, избавив Аттика от необходимости искать тактичный ответ. — Почему тебе всегда нужно быть таким агрессивным? Неудивительно, что вы с Помпонией не можете поладить: вы похожи как две горошины!
— Грр! — прорычал Квинт, затихая.
— Да, Марк, определенный вред причинен, — сказал Аттик миролюбиво, — и есть шанс, что ты был прав, поступив так именно до выборов. Я думаю, что твой источник информации подозрителен, потому что немного знаю эту даму. Но с другой стороны, готов поспорить, что ее экономические познания уместятся на головке булавки. Выдернуть из воздуха фразу вроде всеобщего аннулирования долгов? Невозможно! Нет, я считаю, что ты имел основания так поступить.
— Что бы ты ни делал, — воскликнул Цицерон, вдруг осознав, что обоим его собеседникам слишком многое известно о Фульвии Нобилиор, — никогда никому не упоминайте ее имени. Даже не намекайте, что у меня есть шпион в лагере Катилины! Я хочу и дальше использовать ее.
Даже Квинт увидел смысл в этой просьбе, и все согласились не заговаривать о Фульвии Нобилиор. Аттик, человек, мыслящий логически, вообще считал необходимым постоянно следить за тем, что делается вокруг Катилины.
— Может статься, что сам Катилина и не имеет к этому отношения, — сказал наконец Аттик, — но определенно его окружение заслуживает нашего внимания. Со времен Италийской войны Этрурия и Самний находятся в постоянном волнении, и падение Гая Мария только обострило ситуацию. Не говоря уже о мерах Суллы.
В секстилии Квинт Цицерон проводил женщин обоих семейств вместе с их отпрысками на побережье, а Марк Цицерон остался в Риме, чтобы отслеживать события. Семейство Курия не имело средств для отдыха в Кумах или Мизене, так что Фульвия Нобилиор вынуждена была переносить летнюю жару в Риме. Для Цицерона это тоже оказалось тяжело, но ради важной цели стоило пострадать.
Миновали сентябрьские календы. По традиции первого сентября следовало провести собрание Сената, что и было сделано. После этого большинство сенаторов возвратились к морю, поскольку календарь настолько обогнал сезоны, что самая большая жара была еще впереди. Цезарь оставался в городе. Остались и Нигидий Фигул, и Варрон — по одной и той же причине. Новый великий понтифик объявил о находке, как он их назвал, «Каменных анналов» и «Комментариев царей». После созыва коллегии жрецов в последний день секстилия, чтобы информировать их и дать им возможность осмотреть таблицы и манускрипт, он выступил на собрании Сената первого сентября, где показал отцам сенаторам свои находки. Большинство зевали (в том числе и некоторые жрецы), но Цицерон, Варрон и Нигидий Фигул посчитали это интересным и провели первую половину сентября, знакомясь с античными документами.
Все еще не привыкший к простору и роскоши своего нового дома, Цезарь устроил обед в иды этого месяца (тринадцатого сентября), пригласив Нигидия Фигула, Варрона, Цицерона и еще двоих, с кем он служил в качестве младшего военного трибуна под стенами Митилен, — Филиппа-младшего и Гая Октавия. Филипп был на два года старше Цезаря и тоже должен был в следующем году стать претором, а Октавий был на год младше Филиппа, и это значило, что возможность стать претором появится у него лишь через год, — и все потому, что, по закону Суллы, патриций Цезарь имел право занять курульную должность на два года раньше любого плебея.
Старший Филипп, злобный и аморальный, знаменитый главным образом бесчисленными переходами из одной фракции в другую, был все еще жив и иногда посещал собрания Сената, но те дни, когда он обладал силой и влиянием, давно миновали. И сын не мог послужить достойной заменой отцу, считал Цезарь, ни в отношении порока, ни в отношении влияния. Молодой Филипп был слишком рьяным эпикурейцем. Он предавался чревоугодию, любил рыбу, с удовольствием выполнял свои обязанности в Сенате и поднимался по cursus honorum, потому что имел на это право, никогда не враждуя ни с одной политической фракцией. Он ухитрялся ладить и с Катоном, и с Цезарем, хотя предпочитал компанию Цезаря компании Катона. Он был женат на Геллии, а после ее смерти решил больше не жениться, чтобы не навязывать мачеху сыну и дочери.
Между Цезарем и Гаем Октавием существовал еще один побудительный мотив для дружбы: после смерти первой жены Октавия (то была некая Анхария из богатой преторской семьи) он просил руки племянницы Цезаря Атии, дочери младшей сестры Цезаря. Ее отец Марк Атий Бальб спрашивал мнение Цезаря об этом союзе, потому что Гай Октавий происходил из незнатной семьи, просто очень богатой, из города вольсков Велитры в Южном Лации. Помня лояльность Октавия в Митиленах и зная, что он без ума от красивой и восхитительной Атии, Цезарь посоветовал согласиться на брак. У Октавия осталась дочь от первой жены — к счастью, хорошая девочка, не злая. Но сына не было, так что никто не смог бы лишить наследства возможного сына, которого родила бы своему мужу Атия. Их поженили, и Атия въехала в один из красивейших домов Рима, расположенный на темной стороне Палатина, в конце аллеи под названием Бычьи Головы. И в октябре позапрошлого года Атия родила своего первого ребенка — увы, девочку.
Естественно, разговор вертелся вокруг «Каменных анналов» и «Комментариев царей», хотя из уважения к Октавию и Филиппу Цезарь очень старался отвлечь внимание своих более ученых гостей от этой темы.
— Конечно, ты — признанный авторитет по древним законам, — сказал Цицерон, готовый уступить превосходство в области, которую он считал не самой важной в современном Риме.
— Благодарю, — серьезно отозвался Цезарь.
— Жаль, что больше нет информации о повседневной деятельности царского двора, — сказал Варрон, только что вернувшийся после длительного пребывания на Востоке, где находился в качестве знатока естественных наук при Помпее и по совместительству — его биографа.
— Да, но из этих двух документов мы теперь имеем абсолютно ясную картину процедуры суда за perduellio, и это само по себе уже поразительно, — сказал Нигидий Фигул, — учитывая maiestas.
— Maiestas — это изобретение Сатурнина, — сказал Цезарь.
— Он изобрел maiestas только потому, что никого нельзя было обвинить в измене по старой форме, — быстро заметил Цицерон.
— Жаль, что Сатурнин не знал о существовании твоих находок, Цезарь, — мечтательно произнес Варрон. — Двое судей без присяжных — и совсем другой результат судебного процесса!
— Чушь! — воскликнул Цицерон, выпрямляясь на ложе. — Ни Сенат, ни комиций не разрешат слушания в уголовном суде без присяжных!
— Но самое интересное, — добавил Нигидий Фигул, — что сегодня живы лишь четверо потомственных судей. Ты, Цезарь, твой кузен Луций Цезарь, Фабий Санга. И Катилина, как ни странно! Все другие патрицианские семьи не принимали участия в суде, когда Горация судили за убийство своей сестры.
Филипп и Октавий явно скучали, поэтому Цезарь снова попытался сменить тему.
— Когда ожидаете прибавления? — спросил он Октавия.
— Через неделю.
— Это будет мальчик или девочка?
— Мы думаем, на этот раз мальчик. Третья девочка от двух жен — это было бы жестоким разочарованием, — вздохнул Октавий.
— Я помню, что перед рождением Туллии я был уверен, что появится мальчик, — усмехнулся Цицерон. — И Теренция тоже не сомневалась. А оказалось, что нашего сына нам суждено было ждать целых четырнадцать лет.
— Не слишком ли велик перерыв между попытками, Цицерон? — спросил Филипп.
На это Цицерон ничего не ответил, только покраснел. Как большинство амбициозных «новых людей», взбиравшихся по социальной лестнице, он был обычно не в меру стыдлив, хотя иногда ему в голову помимо воли приходили потрясающие остроты. Аристократы, уверенные в себе, могли позволить себе соленое словцо. Цицерон — не мог.
— Женщина, чей муж является смотрителем старых зданий собраний, говорит, что будет мальчик, — сказал Октавий. — Она привязала обручальное кольцо Атии к нитке и держала его перед животом. Оно быстро вращалось слева-направо. Верный знак, сказала она.
— Ну, будем надеяться, что она права, — сказал Цезарь. — Моя старшая сестра рожала мальчиков, но в семье рождаются и девочки.
— Интересно, — спросил Варрон, — сколько людей фактически судили за perduellio во времена Тулла Гостилия?
Цезарь подавил вздох. Пригласить на обед троих ученых и двоих эпикурейцев — глупо. К счастью, вино оказалось великолепным, как великолепны были и повара Общественного дома.
Новости из Этрурии пришли через несколько дней после этого обеда у великого понтифика. О них сообщила Фульвия Нобилиор.
— Катилина послал Гая Манлия в Фезулы набирать армию, — доложила она Цицерону, устраиваясь на краю ложа и вытирая пот со лба, — а Публий Фурий делает то же самое в Апулии.
— Доказательства? — резко спросил Цицерон, чувствуя, как и у него вдруг выступил пот на лбу.
— Никаких, Марк Туллий.
— Это тебе Квинт Курий сказал?
— Нет. Я подслушала, когда он говорил с Луцием Кассием прошлым вечером после обеда. Они думали, что я ушла спать. После выборов они вели себя очень тихо, даже Квинт Курий. Результат выборов оказался ударом для Катилины, и я думаю, он сделал перерыв в своей деятельности, чтобы опомниться. Прошлым вечером я первый раз услышала, что они о чем-то шепчутся.
— Ты знаешь, когда Манлий и Фурий начали действовать?
— Нет.
— Значит, тебе неизвестно, как далеко могла продвинуться вербовка? Например, мог бы я получить подтверждение, если бы послал кого-нибудь в Фезулы?
— Не знаю, Марк Туллий. Хотела бы знать, но увы.
— А что Квинт Курий? Он — за открытую революцию?
— Я не уверена.
— Тогда постарайся узнать, Фульвия, — сказал Цицерон, пытаясь сдержать раздражение. — Если мы сможем убедить его дать показания в Сенате, сенаторам придется поверить мне.
— Будь спокоен, муж, Фульвия сделает для тебя все, — сказала Теренция и выпроводила посетительницу.
Уверенный, что мятежные силы будут вербовать рабов, Цицерон послал в Фезулы очень сообразительного и приличного человека, дав тому указание записаться в армию. Зная, что многие в Палате считают его легковерным, слишком жаждущим кризиса, чтобы чем-то отличить свое консульство, Цицерон занял этого раба у Аттика. Поэтому раб мог свидетельствовать, не будучи лично подчиненным Цицерону. Но, увы, когда он возвратился, он мало что мог сообщить. Что-то определенно происходило, и не только в Фезулах. Беда в том, что рабы, как ему говорили, когда он стал собирать информацию, происходили не из Этрурии. В Этрурии достаточно свободных людей. Трудно сказать, что означал этот ответ, так как, конечно, в Этрурии имелось достаточно рабов — как в любом другом месте в Италии и за ее пределами. Весь мир зависел от рабов!
— Если это действительно восстание, Марк Туллий, — заключил слуга Аттика, — тогда это восстание свободных людей.
— И что дальше? — спросила Теренция за обедом.
— Честно говоря, не знаю, дорогая. Вопрос в том, как поступить: созову ли я Сенат и повторю попытку или буду ждать, пока не смогу найти несколько вольноотпущенников-агентов и представить неопровержимые доказательства.
— У меня такое чувство, что найти неопровержимые доказательства будет очень трудно, муж. Никто в Северной Этрурии не доверяет чужакам, свободным или рабам. Они привержены своим семьям и очень скрытны.
— Тогда, — вздохнул Цицерон, — я созову собрание Палаты послезавтра. Если не будет другого результата, по крайней мере, оно покажет Катилине, что я продолжаю следить за ним.
Как и предвидел Цицерон, другого результата не было. Сенаторы, которые не уехали на море, в лучшем случае отнеслись к заявлению старшего консула скептически, в худшем — стали оскорблять его. Особенно старался Катилина, который присутствовал на заседании, но держался удивительно спокойно для человека, чьи надежды на консульство потерпели крах. На этот раз он не пытался разражаться тирадами в адрес Цицерона. Он просто сидел на своем стуле и терпеливо, спокойно отвечал. Хорошая тактика, которая произвела впечатление на скептиков и вызвала восхищение у его сторонников. Шумного и жаркого спора не получилось. Разговор протекал вяло и постепенно сходил на нет, а затем заседание было прервано внезапным вторжением Гая Октавия, который показался в дверях, приплясывая и издавая радостные вопли:
— У меня сын! У меня сын!
Довольный тем, что получил предлог закрыть позорное для себя собрание, Цицерон отпустил своих чиновников и присоединился к толпе, собравшейся вокруг Октавия.
— Значит, гороскоп благоприятный? — спросил Цезарь. — Учти, они всегда благоприятны.
— Скорее удивительный, чем благоприятный, Цезарь. Если верить астрологу, мой сын, Гай Октавий-младший, в конце концов будет править миром, — хихикнул гордый отец. — Но я поверю этому! Я дал астрологу сверх того, что требовалось.
— В моем гороскопе очень много говорится о непонятных грудных болезнях, если верить моей матери, — сказал Цезарь. — Но она никогда мне его не показывает.
— А мой сообщает, что у меня никогда не будет денег, — сказал Красc.
— Хорошее предсказание делает женщин счастливыми, — заметил Филипп.
— Кто пойдет со мной регистрировать рождение у Юноны Луцины? — спросил сияющий Октавий.
— Кто же, как не дядя Цезарь, великий понтифик? — обнял Цезарь Октавия за плечи. — И я требую, чтобы после этого мне показали моего нового племянника.
Восемнадцать дней октября прошли без важной информации из Этрурии и Апулии. Не было ничего и от Фульвии Нобилиор. Иногда приходили письма от агентов Цицерона и Аттика, но они оставляли мало надежды на появление неопровержимых доказательств зреющего мятежа, хотя в каждом из этих посланий утверждалось, что что-то определенно происходит. Главная беда, казалось, заключалась в том факте, что не было реального ядра заговора. Только небольшое шевеление в одной деревне, потом в другой, в каком-нибудь заброшенном поместье центуриона Суллы или в таверне ветерана Суллы. Но как только появлялось незнакомое лицо, все начинали беспечно прохаживаться взад-вперед, посвистывая с невинным видом. В самих Фезулах, Арреции, Волатеррах, Эзернии, Ларине и других городских поселениях Этрурии и Апулии ничего не было замечено, кроме экономической депрессии и мучительной бедности. Везде дома и земельные участки выставлены на продажу, чтобы выплатить долги, но никаких признаков присутствия их прежних хозяев.
И Цицерон устал, устал, устал. Он знал, что все происходит прямо у него под носом, но не мог доказать этого. И начинал верить, что никогда не докажет — до того самого дня, когда эта революция наконец грянет. Теренция тоже пришла в отчаяние. Удивительно, но такое состояние делало жизнь с ней намного проще. Его плотские желания никогда не были сильны, но в эти дни Цицерон старался пораньше закончить дела, чтобы искать утешения в ее теле. Это озадачивало его, он считал это даже неприличным.
Они оба уже крепко спали, когда Тирон вошел и разбудил их. Это произошло вскоре после полуночи, в тот самый восемнадцатый день октября.
— Господин, господин! — прошептал любимый раб с порога. Его привлекательное лицо в отсвете лампы превращалось в лик обитателя подземного мира. — Господин, к тебе посетители!
— Который час? — спросил Цицерон, свешивая ноги с кровати.
Теренция пошевелилась и открыла глаза.
— Очень поздно, господин, — ответил раб.
— Посетители, ты сказал?
— Да, господин.
Теренция с трудом уселась на кровати, но не пыталась одеться. Она хорошо знала: что бы ни случилось, ее это не касается, она — женщина! Но снова заснуть она не могла. Ей придется ждать, пока Цицерон не вернется и не сообщит ей, в чем дело.
— Кто, Тирон? — спросил Цицерон, просовывая голову в ворот туники.
— Марк Лициний Красc и еще два знатных человека, господин.
— О боги!
Не было времени на омовение, на поиски обуви. Цицерон поспешил в атрий дома, внезапно почувствовав, что атрий этот слишком мал и слишком непритязателен для человека, который после завершения этого года будет зваться консуляром.
Конечно, это был Красc в сопровождении Марка Клавдия Марцелла и Метелла Сципиона — вот их только и не хватало! Управляющий зажигал лампы, Тирон принес писчую бумагу, перья и восковые таблички — на всякий случай. Шум, донесшийся из помещений для слуг, означал, что вино и закуски скоро появятся.
— Что случилось? — спросил Цицерон, отбросив церемонии.
— Ты был прав, друг мой, — сказал Красc и протянул Цицерону обе руки. В правой был открытый лист бумаги, в левой он держал несколько еще запечатанных писем. — Прочти это, и ты узнаешь, что случилось.
Письмо оказалось очень коротким. Оно было написано грамотно и адресовано Крассу.
Я — патриот, который по несчастью оказался вовлеченным в восстание. То, что я послал эти письма тебе, а не Марку Цицерону, объясняется твоим положением в Риме. Никто не поверил Марку Цицерону. Я надеюсь, что все поверят тебе. Другие письма — это копии. Я не мог прислать оригиналы. Также я не смею назвать тебе имена. На Рим движется пожар революции. Уезжай из Рима, Марк Красc, и возьми с собой всех, кто не хочет, чтобы вместе с тобой убили и их.
Хотя Цицерон и не мог сравниться с Цезарем в быстром чтении про себя, но все-таки он не намного отставал от знаменитого великого понтифика. Затратив на чтение записки гораздо меньше времени, чем потребовалось Крассу, Цицерон поднял голову.
— Юпитер! Марк Красc! Как это к тебе попало?
Красc тяжело опустился в кресло. Метелл Сципион и Марцелл вместе сели на ложе. Когда слуга предложил Крассу вина, тот отмахнулся.
— Мы засиделись у меня за обедом, — сказал он, — и, боюсь, я немножко увлекся. Марк Марцелл и Квинт Сципион задумали увеличить состояние своих семей, но не хотели создавать прецедент в Сенате, поэтому пришли ко мне за советом.
— Да, это так, — устало подтвердил Марцелл. Он не доверял Цицерону, считая, что тот может разболтать о деловых предприятиях, не одобряемых Сенатом.
Но Цицерон сейчас меньше всего думал о тонкой грани между законной и незаконной практикой сенаторов, поэтому он нетерпеливо сказал:
— Да, да!
И Крассу:
— Продолжай!
— Час назад кто-то постучал в дверь, но, когда мой управляющий пошел открывать, на пороге никого не оказалось. Сначала он не заметил писем, лежавших на ступени. Но шорох, вызванный падением пачки писем, привлек его внимание. Письмо, которое я открыл, было адресовано лично мне, как ты можешь убедиться, хотя я заглянул туда скорее из любопытства, чем от дурного предчувствия. Кому потребовалось доставлять почту таким образом и в такой час? — мрачно спросил Красc. — Когда я прочитал письмо и показал его Марку и Квинту, мы решили, что лучше всего немедленно отнести все это тебе. Ведь это ты заварил кашу.
Цицерон взял пять нераспечатанных писем и сел, облокотившись на стол из цитрусового дерева стоимостью полмиллиона сестерциев, совершенно не думая о том, что, если на столешнице появятся царапины, стол обесценится. Одно за другим он поднес письма к свету, рассматривая дешевые восковые печати.
— Печать с изображением волка на обычном красном воске, — вздохнув, сказал он. — Такие можно купить в любом магазине.
Он взял верхнее письмо из пачки и, подсунув пальцы под край бумаги, под пристальными взглядами присутствующих сломал круглую печать пополам.
— Я прочту его вслух, — сказал он, разворачивая единственный лист. — Оно не подписано, но адресовано Гаю Манлию.
И он стал читать, с трудом разбирая каракули.
Ты начнешь восстание за пять дней до ноябрьских календ, соберешь войско и войдешь в Фезулы. Город целиком перейдет на твою сторону, в этом ты нас уверял. Мы тебе верим. Сразу захвати арсенал. На рассвете этого же дня четверо твоих коллег тоже выступят: Публий Фурий — на Волатерры, Минуций — на Арреций, Публиций — на Сатурнию, Авл Фульвий — на Клузий. К заходу солнца все эти города будут в ваших руках, и наша армия значительно увеличится. Захватив арсеналы, она лучше вооружится.За четыре дня до календ мы, в Риме, нанесем свой удар. Армия здесь не обязательна. Куда лучше нам поможет хитрость. Мы убьем обоих консулов и всех восьмерых преторов. Что станет с вновь выбранными консулами и преторами, будет зависеть от их здравого смысла. Но торговые и финансовые воротилы должны будут определенно умереть: Марк Красc, Сервилий Цепион Брут, Тит Аттик. Их состояния пойдут на финансирование нашего предприятия.Мы предпочли бы набраться побольше сил и завербовать побольше войска, но мы не можем позволить себе ждать, пока Помпей Магн подойдет совсем близко и выступит против нас, прежде чем мы будем готовы его встретить. Его очередь придет, но сначала — главное. Да пребудут с вами боги.
Цицерон положил письмо и в ужасе уставился на Красса.
— Юпитер, Марк Красc! — воскликнул он. — Это же через девять дней!
У двоих молодых людей лица были серые в мерцающем свете свечей. Они переводили взгляды с Цицерона на Красса и обратно. Их рассудок отказывался что-либо понимать, кроме одного слова — «убить».
— Открой другие письма, — сказал Красc.
Но другие письма оказались почти такого же содержания. Они были адресованы каждому из лиц, перечисленных в письме Гаю Манлию.
— Он умный, — сказал Цицерон, качая головой. — Ни слова от первого лица, чтобы я мог указать на Катилину, и ни слова о том, кто в Риме участвует во всем этом. Все, что я имею, — это имена его прихвостней в Этрурии, а поскольку уже известно, что они за революцию, их имена не имеют значения. Умно!
Метелл Сципион облизнул губы и наконец заговорил.
— Кто написал письмо Марку Крассу, Цицерон? — спросил он.
— Думаю, Квинт Курий.
— Курий? Тот самый Курий, которого выгнали из Сената?
— Тот самый.
— Тогда можем ли мы попросить его дать показания? — спросил Марцелл.
Красc покачал головой.
— Нет, мы не смеем. Они просто убьют его, и мы останемся там, где мы сейчас, разве что лишимся нашего информатора.
— Мы можем поместить его в камеру и будем его охранять перед показаниями, — предложил Метелл Сципион.
— Ты предлагаешь тем самым закрыть ему рот? — спросил Цицерон. — Взять под охрану — это значит закрыть ему рот. Самое важное — сделать так, чтобы Катилина выдал себя.
На это Метелл сказал, хмурясь:
— А что, если главарь не Катилина?
— Вот именно, — сказал Метелл Сципион.
— Что я должен сделать, чтобы вы поняли наконец, что единственный, кто может быть вожаком, — это Катилина? — крикнул Цицерон и так хватил по своему драгоценному столу, что подставка из золота и слоновой кости задрожала. — Это Катилина! Это Катилина!
— Доказательства, Марк, — настаивал Красc, — тебе нужны доказательства.
— Так или иначе, у меня будут доказательства, — заверил Цицерон, — а тем временем в Этрурии уже начинается революция. Я созову Сенат завтра в четыре часа.
— Хорошо, — сказал Красc, вставая. — Тогда я пойду домой и посплю.
— А ты что думаешь, Марк Красc? — спросил Цицерон, направляясь к двери. — Ты веришь, что за все в ответе Катилина?
— Очень может быть, но не обязательно, — был ответ.
— Ну не типично ли это? — воскликнула Теренция чуть погодя, сидя на кровати. — Он не хочет компрометировать себя перед Юпитером Наилучшим Величайшим.
— И многие в Сенате не захотят, уверяю тебя, — вздохнул Цицерон. — Однако, моя дорогая, думаю, пора тебе разыскать Фульвию. Уже много дней мы ничего от нее не слышали. — Он лег. — Погаси лампу, я попытаюсь уснуть.
Цицерон не думал, что Сенат усомнится в том, что Катилина может тайно руководить назревающим вооруженным восстанием. Он ожидал скептицизма, но не явной оппозиции, а его ждала именно открытая оппозиция, когда он прочел полученные письма. Цицерон думал, что упоминание о Крассе заставит Сенат издать senatus consultum de re publica defendenda — декрет о военном положении, но Палата не согласилась со старшим консулом.
— Ты не должен был открывать письма до этого заседания, — резко сказал Катон. Его выбрали плебейским трибуном на следующий год, поэтому он имел право говорить.
— Но я открыл их при безупречных свидетелях.
— Все равно, — сказал Катул. — Ты узурпировал прерогативу Сената.
Все это время Катилина просто сидел. На его лице и в глазах поочередно отражались возмущение, спокойствие, невинность, недоумение, неверие.
Не в силах больше терпеть, Цицерон повернулся к нему.
— Луций Сергий Катилина, ты признаешь, что ты — главный зачинщик этих событий? — спросил он звенящим голосом.
— Нет, Марк Туллий Цицерон, не признаю.
— Есть ли кто-нибудь здесь, кто поддержит меня? — спросил старший консул, переводя взгляд с Красса на Цезаря, с Катула на Катона.
— Я предлагаю, — проговорил Красc после долгого молчания, — чтобы Палата попросила старшего консула всесторонне расследовать это дело. Если бы Этрурия восстала, это никого бы не удивило, Марк Туллий. Но когда даже твой коллега-консул уверяет, что все это розыгрыш, а потом объявляет, что он завтра возвращается на виллу в Кумы, — как ты можешь ожидать, что все мы впадем в панику?
И на этом закончили. Цицерон должен найти еще доказательства.
— Это Квинт Курий принес письма Марку Крассу, — сказала Фульвия Нобилиор на следующее утро, — но он не будет давать показания. Он очень боится.
— Ты с ним говорила?
— Да.
— Ты можешь назвать мне еще какие-нибудь имена, Фульвия?
— Я могу назвать тебе имена только друзей Курия.
— Кто они?
— Луций Кассий, как ты знаешь, Гай Корнелий и Луций Варгунтей, которых выгнали из Сената вместе с моим Курием.
Ее слова вдруг связались с фактом, похороненным где-то в подсознании Цицерона.
— Претор Лентул Сура — тоже его друг? — спросил он, вспомнив, как этот человек оскорблял его на выборах.
Да, Лентул Сура был одним из семидесяти с лишним сенаторов, изгнанных цензорами Попликолой и Клодианом! Даже несмотря на то, что он был консулом.
Но Фульвия ничего не знала о Лентуле Суре.
— Хотя иногда я вижу младшего Цетега — Гай Цетег, кажется? — с Луцием Кассием, — сказала она. — И еще Луция Статилия и Габиния по прозвищу Капитон, «большеголовый». Они не близкие друзья, учти, так что трудно сказать, принимают ли они участие в заговоре.
— А что слышно о восстании в Этрурии?
— Я только знаю, что Квинт Курий сказал — оно будет.
— Квинт Курий говорит, что восстание будет, — повторил Цицерон Теренции, когда та возвратилась, проводив Фульвию Нобилиор. — Катилина слишком умен для Рима, дорогая моя. Знала ли ты в своей жизни римлянина, который умел бы хранить секреты? Но куда бы я ни сунулся, мне везде чинят препоны. О, если бы я происходил из знатного рода! Если бы меня звали Лициний, или Фабий, или Цецилий, уже сейчас в Риме было бы введено военное положение, а Катилина был бы объявлен врагом народа. Но поскольку меня зовут Туллий и я из Арпина — родины Мария! — что бы я ни сказал, все впустую.
— Сдался, — подытожила Теренция.
Цицерон лишь печально взглянул на жену, но ничего не сказал. Потом вдруг хлопнул себя по бедрам:
— Но я должен попытаться снова!
— Ты отправил в Этрурию достаточно людей, чтобы что-нибудь разнюхать.
— Надо подумать. Но из писем явствует, что мятеж готовится не в городах. Что города будут захватывать с баз, расположенных вне городских стен.
— Из писем еще следует, что у них мало вооружения.
— Правда. Когда Помпей Магн был консулом и настаивал, что должны создаваться запасы оружия к северу от Рима, многим из нас эта идея не понравилась. Я признаю, что его арсеналы так же труднодоступны, как Нола, но если города восстают, то…
— До сих пор города не восставали. Они слишком боятся.
— В них очень много этрусков, а этруски ненавидят Рим.
— Это восстание — работа ветеранов Суллы.
— Которые не живут в городах.
— Именно.
— Так мне поднять снова этот вопрос в Сенате?
— Да, муж. Тебе терять нечего, так что попытайся опять.
Двадцать первого октября он так и сделал. Собрание было малочисленным — еще одно доказательство того, что сенаторы Рима думали о старшем консуле: амбициозный «новый человек», любящий делать из мухи слона и желающий найти причину достаточно серьезную, чтобы произнести несколько речей, которые стоит опубликовать для потомства. Катон, Красc, Катул, Цезарь и Лукулл присутствовали на этом заседании, но три первых ряда пустовали. Однако Катилина был в центре внимания, окруженный своими благожелателями, которые считали, что его просто преследуют. Луций Кассий, Публий Сулла, племянник диктатора, его дружок Автроний, Квинт Анний Хилон, оба сына покойного Цетега, два брата Суллы, не из семьи диктатора, но тем не менее имеющие к нему близкое отношение, остроумный плебейский трибун Луций Кальпурний Бестия, выбранный на следующий год, и Марк Порций Лека. «Неужели они все участвуют? — спрашивал себя Цицерон. — Неужели я вижу новый порядок, готовящийся в Риме? Если так, то невысокого я мнения об этом новом порядке. Все эти люди — мерзавцы». Он глубоко вдохнул и начал:
— Я устал произносить эту длинную фразу — senatus consultum de re publica defendenda, поэтому я решил дать новое имя декрету Сената для критических ситуаций. Единственный декрет, который может издать Сенат, декрет, обязательный для комиций, правительственных органов, учреждений и граждан. Я назову его senatus consultum ultimum. И я хочу, почтенные отцы, чтобы вы издали этот senatus consultum ultimum.
— Против меня, Марк Туллий? — спросил Катилина, улыбаясь.
— Против революции, Луций Сергий.
— Но ты ничего не доказал, Марк Туллий. Предоставь нам доказательства, а не пустые слова!
Опять замаячила неудача.
— Вероятно, Марк Туллий, мы скорее поверили бы в мятеж в Этрурии, если бы ты перестал нападать на Луция Сергия, — заметил Катул. — Твои обвинения против него абсолютно ни на чем не основаны, а это в свою очередь бросает огромную тень сомнения на любое необычное волнение к северо-западу от Тибра. В Этрурии часто неспокойно, а Луций Сергий — ясно, козел отпущения. Нет, Марк Туллий, мы не поверим ни одному твоему слову без более конкретных доказательств, чем красивые речи.
— У меня есть конкретные доказательства! — прогремел голос от двери, и вошел экс-претор Квинт Аррий.
Колени у Цицерона вдруг подкосились, он опустился на свое курульное кресло консула и с открытым ртом уставился на Аррия, взъерошенного с дороги, одетого для верховой езды.
Палата загудела, все воззрились на Катилину, который сидел среди друзей, ошеломленный.
— Поднимись на подиум, Квинт Аррий, и расскажи нам о случившемся.
— В Этрурии восстание, — просто сказал Аррий. — Я сам свидетель этому. Ветераны Суллы все ушли со своих земель и тренируют добровольцев — большей частью тех, кто потеряли дома или имущество в эти тяжелые времена. Я нашел их лагерь в нескольких милях от Фезул.
— Сколько людей вооружены, Аррий? — спросил Цезарь.
— Около двух тысяч.
Все облегченно вздохнули, но вскоре лица опять вытянулись. Аррий продолжил рассказывать о том, что такие же лагеря существуют в Арреции, Волатеррах и Сатурнии. Все говорит за то, что и Клузий тоже принимает в этом участие.
— А про меня что, Квинт Аррий? — громко спросил Катилина. — Вероятно, я — их лидер, хотя сижу здесь, в Риме?
— Их лидер, как я могу догадаться, Луций Сергий, — это человек по имени Гай Манлий, который был центурионом Суллы. Твоего имени я не слышал, и у меня нет доказательств, чтобы обвинить тебя.
При этих словах люди, собравшиеся вокруг Катилины, радостно закричали, и все в Палате вздохнули с облегчением. Проглотив досаду, старший консул поблагодарил Квинта Аррия и снова попросил Палату издать senatus consultum ultimum, разрешив ему и его правительству выступить против мятежных солдат в Этрурии.
— Будем делиться, — сказал он. — Кто за senatus consultum ultimum, чтобы подавить мятеж в Этрурии, пожалуйста, встаньте справа от меня. Кто против — пожалуйста, встаньте слева от меня.
Все встали справа, даже Катилина и все его сторонники. У Катилины был такой вид, словно он хотел сказать: «Ну, делай свое грязное дело, ты, арпинский выскочка!»
— Однако, — сказал претор Лентул Сура, после того как все вернулись на свои места, — концентрация войска не всегда означает, что готовится восстание, по крайней мере на данный момент. Ты слышал какую-нибудь дату, Квинт Аррий? Пять дней до ноябрьских календ, например, как было сказано в тех знаменитых письмах, посланных Марку Крассу?
— Даты я не слышал, — сказал Аррий.
— Я спрашиваю, — продолжал Лентул Сура, — потому что казна сейчас не в состоянии найти большие суммы для массовой вербовки. Могу я предложить, Марк Туллий, чтобы на данный момент ты применил свой senatus consultum ultimum в ограниченном варианте?
Было видно, что присутствующие согласны с Лентулом Сурой. Поэтому Цицерон довольствовался тем, что изгнал из Рима всех гладиаторов-профессионалов.
— Что, Марк Туллий, и даже без директивы выдать оружие всем гражданам этого города, которым положено иметь его в экстренных случаях? — снисходительно спросил Катилина.
— Нет, Луций Сергий, я не буду отдавать такой приказ, пока не докажу, что ты и твои сторонники — враги народа! — резко ответил Цицерон. — Зачем раздавать оружие тем, о ком я думаю, что они повернут это оружие против всех законопослушных граждан?
— Этот человек невыносим! — воскликнул Катилина, воздевая руки. — Не имеет ни малейших доказательств, а настаивает на моем обвинении!
Но Катул помнил, что они с Гортензием чувствовали год назад, когда на курульных выборах задумали вынуть Катилину из кресла, в которое они посадили Цицерона как вынужденную альтернативу Луцию Сергию. Возможно ли, чтобы Катилина был главным зачинщиком готовящегося восстания? Гай Манлий — его клиент, как и другой мятежник, Публий Фурий. Вероятно, было бы разумно узнать, являются ли его клиентами Минуций, Публиций и Авл Фульвий. В конце концов, никто из тех, кто окружает Катилину, не является столпом нравственности! Луций Кассий — жирный дурак, а Публий Сулла и Публий Автроний — ведь они были лишены права занимать консульскую должность. И в то же время ходил слух, будто они планировали убить Луция Котту и Торквата, которые их заменили. Катул решить открыть рот.
— Оставь Марка Туллия в покое, Луций Сергий! — устало потребовал он. — Мы вынуждены мириться с этой малой войной между вами, но нельзя мириться, когда частное лицо пытается сказать законно выбранному старшему консулу, как следует осуществлять его… э… э… senatus consultum ultimum. Я согласен с Марком Туллием. Отныне следует пристально следить за концентрацией войска в Этрурии. Поэтому никому в этом городе сейчас не надо выдавать оружие.
— Ты начинаешь побеждать, Цицерон, — сказал Цезарь, когда сенаторы разошлись. — Катул изменил мнение о Катилине.
— А ты?
— О-о, я думаю, что он плохой человек. Поэтому я попросил Квинта Аррия провести необходимую разведку в Этрурии.
— Ты послал туда Аррия?
— Тебе же это не удалось, не так ли? Я выбрал Аррия, потому что он воевал у Суллы и ветераны Суллы очень его любят. В верхних эшелонах Рима мало кто способен усыпить подозрения в тех недовольных ветеранах-землевладельцах, но Аррий — один из таких, — объяснил Цезарь.
— Тогда я — твой должник.
— Не думай об этом. Как и любому другому из моего сословия, мне не нравится выступать против другого патриция, но я отнюдь не дурак, Цицерон. Я не хочу восстания и не желаю, чтобы меня считали сторонником патриция, который этого хочет. Моя звезда еще только восходит. Жаль, что звезда Катилины закатилась, но она закатилась. Да, Катилина — угасшее светило в политике Рима. — Цезарь пожал плечами. — А мне не по пути с такими людьми. То же самое можно сказать о многих из нас, от Красса до Катула. Как ты сам теперь видишь.
— У меня есть люди в Этрурии. Если восстание начнется за пять дней до календ, Рим в этот же день узнает об этом.
Но в этот же день Рим ничего не узнал. Когда наступил четвертый день до ноябрьских календ, все было тихо. Консулы и преторы, которых, согласно письмам, планировалось убить, продолжали заниматься своими делами. Из Этрурии не доносилось ни слова о восстании.
Цицерон был в отчаянии. То его одолевали сомнения, то он ждал, что это вот-вот произойдет. Катилина постоянно донимал его насмешками, а тут вдруг он почувствовал необъяснимую холодность со стороны Катула и Красса. Что случилось? Почему нет никаких известий?
Наступили ноябрьские календы — и опять ничего. Нельзя сказать, что Цицерон вообще ничего не делал в те ужасные дни, когда ждал событий. Он окружил город отрядами из Капуи, поставил когорту в Окрикул, другую — в Тибур, еще — в Остию, в Пренесту и две в Войн. Больше этого он сделать не мог, потому что больше войск не было, даже в Капуе.
Затем, в полдень первого ноября, в календы, все и случилось — сразу. Из Пренесты, на которую напали, пришло послание с отчаянной просьбой о помощи. Такое же послание о помощи донеслось из Фезул. Восстание действительно началось за пять дней до календ, как писалось в тех письмах. На закате дня пришло известие о волнениях рабов в Капуе и Апулии. Цицерон созвал Сенат на завтра, на рассвете.
Поразительно, как кстати мог оказаться порядок празднования триумфа! В течение пятидесяти лет присутствие армии триумфатора на Марсовом поле во время очередного кризиса в Риме помогало спасти город от гибели. Нынешний кризис ничем не отличался от прежних. Квинт Марций Рекс и Метелл Козленок Кретик (Критский) — оба находились на Марсовом поле в ожидании своих триумфов. Конечно, никто из них не имел больше легиона, но зато эти легионы состояли из ветеранов. При полном согласии Сената Цицерон послал приказ на Марсово поле: Метелл должен отправляться на юг, на Апулию, и по пути помочь Пренесте, а Марций Рекс — на север, в Фезулы.
В распоряжении Цицерона было восемь преторов, но Лентула Суру он мысленно исключил. Он послал Квинта Помпея Руфа в Капую, чтобы начать вербовку войска среди ветеранов, живущих на своей земле в Кампании. Кто еще? Гай Помптин — хороший солдат и хороший друг, значит, его надо оставить в Риме на случай серьезных волнений в городе. Косконий — сын блестящего полководца, но на поле сражения он — ноль. Росций Отон — большой друг Цицерона, но он лучше умеет заискивать, чем вербовать солдат или командовать ими. Сульпиций — не патриций, но тем не менее кажется, что он немного симпатизирует Катилине. А доверять патрицию Валерию Флакку Цицерон не мог. Оставался только городской претор Метелл Целер. Человек Помпея. Абсолютно лоялен.
— Квинт Цецилий Метелл Целер, я приказываю тебе ехать в Пицен и приступить там к вербовке, — сказал Цицерон.
Целер поднялся с хмурым видом.
— Конечно, я рад выполнить твой приказ, Марк Туллий, но существует одна проблема. Как городской претор я не могу покидать Рим больше чем на десять дней.
— Согласно senatus consultum ultimum, ты можешь выполнять все, что прикажет государство, не нарушая ни закона, ни традиций.
— Хотелось бы мне согласиться с твоим толкованием, — прервал его Цезарь, — но не могу, Марк Туллий. Твой декрет распространяется только на кризис, он не отменяет обычных функций магистратов.
— Мне нужен Целер, чтобы справиться с кризисом! — резко крикнул Цицерон.
— У тебя есть еще пять преторов, которых ты пока не использовал, — подсказал Цезарь.
— Я — старший консул, и я отправлю в Пицен того претора, которого считаю наиболее подходящим.
— Даже если ты действуешь незаконно?
— Я не действую незаконно! Senatus consultum ultimum перекрывает все другие соображения, включая «обычные функции магистратов», как ты назвал обязанности Целера! — сорвался на крик Цицерон, заливаясь краской. — Скажи, ты сомневался бы в праве официально назначенного диктатора послать Целера из города больше чем на десять дней?
— Нет, не сомневался бы, — очень спокойно ответил Цезарь. — Поэтому, Марк Туллий, почему бы не сделать то же самое, но законно? Отмени свой декрет — эту игрушку, с которой ты носишься, и попроси Палату назначить диктатора, чтобы пойти войной на Гая Манлия.
— Какая блестящая идея! — медленно протянул Катилина, сидя на своем обычном месте в окружении сторонников.
— Последний раз, когда в Риме был диктатор, его диктатура в конце концов сделалась похожей на правление царя! — выкрикнул Цицерон. — Senatus consultum ultimum придуман именно для того, чтобы справляться с государственными кризисами, не давая абсолютной власти одному человеку.
— Как? Разве у тебя нет власти, Цицерон? — спросил Катилина.
— Я — старший консул!
— И сам все решаешь, словно ты — диктатор, — с насмешкой произнес Катилина.
— Я — инструмент senatus consultum ultimum!
— Ты — инструмент магистратного хаоса, — сказал Цезарь. — Прошло немногим более месяца, как новые плебейские трибуны вступили в должность, и в течение нескольких дней до и после этого события необходимо присутствие в Риме городского претора.
— Такого закона нет на таблицах!
— Но есть закон, согласно которому городской претор не может отсутствовать в Риме более десяти дней подряд.
— Хорошо, хорошо! — пронзительно крикнул Цицерон. — Пусть будет по-твоему! Квинт Цецилий Метелл Целер, я приказываю тебе ехать в Пицен, но требую, чтобы ты возвращался в Рим каждый одиннадцатый день! Ты также вернешься в Рим за шесть дней до вступления в должность новых плебейских трибунов и будешь оставаться в Риме в течение шести дней после их вступления в должность!
В этот момент писарь передал раздраженному старшему консулу записку. Цицерон прочел ее и рассмеялся.
— Ну, Луций Сергий, — обратился он к Катилине, — кажется, тебя ждет еще одна маленькая неприятность! Луций Эмилий Павел хочет обвинить тебя на основании закона lex Plautia de vi. Об этом он только что объявил с ростры. — Он нарочито прокашлялся. — Я уверен, ты знаешь, кто такой Луций Эмилий Павел! Такой же патриций, как и ты, и такой же мятежник! Возвратился в Рим после нескольких лет ссылки, значительно отставший в общественной жизни от своего младшего брата Лепида. Но явно желает показать, что он больше не хочет пачкать клеймом мятежника свое аристократическое тело. Ты думал, что только мы, выскочки, «новые люди», против тебя? Но ты ведь не можешь назвать Эмилия выскочкой, не так ли?
— О-о-о! — протянул Катилина, вскинув бровь. Он вытянул вперед правую руку, заставив ее дрожать. — Смотри, как я затрясся, Марк Туллий! Меня обвиняют в подстрекательстве к общественному насилию? Но когда же я это сделал?
Он оставался сидеть и с видом ужасно оскорбленного человека оглядел ряды сидящих сенаторов.
— Может быть, я должен попросить, чтобы меня взял под охрану какой-нибудь аристократ, а, Марк Туллий? Это тебе понравится? — Он в упор посмотрел на Мамерка. — Эй, Мамерк Эмилий Лепид, принцепс Сената, ты возьмешь меня в свой дом в качестве узника?
Глава рода Эмилиев Лепидов и близкий родственник возвратившегося из ссылки Павла, Мамерк просто покачал головой, усмехнувшись.
— Я не хочу тебя, Луций Сергий, — сказал он.
— А ты, старший консул? — спросил Катилина Цицерона.
— Впустить в свой дом моего потенциального убийцу? Нет, благодарю! — ответил Цицерон.
— А ты, городской претор?
— Не могу, — ответил Метелл Целер. — Утром я отправляюсь в Пицен.
— А плебей Клавдий? Может быть, ты изъявишь такое желание, Марк Клавдий Марцелл? Ведь всего несколько дней назад ты готов был следовать примеру твоего хозяина Красса?
— Я отказываюсь, — сказал Марцелл.
— У меня идея получше, Луций Сергий, — сказал Цицерон. — Почему бы тебе не уехать из Рима и открыто не присоединиться к своему мятежу?
— Я не уеду из Рима, и это не мой мятеж, — сказал Катилина.
— В таком случае я объявляю собрание закрытым, — произнес Цицерон. — Мы сделали все, что могли, для защиты Рима. Все, что нам нужно сейчас сделать, это ждать, что будет дальше. Рано или поздно, Катилина, ты себя выдашь.
— Я очень хочу, — сказал он позже Теренции, — чтобы мой коллега Гибрид, ценитель удовольствий, возвратился в Рим. У нас здесь официально объявлено чрезвычайное положение, но — где же консул Гай Антоний Гибрид? Нежится на своем личном пляже в Кумах!
— А ты не можешь приказать ему вернуться на основании senatus consultum ultimum?
— Думаю, что могу.
— Тогда сделай это, Цицерон! Он может тебе понадобиться.
— Он говорит, что у него приступ подагры.
— Вся подагра у него в голове! — вынесла приговор Теренция.
За пять часов до рассвета седьмого ноября Тирон снова разбудил крепко спавших Цицерона и Теренцию.
— К тебе посетительница, госпожа, — доложил любимый раб.
Страдающая ревматизмом жена старшего консула проворно спрыгнула с кровати (разумеется, она была в ночной рубашке — в доме Цицерона нагишом не спали!).
— Это Фульвия Нобилиор, — сказала она, расталкивая Цицерона. — Проснись, муж, проснись!
Назад: ЧАСТЬ III ЯНВАРЬ 65 Г. ДО P. X. — КВИНТИЛИЙ (ИЮЛЬ) 63 Г. ДО Р. X
Дальше: ЧАСТЬ V 5 ДЕКАБРЯ 63 Г. ДО Р. X. — МАРТ 61 Г. ДО Р. X

