Книга: Русская мифология. Энциклопедия
Назад: Глава 3 НИЗШАЯ МИФОЛОГИЯ
Дальше: Часть четвертая ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПЕРСОНАСИ, ЛЮДИ, СВЯТЫЕ
Обдериха
Обдериха— в поверьях архангельских крестьян хозяйка бани. По всей видимости, она представляет собой персонификацию одной из основных функций хозяина бани — наказывать тех, кто невовремя пришел в баню. По поверьям, обдериха царапает таких людей, сдирает с них кожу. Соответственно своим действиям, этот мифологический персонаж получил в народе именование «обдериха». В местных традициях обдериху называли также «одерышком», «задерихой».
Внешний облик обдерихи, согласно народным представлениям, мог быть различен. Архангельские крестьяне говорили, что она «кому человеком, кому ребенком явится». Но чаще ее видели в женском обличии, с длинными распущенными волосами, большими зубами, широко расставленными глазами. В традиционном сознании антропоморфный облик обдерихи, как и других представителей низшей мифологии, дополнялся чертами, свойственными животным: она представлялась волосатой, с когтями, рожками: «Парень в бане мылся и обдериху видел. С рожками, говорит, сидит на полку, небольша» Зачастую ее представляли и в виде кошки с большими глазами или каким-нибудь неодушевленным предметом: «Обдериха покажется кошкой, рыжей, серой. А то перекатится трубкой берестяной из байны в байну».
Происхождение этого мифологического существа в народном сознании связывается с родовой грязью. По народным поверьям, в новой бане обдериха появляется тогда, когда там совершатся роды: «Как малого ребенка вымоют первый раз в байне, и об-дериха образуется». В некоторых местах считали, что в бане живет столько обдерих, сколько в ней обмыто новорожденных. В других же местах полагали, что в бане обдериха появляется только после сорокового младенца, обмытого здесь.
Согласно мифологическим рассказам, в бане обдериха обитает под полком, за каменкой, под лавкой. Как правило, она считается вредоносным существом, и не только для припозднившихся в бане. Особенно она опасна для маленьких детей. По народным поверьям, детей до года, которых одних оставили в бане, обдериха обменивает. В одной из архангельских деревень рассказывали:
У нас за рекой девка обменена есть. Ее в байне обдериха обменяла. Тридцать годов уже ей. Больная она, не говорит, а ест много. А в 12 часов — что днем, что ночью — в байну лезет. Отправляясь в баню с новорожденным, мать всегда предпринимала особые меры безопасности, чтобы не пострадать от обдерихи:
Родит женка, пойдет с ребенком в баню мыться, так кладет камешек и иконку, а то обдериха обменит и унесет, и не найдется ребенок. А вместо ребенка окажется голик. А бывает, еще и ребенок окажется, но он не такой, как настоящие, — до пятнадцати лет живет, а потом куда-то девается. В некоторых деревнях также считали, что ребенка, не достигшего годовалого возраста, в бане нельзя не только оставлять одного, но и называть по имени; в этом случае обдериха тоже может его обменить, и он «глупой будет».
Крайне редко, но все-таки встречаются мифологические рассказы о том, как обдериха защищает человека от других представителей нечистой силы. Обычно удача сопутствует тому, кто уважительно относится к обдерихе:
Ране странники ходили, один попросился в деревне ночевать, его никто не пустил. В байну зашел, попросился: «Хозяин с хозяюшкой, пусти переночевать». Лег на полок и слышит, из сенцов говорит кто-то:Божаточка, пойдем на свадьбу?Нет, не пойду, у меня сегодня наследники есть.Ну так задерем его на свадьбу с собой.Нет, не задерем, он у меня попросился.
В одном из севернорусских мифологических рассказов повествуется о том, как обдериха спасла девушку о верной смерти: Шли девки по малину, проходили погост. Увидали — лежат кости. А одна озорная и говорит: «Кости-кости, приходите к нам в гости!» Ну, на вечер в избу, где девки шили, и пришли парни. Незнакомые, неведомые и откуда незнамо. А все веселые, пряниками кормят, играют, дролятся. Вот одна девка в красный угол отошла, под икону стала и видит, что зубы у них железны, а в сапогах кости. Она и говорит:
— Девушки, я до ветра пойду.
А парни ее не пущают. Она и говорит:
— Хоть косу дверьми прищемите, да пустите.
Они ей косу дверьми прищемили, а она косу срезала да бежать. А за нею уже догоня. Кости догоняют, съесть хотят. Забежала она в байню, заплакала, замолилася:
— Обдериха-матушка, спрячь меня.
Обдериха ее и спрятала, камышком прикрыла, паром запарила. Кости в байню вбежали — ан нет ничего. Тут петух запел, они и рассыпались. Иногда в мифологических рассказах образ обдерихи соотносится с представлениями о проклятом человеке: когда на обдери-ху набрасывают крест, она превращается в обычную девушку.
Чтобы не стать жертвой обдерихи, следует соблюдать предписанные традицией правила: вовремя ходить в баню, не мыться в одиночку поздно вечером, а заходить в баню, только благосло-вясь и спросив разрешения у банных хозяев. Об этом сообщается в многочисленных мифологических рассказах:
Нельзя поздно мыться, обдериха задерет. В полдень тоже нельзя мыться. Я раз пошла, а пришла с байны — вся спина садит, содрана кожа.
Волосата, кохти большие, под полком сидит. Одна бабушка не благословясь зашла. Ее задериха ободрала, а шкурку перед каменкой повесила.
Пошли мы в байню в 12 часов. Каменница как посыпется, вылетели обе. А назавтра пошла — цело всё. А мы обе перепугались. Обдериха была ведь. Чтобы не бояться обдериху, отправляясь в баню, следовало неподалеку бросить две репины и сказать: «Обдерихи да дерутся», и тогда, по мнению крестьян, обдерихи будут заняты делом, пока люди моются.
Как и все мифологические существа, обдериха опасна до крика первых петухов. На Русском Севере известен мифологический рассказ о находчивой девушке, которая, нарушив запрет пребывания в бане ночью, избежала наказания обдерихи. Чтобы успеть побольше напрясть ниток, девушка отправилась не на посиделку с подружками, а в баню, где в полночь перед нею явилась об-дериха со словами: «Что это ты здесь делаешь?» Девушка тут же стала рассказывать обдерихе, что она прядет нитку, но прежде, чем это делать, нужно кудель вычесать, а до этого — лен надо вытрепать, а до этого — его надо мять, а до этого — сушить, а до этого — мочить, а до вымачивания — тоже сушить, а до сушки лен надо выдергать, а до дерганья — вырастить и прополоть, а с самого начала лен надо посеять. И так долго девушка все это рассказывала, что наступило утро, запели петухи, и обдериха исчезла, как сквозь землю провалилась.
Близким обдерихе образом в народных представлениях был такой мифологический женский персонаж, как банница, или бай-ница, тоже опасная для рожениц и новорожденных:
Вот у нас, в нашей деревне, значит, раньше как рожонка родит ребеночка, эту рожонку в байну. <…> Там живет неделю, может и не неделю прожить. Там всё к ней ходят, носят еду в эту байну к этой рожонке. <…> Вот один раз, говорят, случай. Вот пришла одна — тут принесла ей чо может в баню. А говорят, одной нельзя быть этой, котора родит — рожонка — в бане, чтобы одной нельзя. А это, которая к ней пришла, говорит: «Я за водичкой схожу на реку. <…> А ты, — говорит, — клади ноги в крест». <…> Нога на ногу, чтобы крест был. Вот она ушла. «Вдруг, — говорит, — я глаза открываю: стоит женщина передо мной, во лбу один глаз, большу-у-ущий глаз, и говорит: «Женщина, скинь ногу, скинь ногу!» Это чтобы креста не было. Она бы к ней подошла, может, что-нибудь в ей сделалалось. А раз крест положен — ей нельзя. «Я, — говорит, — со мной худо сделалось. Из памяти меня вычикнуло. Дак потом, — говорит, — сразу эта и пришла женщина, которая ушла за водой-то». <…> Тут нечистый дух был уж. Баенница, этот, баенница: один глаз во лбу
Овинник
В народной культуре мифологическим хозяином овина — строения, в котором производили сушку снопов, — считался овинник. Его называли «овинным жихарем», «овинным дедушкой». В некоторых местах его звали «подовинником», так как, по поверьям, он сидит в яме под сушилом, то есть в нижней части овина, где разводится огонь. В заговорах он именуется «подовин-ником-батюшкой».
Овинника чаще слышат, чем видят: он может лаять по-собачьи и хлопает в ладоши, подобно лешему. Считается, что увидеть овинника, сидящего в кострище в углу настила овина, можно только во время заутрени в Христов день. В традиционном сознании овинник мог представляться в виде и антропоморфного, и зооморфного существа. Крестьяне воображали его черным, лохматым, с горящими, как угли, глазами. Кое-где считали, что овинник похож на большого кота. На Новгородчине полагали, что он появляется в облике собаки, а владимирские крестьяне представляли его темным и лохматым, оборачивающимся медведем. Но чаще рассказывали, что овинник является в образе человека: старика или кого-либо из членов семьи. Может он принять и вид покойного родственника. В этом случае можно говорить о том, что образ овинника соотносим с представлениями о предках, покровителях семьи. Олонецкие крестьяне приписывали овиннику очень большой рост. В Вологодской же губернии считали, что у него обычный рост, но он отличается всклокоченными волосами.
Согласно поверьям, овинник оберегает овин и хлеб в нем от всякого зла, «от всякого супостата», то есть от нечисти. Крестьяне рассказывали, что он ночью пугает проходящих мимо или решивших невовремя посетить овинное строение. Он вызывает страх, издавая неожиданные жуткие звуки: «рявкает толстым голосом», ударяет в дверь овина, ужасно хохочет. Овинник следит за порядком при укладке снопов, а также за временем, когда нужно топить овин. Новгородцы даже полагали, что овинник, приняв облик крестьянина, сам трудится в овине. Кое-где крестьяне рассказывали, что по ночам можно слышать, как он переносит снопы на ток, довеивает оставшееся зерно. В некоторых местах верили, что овинник может обеспечить хороший примолот зерна.
Считалось, что овинник в целом доброжелателен к человеку. Подчас даже бытовало мнение, что он труслив и боится людей, убегая от них. Но чаще, если его беспокоят понапрасну, он сердится. Вообще же овинник не любит, когда его видят или упоминают всуе; в таких случаях он может навредить людям, о чем, к примеру, свидетельствует рассказ из Новгородской губернии: Лет восемь назад молотили мы <…> последний овин да вечером легли в подовине спать. Нас в овине было пять человек. Один из мужиков, Егор, и говорит: «Ну, и подовиннику теперь весело, ишь как нас много!» Скоро все уснули. А я с Егором лег рядом, лежим, не спим. Вдруг слышим, что кто-то сверху снопы перекладывает. Егор меня спрашивает: «Неужели уж Ани-сим пришел и сваливать начал?» Сами испугались. Потом опять все затихло. Вдруг стукнуло в ворота. Мы думали, что и вправду Анисим идет. Потом и начало молотилами и граблями кидать, только стукотня идет; так и не спали до утра. Утром нашли все разбросанным: грабли, молотила — все раскидано по гумну. С тех пор полно подовинника поминать на ночь в овине. Особенно гневается овинник, когда к нему относятся без уважения и выживают с любимого места. В одной из вологодских
деревень был случай, когда крестьянин, придя сушить овин и завидев там пекущего картошку «хозяина», произнес молитву и ударил овинника наотмашь палкой. Тот побежал, но пригрозил: «Я тебе припомню!» На другой же день овин мужика сгорел. В народе считали, что, увидев овинника, не следует креститься, иначе он спалит и дом, и хозяйственные постройки.
Гнев овинника зачастую бывает вызван тогда, когда нарушаются сроки затапливания овина. По народным поверьям, если затопить овин в заветный день, то овинник может бросить уголь между колосниками, отчего все вокруг займется пламенем и постройка сгорит. Овины начинали топить, как правило, после дня Феклы Заревницы (24 сентября / 7 октября). В начале обмолота у овинного хозяина уважительно просили разрешения топить овин. По народным представлениям, запрет на протапливание овина распространялся на дни больших праздников. Кроме того, день Феклы Заревницы, а также в Воздвиженье и Покров, а кое-где и день Кузьмы и Демьяна считались «овинными именинами», когда «овин отдыхал», а овинника положено было угощать. В Костромской губернии в эти дни овинника задабривали, принося пироги и петуха. Петуху на пороге отрубали голову и кровью кропили во всех углах строения; пирог же оставляли в подлазе. На Вологодчине в день Кузьмы и Демьяна овинника ходили поздравлять, принося ему в овин кашу. В «овинные именины» праздничная трапеза ждала и молотильщиков, которые трудились в овине.
Время окончания работ в овине тоже отмечали как праздник. Во многих местах у русских кланялись овину, приносили для его хозяина угощение и благодарили за помощь в работе: «Спасибо, хозяинушко батюшко, что подсобил обмолотиться». В Сибири после завершения работ в овине овиннику оставляли необмолоченный сноп и гостинцы. В Вологодской бернии, сбросив с овина последний сноп и собираясь домой, крестьянин снимал шапку и с низким поклоном говорил такие слова: «Спасибо, батюшка-овинник: послужил ты нынешний осенью верой и правдой».
По народным представлениям, овинник не любит, когда в помещении овина задерживаются поздно вечером и ночью. За это он может жестоко наказать человека — запихать в печь-каменку, сжечь, убить. Так, в одном из мифологических рассказов, записанных в Орловской губернии, повествуется о том, как две женщины решили в неурочное время трепать в овине лен для пряжи. Не успели они войти, как кто-то затопал и страшно захохотал, так что одна из работниц убежала. А та, которая была посмелей, осталась, и так надолго, что дома все забеспокоились. Пошли за ней и не нашли. А когда пришла пора мять пеньку, пришли в овин и увидели там висящую кожу, на которой можно было различить и лицо, и волосы, и пальцы рук и ног. Так была наказана нарушившая запрет.
В некоторых местностях так боялись овинника, что не осмеливались в одиночку ходить топить и чистить овин, а тем более — ночевать в этом строении. Чтобы избежать шуток овинника, при входе в овин всегда спрашивали у «хозяина» разрешение. Олонецкие крестьяне говорили, что спать в овине можно без опасения, следует только сказать: «Овинный батюшко, побереги, постереги от всякого зла, от всякого супостата». Известны мифологические рассказы, в которых овинник вступает в драку с баенником, ходячей покойницей и подобными персонажами, защищая от них людей. В народе верили, что «он чужому не выдаст», если ему помолиться, называли «милостивым», считали покровителем семьи.
В Святки к овину ходили девушки гадать о замужестве, а также узнать бедный, или богатый будет жених. Во время гадания обращались к хозяину постройки. Так, в Васильев вечер, в полночь, гадальщица становилась спиной к овину, поднимала на голову свой подол и спрашивала: «Овинник-родимчик, суждено, что ли, мне в нынешнем году замуж идти?» Если овинник погладит голой рукой — девушка выйдет замуж за бедняка, погладит мохнатой — будет богатый муж. А если не тронет вовсе — значит, остаться в девках. Такое гадание считалось опасным и страшным. Дело в том, что овины были связаны с огнем, и потому их строили в отдалении от жилища. Посещение таких мест, подходящих скорее для нечистой силы, да еще в полночное время, было соответственно небезопасной затеей.
Близким овиннику в низшей мифологии является образ риж-ника, или ригачника, а также его женский вариант — рижная баба. Эти персонажи считались хозяевами риги — помещения, которое, как и овин, использовалось для сушки снопов. С начала XIX века под влиянием прибалтийской традиции строительство риг стало распространяться на территории проживания русских и к началу ХХ века кое-где вытеснило сооружение овинных помещений. Причиной этому было более простое, по сравнению с овином, устройство риги: без ямы, с печью в том же помещении, где ставятся снопы, а также большая экономичность в использовании топлива. Тем не менее рижник, подобно овиннику, представлялся в народном сознании в виде страшного черного косматого мужика с горящими глазами или черного лохматого пса. Схожими являются и звуковые проявления рижника, и его отношение к людям. Он может быть опасен, если люди поступают не по его нраву: так, в олонецком мифологическом рассказе он ударяет пучком соломы парня, который осмелился сесть на его любимое место у печи, и тот затем сходит с ума. В некоторых же рассказах он защищает людей: например, спасает крестьянина от преследующего его покойного колдуна или подсказывает парню, как избавиться от намеревающейся погубить его ведьмы.
Рижная баба может выступать как самостоятельный мифологический персонаж — хозяйка риги. Но иногда ее считали женой рижника и наделяли обоих потомством. В мифологических рассказах подчас повествуется о встрече крестьянина с рижной бабой, рожающей ребенка:
Рижная баба в риге сидит, волосы длинные. Вот сосед пошел однажды, да не вовремя. Там рижница рожать собралась. У ней и муж есть. Сосед рассказывал: «Я закрыл дверь и ухожу. А второй раз прихожу, а рижник говорит: «Ты хорошо сделал, что мою жену не тронул, и я тебе ничего не сделаю плохого»». Овинники, по поверьям, общаются с другими духами, ходят к ним в гости и даже дерутся.
Гуменник
Гуменник — мифологический персонаж, обитающий на гумне — расчищенной и утрамбованной глиной или болотным илом площадке, чаще всего имеющей навес и бревенчатые стены. Эта хозяйственная постройка использовалась для хранения и молотьбы снопов. В народном сознании гуменник воспринимался как хозяин гумна. Обычно рядом с гумном, а в некоторых местностях даже внутри него располагали овин или ригу. Поэтому неудивительно, что по своим проявлениям и функциям гуменник чрезвычайно близок мифологическим хозяевам этих построек, овиннику и рижнику.
На Русском Севере гуменника представляли в виде мохнатого человека с лапами и ярко горящими глазами. В традиционных представлениях мохнатость гуменника соотносили с достатком хозяина дома, неслучайно народная поговорка гласит: «Гуменник мохнат — крестьянин богат».
Как и другие мифологические персонажи, гуменник строго следит за соблюдением крестьянами предписанных традицией правил, касающихся работ на гумне. Он может наказать, если человек нарушает запреты или что-нибудь неправильно делает во вверенной его попечению постройке. По народным поверьям, именно гуменник запрещает сушить хлеб во время сильных ветров. Нарушение запрета грозит страшным пожаром и потерей всего хлеба. Если хозяин относится к гуменнику неуважительно, не почитает его, тот может поджечь гумно своими грозно сверкающими глазами. Однако это мифологическое существо может и подружиться с хозяином, помогать ему в работах, связанных с гумном. Мужику, с которым гуменник дружен, он, согласно поверьям архангельских крестьян, неизвестно откуда подсыпает зерно, так что тот не знает нужды в хлебе в течение зимы и весны, а то еще и сам продает лишний хлеб на базаре.
В народе считали, что гуменник не любит, когда кто-нибудь ночует в гумне или овине, и может задавить человека во сне. Вместе с тем, подобно овиннику, он может защитить человека, которому грозит опасность от других мифологических существ. По этому поводу в одной архангельской деревне рассказывали следующее:
За мужиком гнался упырь. Мужик успел добежать до гумна и взмолился: «Дядя гуменник, не продай, дядюшка, в бедности, поборись с проклятым еретиком, за эту службу весь я твой душой и телом». Гуменник схватил упыря и, невидимый, стал с ним бороться. Мужик не смел шептать молитвы, чтобы не обезоружить гуменника. С криком петуха упырь исчез, и мужик остался цел.
По народным представлениям гуменник, как и другие хозяева хозяйственных построек, мог предсказать будущее. Поэтому в Святки, на Новый год, девушки ходили к гумну слушать: если было слышно, что гребут зерно, то гадающей хорошо будет жить в будущем году, а если слышно, что разметают метлой по пустому полу, то — нет, ее ждет бедность. Другое гадание было точно таким же, как и ворожба с помощью овинника: гуменник гладил девушку голой лапой не к добру, а мохнатой — к хорошей жизни. Все эти гадания считались очень опасными, поскольку гумно находилось в отдалении от жилых строений, а идти туда нужно было в двенадцать часов ночи. Поэтому девушки зачерчивались обожженной лучиной или каким-нибудь металлическим предметом, которых, по поверьям, боялась нечистая сила.
В некоторых местностях в день Покрова Пресвятой Богородицы, к которому работы по обработке хлеба старались в основном завершить, гуменнику оказывали честь. Так кое-где в Санкт-Петербургской губернии в этот день для него в качестве угощения ставили ведро пива на току и оставляли его здесь на несколько дней.
Глава 4
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ
Доля. — Душа. — Девичья красота. — Лихорадка. — Коровья смерть. — Правда и Кривда. — Смерть. — Горе
В традиционных представлениях мифологизации подвергались не только конкретные объекты окружающего мира, но и самые разнообразные абстрактные понятия. В этой главе будут рассмотрены несколько таких понятий, важных для крестьянского сознания и вписывающихся в мифологическую картину мира. Это — доля, душа, девичья красота, лихорадка, коровья смерть, правда и кривда, смерть, горе. Актуализация подобных понятий проявлялась в кризисных, переломных ситуациях в жизни отдельного человека или всего социума. В мифопоэтиче-ском сознании такие понятия олицетворялись в антропоморфном или каком-либо ином образе, наделялись человеческими характеристиками и чертами мифологических существ, что нашло яркое отражение в обрядовой сфере и фольклорных произведениях.
В традиционных представлениях и мифопоэтических текстах, в центре которых оказываются персонифицированные абстрактные понятия, нередко прослеживаются архаические элементы, свойственные мифологическому мировосприятию. Это и пространственно-временные координаты появления или исчезновения тех или иных олицетворенных явлений, соотносимые с мифологическими представлениями о структуре мира и о принципиальном различении «досюльных» времен и настоящего; это и воспроизведение схем и мотивов, представленных в космогонических мифах; это и установка на ритуальное разрешение возникшей кризисной ситуации и т. п.
Доля
Понятие доли, чрезвычайно важное в культурной традиции восточных славян, является неоднозначным и сложным. Первоначально оно соотносилось с индивидуальной человеческой судьбой. Согласно народным представлениям, каждый человек при рождении наделялся своей, определенной долей. Вместе с тем она осмыслялась не сама по себе, а соотносилась с понятием чего-то целого. В этом плане показательно, что само слово «доля» связано с глаголом «делить», а человеческая судьба обозначалась также словами «удел», «участь», включающими понятие части целого. Этим целым в традиционном сознании представлялось всеобщее благо — количество и качество жизни: здоровье, удача, счастье, события, наполняющие жизнь. Соотношение этих составляющих в судьбе каждого человека различно, что подтверждается, например, народной пословицей: «Слава Богу, не без доли: хлеба нету, так дети есть».
Если в своем исходном значении слово «доля» само по себе не включало понятие добра или зла — при их наличии использовались определения доли: «хорошая», «счастливая» или «горькая», «лихая», — то в более позднем понимании доля — это воплощение только положительных составляющих в судьбе: счастья, удачи, благополучия. Поэтому в фольклорных текстах и мифологических представлениях персонифицированному образу Доли как хорошей судьбы нередко противостоят Недоля, Горе-Злочастие, Лихо как олицетворения неудачной, плохой жизненной доли.
По народным представлениям доля есть у каждого человека: она дается ему при рождении и сопровождает его в течение жизни. Доля появляется вместе с человеком. Ее нарекает мать при рождении, или она дается Богом или ангелом. Русские пословицы гласят: «Всяку долю Бог посылает», «Наша доля — Божья воля». В традиционном сознании доля воспринималась как нечто предопределенное свыше и неизменное, не зависящее от самого человека, что отразилось в выражениях типа «на роду написано», «такой уродился», а также в пословицах и поговорках, например: «Сидень сидит, а часть его растет», «Бойся, не бойся, а от части своей не уйдешь». Действительно, попытка уйти от своей доли считалась безнадежной.
По причине признака неизменности доли в народе верили, что ее можно узнать при рождении или магическим путем. Украинцы полагали, что увидеть долю можно только два раза в жизни — сразу после рождения и перед самой смертью. Но и в другое время это возможно, например в ночь на Пасху. Для этого нужно пойти в поле и, услышав звон колоколов к заутрене, спросить: «Где моя доля?» На этот вопрос должен прозвучать ответ, указывающий на определенное место. Придя туда, можно увидеть долю и спросить у нее: «В чем мое счастье?» По поверьям, доля дает человеку кусок холста, войлока или нечто подобное, что следует хранить всю жизнь как источник счастья. По другим представлениям, о своей доле можно узнать, выйдя на Пасху после обеда на улицу, где по внешнему облику первого встречного и следует о ней судить: если человек в богатой одежде — доля хорошая, а если в лохмотьях — плохая. Иногда долю приглашали на обед: на перекрестке около придорожного креста ставили угощение — борщ и кашу, и трижды кричали: «Доля, доля, иди ко мне вечеряти!» Верили, что если доля не притронется к еде, то она сыта и счастлива, а если все съест — несчастлива. В одной из украинских сказок девушка-служанка наварила каши и пришла на перекресток, где встретила свою Долю, обтрепанную и неряшливую на вид, которая села и сразу же съела принесенное угощение; от Доли девушка получила драгоценные камни в суконной тряпице и так нашла свое счастье. По поверьям, нельзя откликаться на голос доли, зовущей человека по имени; ее нужно послать к чертовой матери. Подобные представления сближают образ доли с нечистой силой.
Несмотря на то что доля считалась неизменной, по некоторым поверьям, хорошая доля может оставить человека, если он все время грешит. У восточных славян существовало и понятие «ничьей», или «чьей угодно», доли, как правило, плохой, которая связана с определенным пространством или временем: ее может получить человек, попавший в так называемое урочное место или проклятый в «урочный час». Так, по широко распространенным поверьям, недолю, или плохую участь, можно накликать на ребенка, если проклясть его или сказать о нем что-то в недобрый час, или оставить одного в неположенном месте — в поле, бане и т. п. Эти представления соотносятся с мифологическими рассказами о сглазе, проклятии, подменышах и других.
Согласно одним воззрениям, доля умирает вместе с человеком. Однако некоторые традиционные обряды и представления позволяют считать, что доля — не только прижизненный спутник человека, что она, подобно душе, остается после смерти, и ею же определяется посмертное существование человека. Так, для украинской святочной обрядности было характерно обязательное угощение доли предков: на Голодную кутью — после трапезы накануне Рождества Христова — оставляли три ложки кутьи, чтобы доли всех предков могли поесть. Вообще для доли предка, приходящей в дом, крошки хлеба сметали на пол, а на столе оставляли кусок хлеба.
Народные представления о внешнем облике доли довольно противоречивы. С одной стороны, доля может выглядеть как своего рода «двойник» человека, судьбу которого она олицетворяет. Так, доля счастливого человека представляется одетой в хорошую одежду, доля купца — в виде красивой девушки, крестьянина — в облике здорового черного мужика, работника — в виде кобылы. Доля умершего родственника появляется, по поверьям, в облике покойного. В украинской традиции Недоля — воплощение плохой доли, имеет вид нагого человека, дряхлого старика, девушки со старческим лицом и непричесанными волосами, старой горбатой женщины в рваном платье, калеки, дохлой собаки и подобных. Недоля входит в избу, не спросясь у хозяина, садится на печь, грызет сухие корочки, кутается в тряпье: ей всегда холодно. С другой стороны, облик доли может представляться как прямо противоположный своему хозяину. В сказках Доля некрасивой женщины — хороша собой, Доля красавицы — неряшлива и одета в тряпье, Доля бедняка — в красной, то есть праздничной, рубашке.
От качеств доли, соотносимых с теми или иными человеческими характеристиками, зависит судьба ее хозяина. Трудолюбивая доля помогает человеку работать, преумножая его богатство. В сказках Доля пашет за него и даже ворует колоски из снопов на чужом поле. Ленивая Доля целый день спит под деревом или гуляет в кабаке, отчего ее несчастный хозяин прозябает в бедности. Неслучайно русская пословица говорит: «Хорошо тому жить, чья доля не спит». В сказочном сюжете о долях двух братьев — бедного и богатого — бедняк разыскивает свою ленивую Долю и наказывает ее, избивая палкой, после чего она начинает работать, а ее хозяин становится богатым.
Бедность человека может объясняться не только ленью его доли, но и тем, что он сам занимается не своим делом. При этом, сколько бы он ни работал, все равно постоянно остается в нужде: урожай плохой, скотина не ведется, дети болеют. Чтобы поправить свои дела, человеку следует найти свою долю и спросить, что ему делать. Так, в одной из сказок бедный крестьянин, обнаружив свое Счастье в красной рубахе отдыхающим под кустом, получает от него совет бросить крестьянское дело и заняться торговлей, так как оно, Счастье, знает только «всякие купеческие дела». Начав новое дело с продажи последнего сарафана своей жены, бедняк разбогател и «записался в купцы».
Согласно народным представлениям, в определенные моменты доля может предсказать судьбу. В практике святочных гаданий ее роль оказывается близка функции мифологических существ, связанных с потусторонним миром и потому знающих все ответы на вопросы о судьбе. Так, повсеместно у восточных славян было распространено гадание о жизни и смерти: в канун Крещения после ужина все домочадцы оставляли свои ложки в миске от кутьи, а сверху клали хлеб. По поверьям, ночью доля должна перевернуть ложку того, кому суждено умереть в новом году. В западно- и южнорусских губерниях, а также в Белоруссии в Святки девушки гадали, «кликая долю». Для этого выходили поздно вечером к реке или на перекресток и кричали: «Доля, гу-у-у!», после этого слушали: где слышался собачий лай, оттуда следовало ждать сватов. В некоторых местах верили, что перед несчастьем может показаться доля умершего предка. В таком случае у доли, как и у показавшегося домового, можно было спросить, к добру она или к худу. Если доля говорила: «Ху!», это означало, что она пришла к несчастью. У украинцев «долей» называли душу предка, которая, посещая дом, может принести и добро и зло, вступая тем самым во взаимодействие с судьбой живых родственников.
В культуре традиционного общества архаичные представления о доле как части целого актуализировались во многих обрядах и ритуальных ситуациях. Идея распределения доли каждому реализовалась даже в ежедневном ритуале деления хлеба во время обычной трапезы в крестьянской семье. Каждый из домочадцев получал из рук хозяина кусок хлеба — свою долю от общего каравая. И все куски были разные: одному доставалась горбушка, другому — ломоть, где больше мякиша. Свою долю получали и души умерших: в Костромской губернии существовало поверье о том, что крошки, оброненные со стола, едят потерчата — души некрещеных детей; таким образом, их доля уподоблялась этим крошкам.
Соотнесение понятия доли и образа хлеба неслучайно, поскольку в земледельческом обществе хлеб воспринимался как основной источник обеспечения жизни. Поэтому в обрядах восточных славян, касающихся каких-либо изменений в жизни и судьбе, всегда можно обнаружить действия, связанные с распределением таких ритуальных блюд, как каша, хлеб, пирог, а иногда — даже просто зерна между присутствующими. Так, в Святки во время подблюдных гаданий о судьбе сначала делили хлеб, каждый участник клал свой кусок перед собой под скатерть или на ткань, покрывающую блюдо. Затем запевали песню хлебу:
Еще нынее у нас
Страшные вечера
Да Васильевские.
Илею, илею!
Мы не песню поем
Хлебу честь отдаем.
Илею, илею!
Кому эта песенка Достанется,
Тому сбудется,
Не минуется! Илею, илею!
Тому жить бы богато,
Ходить хорошо!
Илею, илею!
И только после «славления» хлеба приступали к самому гаданию. Кусочки хлеба после гадания завертывали в рукав и приберегали, чтобы ночью положить под подушку и увидеть во сне свою судьбу.
Во время крестинного обеда ритуальным блюдом была каша, ложку которой получал каждый из присутствующих. В Новгородской губернии к столу собирались дети со всего селения, им тоже давали крутой каши, прямо в горсть, говоря при этом, чтобы они не обижали новорожденного, когда он подрастет. Таким образом, оказывалось определенное воздействие на судьбу родившегося, стоящую в зависимости от всех присутствующих.
Понятие доли нередко приобретало важность не только при раздаче обрядового блюда, но и, напротив, при сборе продуктов для его изготовления; при этом для каждого из участников будущей трапезы было важно внести свою долю в складчину. Иногда эта доля могла заключаться в сборе продуктов по домам. Так, например, на Новгородчине в день Кузьмы и Дамиана (1 ноября) девушки-подростки ходили по деревне и собирали по всем домам крупу и масло для каши. Затем в одной избе варили кашу в нескольких горшках и ели. В подобных случаях неучастие человека как в сборе продуктов, так и в самой трапезе могло повлечь за собой негативные последствия в его судьбе: он отодвигался на периферию общества, что, безусловно, сказывалось на реализации его жизненной доли.
Деление пирога, совместное вкушение каши или других ритуальных блюд являлось важнейшим элементом свадебного обряда. Получение части одного блюда всеми участниками свадьбы и, что важно, представителями двух родов было символом их соединения и соответственно и взаимодействия судеб, влияющих на долю каждого. При этом происходило перераспределение доли каждого. Этот механизм очень хорошо виден в свадебных ритуалах «сырного стола» или «поцелуйного обряда» в Поволжье: на второй или третий день свадьбы молодые по очереди угощали и целовали всех родственников с обеих сторон, а те одаривали их — кто коровой, кто ягненком, кто птицей. Таким образом, молодые наделялись своей долей из долей родственников.
Изготовление специального хлеба практиковалось у русских для совершения обряда передачи «большины», то есть главенства в доме, от старого отца сыну: передача его от первого второму символизировала изменение статуса обоих, имевшее значение в судьбе каждого. Так же и при разделе крестьянской семьи, когда один из сыновей отделялся и переходил с семьей в новый дом, пекли столько караваев, сколько становилось хозяйств, и каждый хозяин забирал себе целый хлеб.
О распространении доли и на посмертное существование человека, а также о взаимодействии с нею долей живых свидетельствуют погребально-поминальные обряды. Мотив выделения доли покойному очевиден в севернорусском причитании:
Наделю тя, мила лада,
Усем домом и поземом,
Наделю тебя скотиком,
Хлебушком да отсыплюся,
Денежком отсчитаюся.
Действительно, умершему изготавливали «дом» — гроб, который так и назывался «домовиной», выделяли землю на кладбище, клали с собой личные вещи, деньги, хлеб. С идеей наделения покойного долей соотносился известный в Обонежье обычай «давать коровку покойнику», при котором корову-нетель отдавали нищему. В связи с выделением доли умершему следует вспомнить об описаниях в древних письменных источниках архаичных погребальных обрядов, когда на «тот свет» вместе с покойным отправляли все, что ему принадлежало при жизни, вплоть до умерщвленных коня, жены и подобного. По материалам XIX–XX веков долю умершего получали люди, в определенном смысле близкие к миру мертвых: нищие, обмывальщики. Отдача им вещей умершего, равно как и уничтожение того, что ему принадлежало, осмыслялось как выделение доли самому покойному. То же значение придавалось обрядовым жертвам типа раздачи приданого при похоронах девушки ее подругам. До сих пор в народной среде широко распространены представления о необходимости отдать уже погребенному покойному то, что он просит, приснившись кому-нибудь из живых. В таких случаях просимое воспринимается как принадлежащее умершему и как не достающее ему на том свете по вине тех, кто его обряжал. Возвратить его долю можно, согласно традиционным обычаям, разными способами: положить просимый предмет в гроб следующего покойника, который, по поверьям, передаст его на том свете; отдать этот предмет кому-либо в качестве милостыни, и таким образом он тоже «достигнет» своего владельца.
В погребальной обрядности перераспределение доли касалось не только покойного, но и оставшихся жить. Причем, если живые заботились о наделении умершего его долей, они сами получали часть вещей покойного, которые, как правило, специально для этого создавались им при жизни, а в более поздней традиции — приобретались. Получается, что происходило распределение доли одного человека на многих людей. Так, в Костромской губернии раздавали зерно, хранящееся в заготовленном при жизни гробе. До сих пор широко известен обычай, согласно которому человек еще при жизни сообщает родственникам, как следует распределить его имущество после смерти. Наиболее распространенным типом вещей, которые традиционно готовили к своей смерти «на память», являлись предметы из ткани, в прошлом — из домотканого холста: полотенца, платки, просто отрезы. В Оренбуржье был известен обычай, когда целый холст, на котором гроб опускали в могилу, затем разрывали на части, и каждый из провожавших брал себе кусок. Здесь, как и в случае с целым караваем, очевидно, что ткань символизирует собой нечто общее, от которого каждый получает свою долю.
В поминальной обрядности идея получения доли реализовалась и на уровне трапезы. Поминальная трапеза осмыслялась как прощальное угощение умершему «на дорогу», однако ели присутствующие за столом живые. А то, что полагалось покойнику, как уже упоминалось выше, отдавали обмывальщику или нищим. В украинском погребальном обряде деление хлеба между поминающими совершалось на второй день после похорон в знак того, что доли умершего здесь уже нет. Оставшуюся от поминок еду ставили под лавку, «чтобы доля заговела».
Регулярные календарные кормления душ покойных соотносятся со свойственной традиционному сознанию идеей взаимозависимости и взаимообмена между мирами живых и мертвых и соответственно о взаимовлиянии друг на друга долей живущих и умерших. Обрядовый материал показывает также, что на определенных этапах жизни, в том числе и после смерти, происходит перераспределение доли человека, соотносящееся с долями других людей.
Душа
В народной традиции до сих пор сохраняются древние представления о душе как одной из двух составляющих человека, другой из них является тело. Находясь внутри него, душа обеспечивает жизненное существование. Когда же она покидает тело, человек умирает. Душа противопоставляется телу как нематериальное материальному, невидимое — видимому, бессмертное — бренному, праведное — грешному; соответственно она выступает как субстанция, имеющая более высокий «ранг». Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные поговорки: «Душа телу спорница», «Плоть душе ворог», «Душе с телом мука», «Грешное тело и душу съело», «Душа всего дороже». Противопоставление души и тела как божественного и земного начал отразилось в этиологичесих легендах, согласно которым тело первого человека было создано Богом, иногда — сатаной, из земли или глины, а душу, принесенную с неба, вдохнул Бог, оживив тем самым Адама.
Несмотря на признак нематериальности, душа все чувствует: она может «болеть», от волнения «находиться не на месте» или «быть готовой выскочить», а от страха «уйти в пятки». В мифопоэтическом сознании она может восприниматься как своеобразный двойник человека, наделенный признаками мифологического существа.
Архаичные представления о душе испытали значительное влияние христианства; вместе с тем, и элементы христианского вероучения вошли в традиционное сознание в довольно измененном виде: переработанные соответственно мифологической картине мира, они органично вписались в нее. Если христианское учение разделяет тело, душу и дух, то более древние представления о душе исходят из противопоставления тела и души. В народном языке и понимании дух и душа обычно не противопоставляются друг другу, чаще всего они не различаются или выступают как синонимичные.
Наличие души считалось обязательным признаком человека. При этом иногда иноверцам-нехристианам в присутствии души отказывалось; порой же об их душах говорили как о «темных», «поганых» и полагали, что они «не доходят до Бога». Ущербными представляли себе и души представителей чуждых народов, о чем гласит шуточная пословица: «У немца (или француза) ножки тоненьки, душа коротенька».
В народе полагали, что души мужчин и женщин различаются: по поверьям, «полноценная» душа только у мужчины, так как ее в тело Адама вдохнул Бог, а у женщины душа — наполовину от Бога, наполовину от Адама. Нередко женскую душу пренебрежительно характеризовали так: «У бабы не душа, а пар», «У бабы не душа, а голик». Вместе с тем, говоря об отношениях в семье, замечали: «Муж да жена одна душа», «Муж голова, жена душа».
Душа считалась особенностью только людей. Крестьяне были убеждены, что у всех животных, кроме медведя, вместо души — пар, который после их смерти испаряется и умирает вместе с телесной оболочкой. Душу же медведя во Владимирской губернии представляли в виде щенка.
По поверьям, души не родившихся еще людей хранятся у Бога. О времени появления души у ребенка сохранились разные представления. В Тамбовской губернии считали, что Бог дает душу в момент зачатия. На Ярославщине полагали, что ее приносит ангел в середине срока беременности, когда ребенок начинает шевелиться в утробе матери. Согласно другим представлениям, душа появляется при рождении младенца, или сначала она бывает «неполноценной», подобно пару у животных, а настоящая душа обретается во время обряда крещения и имянаречения, и она «вдыхается» священником. К древним верованиям относится представление о том, что в новорожденных переселяются души умерших людей.
О беременной женщине говорили, что она — «о двух душах», «двоедушница»: в ней своя душа и ребенка. Традиционно беременная считалась опасной для окружающих людей. На Тамбов-щине это объясняли тем, что в женщину может вселиться неприкаянная, недобрая душа, о чем мать может не знать до тех пор, пока не подрастет ребенок. Опасность вселения такой души возрастала, если не соблюдался запрет на брачные отношения во время поста.
По русским поверьям, душа у человека находится чаще всего в сердце, в груди, в животе, в горле. В некоторых местностях «душой» называли ямочку на шее — местопребывание души. Обычно полагали, что душа растет вместе с человеком, ощущает все то же, что и он; питается паром от той пищи, которую ест человек.
По традиционным представлениям, когда человек спит, его душа может покидать тело и путешествовать. Русские Карелии наступление состояния сна определяли словами «душа вон». Для носителя мифологического сознания сон воспринимался как временная смерть. Видимые человеком сны чаще всего рассматривались как события, происходящие с душой в ее странствиях. Если человеку снились умершие родственники, то, по поверьям, его душа посещала их на «том» свете. В народной среде до сих пор широко распространены рассказы, как во время обмирания человека его душа путешествует в потустороннем мире, наблюдая мучения грешников и жизнь праведников в раю, встречается с покойными родными и односельчанами. Восточные славяне верили, что душа колдуна или ведьмы, покидая ночью тело, творит черные дела.
В народной традиции существовал запрет резко будить спящих, объясняемый тем, что если во время бужения душа не успеет вернуться в тело, то человек может умереть. На Русском Севере

Ангел (вторая половина XII в.).
бытовало поверье, что душа спящего, летая по небу, может не вернуться, и тогда говорили: «Потерялся». Повсеместно у славян были уверены, что если спящего человека перевернуть так, что ноги окажутся на месте головы, то, возвратившись к телу, душа не сможет найти вход в него обратно.
Наряду с убеждением, что душа невидима, в культурной традиции восточных славян многочисленны рассказы и представления о ее внешнем облике. Душа, покидающая тело во время сна, чаще всего представлялась в виде мухи, пчелы, птички, мыши. Только что вышедшая душа умершего обычно сравнивалась с прозрачным, едва видимым воздухом, паром, дымом, который, согласно некоторым представлениям, может принять форму человека. В похоронном причитании душа изображается так:
Как душа да с белым телом расставалася,
Быв, как облако, она да подымалася.
У украинцев Харьковской губернии душа виделась маленьким человеком с прозрачным телом; на Владимирщине говорили, что душа — это «малый человек, но нет в ней ни костей, ни мяса». Антропоморфный облик души встречается в христианской иконографии — в виде спеленутого младенца. Но чаще всего «свободную» душу, то есть окончательно покинувшую человека после смерти, воспринимали как принявшую зооморфный образ: птицы, пчелы, мотылька, бабочки, волка, кошки, хтонических животных — змеи, лягушки, мыши. Облик души после смерти нередко связывался в народном сознании с праведностью или греховностью умершего. Праведные души — светлые и воплощаются в образах птиц или «хороших» животных; души грешников обычно воспринимаются как темные — в виде черной собаки, кошки, вороны, волка и подобных.
То, что душа чаще всего принимает облик летающих существ, связано с представлениями о ее легкости и способности перемещаться, летая. Не случайно о моменте смерти говорят, что у человека «душа отлетела». У украинцев существовал запрет убивать или отгонять муху, которая вьется около покойного, поскольку полагали, что она — человеческая душа. В южных губерниях у русских при виде бабочек или мотыльков у пламени обычно поминали умерших. Если к дому постоянно прилетала какая-нибудь птица, особенно кукушка, были убеждены, что это — душа умершего. С представлением о птицах как воплощениях душ связан повсеместно распространенный до сих пор обычай сыпать зерно и крошить хлеб для них на могилах.
В поверьях и фольклорных текстах широко распространен мотив прорастания душ деревьями и другими растениями на месте убийства, на могиле. Отсюда сложившееся в народе убеждение, что на кладбище нельзя ни трогать деревья, ни рвать цветы.
По традиционным представлениям, пребывание души на земле — временное, о земном бытии говорили: «быть в гостях». Об умирающем же обычно сообщали: «Домой собрался». На Русском Севере различие житья на земле и в ином мире определяли так: «Мы здесь-то в гостях гостим, а там житье вечное бесконечно будет».
Согласно народным воззрениям, когда душа навсегда покидает тело, человек умирает. Тело погребают в земле, где оно разрушается; душа же как вечная, бессмертная субстанция продолжает жить, но переходит в потусторонний мир, где ее «прибирает» Бог. До этих пор она нуждается в пище, омовении.
Смерть воспринималась как расставание души с телом, происходящее не само собой, а когда за душой, соответственно положенному сроку, приходят из иного мира. Русская поговорка гласит: «Бог по душу не пошлет, сама душа не выйдет». Повсеместно верили, что душа выходит из тела через рот. Она вылетает с последним выдохом, но остается вблизи тела некоторое время. В Архангельской губернии полагали, что через открытую дверь или окно она сразу отправляется на небеса. В некоторых местностях верили, что душа, отлетев от умершего, тут же погружается в воду, поэтому, чтобы ей не навредить, воду из всех емкостей в доме выливали.
Для облегчения душе возможности оставить место, где лежит покойный, старались открыть двери, окна, заслонку в печи. В южнорусских губерниях сразу после смерти человека из окна вывешивали полотенце, по которому, согласно поверьям, душа покидала дом. Верили также, что на полотенце душа отдыхает и вытирает им слезы. Широко бытовали представления о том, что душа может остаться в зеркале или сосуде с водой в виде отражения, а затем наносить вред домочадцам; поэтому повсеместно соблюдался обычай занавешивания зеркала тканью, а воду, которая находилась в доме в момент смерти, выливали еще и по этой причине.
Особенно опасным считалось, если душа задержится в уже мертвом теле или вернется в него через некоторое время. В таком случае верили, что покойник может стать вредоносным демоном. Поэтому повсеместно было принято находиться с умирающим рядом и «караулить душу». Обычно около изголовья постели умирающего ставили сосуд с водой и по колыханию воды определяли момент наступления смерти: по поверьям, вышедшая душа тут же погружается в воду, чтобы обмыться. В Смоленской губернии существовал даже обычай «вытрясать душу» из покойника, заключавшийся в неоднократном встряхивании гроба при выносе из дома на пороге и в других местах по дороге в церковь и из нее. Наиболее опасными, имеющими демонический характер представлялись души умерших неправильной смертью, так как в таких случаях, согласно народному пониманию, душа покидает тело преждевременно, не дождавшись положенного срока, отпущенного человеку свыше.
Смерть колдунов и ведьм считалась особенно трудной, так как их грешным душам, по поверьям, никак не выйти через обычные выходы — двери, окна, — которые на ночь и во время определенных обрядов обязательно осеняли крестным знамением. Для таких душ устраивали специальные — неперекрещенные — отверстия: в стене, в потолке или под порогом.
Традиционно верили, что должно пройти сорок дней, прежде чем отставшая от своего тела душа найдет свое новое пристанище. В этот период, пока длится переход души в иной мир, она не принадлежит ни одному из миров.
В некоторых местах считали, что первые три дня — до похорон — душа находится в доме рядом с телом. По ночам она питается тем, что для нее оставили родные покойного. Душа хозяина или хозяйки в эти дни в последний раз осматривает все в хозяйстве. По поверьям, покойник все видит и слышит все, что происходит вокруг, до момента его отпевания или до тех пор, когда на гроб, опущенный в могилу, не кинут первую горсть земли. Чтобы не обидеть душу, не загрязнить ее пылью и не вымести за дверь, в эти дни не подметали пол, в южнорусских губерниях не белили стены в хатах.
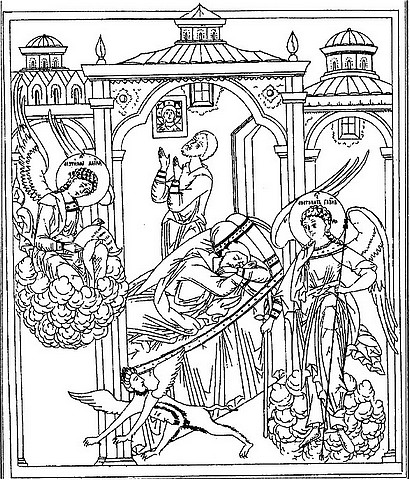
Ангел-хранитель души человеческой. Перевод с русской иконы XV в.
После смерти, по одним представлениям, душа в течение сорока дней продолжает находиться дома; по другим — улетает, окончательно оставляя родной дом; по третьим — днем летает по всем знакомым местам, а ночью возвращается домой. Все сорок дней для души ставили стакан воды и клали кусок хлеба на окне или на полке рядом с иконами; оставляя угощение, хозяева сами съедали старый хлеб и выпивали воду. В Тамбовской губернии в течение этого срока на ночь постилали на стол белую скатерть и оставляли еду. По мнению исследователей, наиболее древним следует признать представление о том, что душа находится на земле лишь до тех пор, пока не погребут тело.
До сих пор широко бытуют представления о том, что в течение сорока дней душа ходит по мытарствам — мукам, после чего предстает перед Богом на суде, определяющем ей место в раю или аду. Согласно народным рассказам и духовным стихам, в этот период душу водят, истязая ее и показывая ей ее прегрешения. Мытарства представляются как восхождение по лестнице из девяти, двенадцати или сорока ступеней, на каждой из которых темные силы изобличают душу в грехах, а Святой Дух защищает ее, показывая в ответ добрые дела, совершенные душой при жизни. Чтобы облегчить хождение души по мытарствам, в некоторых местах пекли специальное печенье в виде лепешки с изображением лестницы сверху и клали ее в воротах. После совершения панихиды священник разделял это печенье на всех присутствующих, и каждый съедал свой кусок, принимая, по поверьям, часть мытарств на себя. По народным представлениям, мытарств избегают души тех, кто умер в первые три дня Пасхи или в течение всей пасхальной недели, а также перед Вознесением: в это время врата в рай стоят открытыми, и все души, независимо от их грехов, идут прямо туда.
Известны и другие представления о странствиях души в течение сорока дней. Согласно им, на девятый день душу ведут на поклон к Богу и показывают ей рай, где она ходит до двадцатого дня. Затем она вновь приходит на поклон к Богу, после чего ее ведут в ад, где она пребывает до сорокового дня. А в этот день над ней совершается Божий суд, после которого ее ждет рай или ад.
Не только хождение по мытарствам, но и непосредственный переход души из мира живых в мир мертвых считался очень тяжелым. По древним поверьям, преградой между «тем» и «этим» светом была вода — река или море; иногда же эта преграда представлялась в виде огненной реки. В фольклорных текстах повествуется о том, что праведные души с одного берега на другой перевозит св. Николай, и они попадают в рай. В могилу с древних времен до сих пор принято класть деньги: по поверьям, они понадобятся душе, чтобы расплатиться за переправу через реку или море. Проводником в иной мир представляли не только св. Николая, но и архангела Михаила. Вот как переправа описывается в духовном стихе:
Протекала тут река, река огненная
Как по той там реке, реке огненныя,
Да тут ездит Михайло архангел царь,
Перевозит он души праведные,
Через огненную реку ко пресветлому раю.
Согласно народным поверьям, грешные души переходят эту реку вброд, испытывая страшные муки, так как Бог отказывает им на их просьбы о перевозе.
В некоторых местностях сохранились представления о том, что душа через водную преграду идет по мосту. И если где-то мост окажется нарушен, то она может подстелить себе под ноги щепки и стружки, которые после изготовления гроба постилали под тело покойника.
В сказаниях Русского Севера водная преграда, разделяющая миры живых и мертвых, называется Забыть-рекой. Пересекая ее на сороковой день после смерти, душа забывает все, что с ней было в мире живых. На «том» свете душу встречают родственники и знакомые, которые умерли раньше. Широко распространены и рассказы о том, что они приходят к умирающему еще до смерти и зовут его с собой.
В сороковой день после смерти во многих местах у русских совершался обряд окончательных проводов души умершего. Помимо поминальной трапезы, на которой для нее ставили еду, специально топили для нее баню, принося даже одежду покойного, чтобы «было во что одеться»; один из участников обряда изображал умершего, уходя за межу. В Пермском крае роль души умершего выполняли обмывальщик или обмывальщица — в зависимости от пола умершего. После обмывания покойного обмывальщикам за работу отдавали одежду умершего, и в сороковой день на проводы души они приходили именно в ней. Кроме того, здесь сразу после смерти было принято вешать на икону белое полотенце, застилать стол холщовой скатертью, на которую клали сшитый из белого же холста мешочек-«кото-мочку». «Котомочка» оставалась на столе до сорокового дня, когда рано утром, иногда — до восхода солнца, устраивалась поминальная трапеза, во время которой обмывальщик сидел в переднем углу — на самом почетном месте. После трапезы в «котомочку» клали полотенце с иконы, скатерть со стола, чашку, ложку, блюдечко, нитки, иголку, свечу, хлеб. Все это предназначалось для обмывальщика и одновременно — как будто для души покойного, отправлявшейся в последний путь. «Котомочку» передавали обмывальщику, а затем все родственники по очереди подходили к нему прощаться. При этом падали в ноги, кланялись, целовали, обращаясь, как к умершему: «Прощается с тобой твое дитятко», «Прощается с тобой твой тятя» и т. д. При выпроваживании души снимали полотенце, висевшее сорок дней, и у порога встряхивали его, приговаривая: «Ну, все, душенька, пошли, уходи к себе, иди к Богу». Простившись со всеми, кто провожал душу, обмывальщик с котомкой в руках уходил от дома, изображая уход души. Затем он возвращался и присоединялся к родственникам умершего, которые шли на кладбище. Пермские старообрядцы провожали душу так: снимали с икон висевшее там со дня смерти полотенце, шли с ним на окраину деревни и там встряхивали.
По народным представлениям, до сорокового дня существовала потенциальная опасность превращения души в демоническое существо, «ходячего» покойника. Для избежания этого и совершались предусмотренные традицией ритуалы. После же «сороковин», когда душа, по поверьям, обретала свое новое место, она переходила в разряд предков, становилась обитателем потустороннего мира, не представляющим ничего неожиданного для живых людей. В народе считали, что если до сорокового дня в дом ходит душа умершего, то после этого срока может появляться лишь нечистая сила, принимающая облик покойного. Она опасна для живых: если ее впустить в избу, то она может покалечить или убить.
У восточных славян сохранились представления о том, что душа праведного человека отходит в иной мир в положенный срок, а душа грешника может задержаться на земле до тех пор, пока не искупит свои грехи. По поверьям, души грешников не имеют покоя: они беспрестанно носятся по земле, порождая ветры, вихри, бури. В этом плане показательно, что в архаичных представлениях о творении человека из элементов космоса дух, дыхание и душа считались происходящими от ветра. В некоторых местах в Полесье считали, что души колдунов, злых богачей и умерших не своей смертью остаются на земле до тех пор, пока не сгниют их внутренности. По воззрениям украинцев, душа некрещеного младенца летает над землей семь лет, прежде чем превратится в русалку. Русалками также становятся утонувшие девушки и молодые женщины.
Несмотря на то что народные представления о локализации «того» света чрезвычайно разнообразны, — он может находиться на небе, под землей, на краю земле, в воде и под водой — в рамках поминальной обрядности посмертное существование души связывалось прежде всего с кладбищем. Кладбище воспринималось не только как место упокоения тел, но и как обитель бессмертных душ. В положенные сроки родственники посещали могилки для поминовения душ умерших, которые нуждаются в этом. Самым страшным в народе считалось, когда не было «ни телу погребенья, ни душе поминовенья». До сих пор повсеместно широко бытуют рассказы о том, как во сне являются умершие, напоминая о себе. По поверьям, если душу не поминают, то на «том» свете ей нечего есть: перед нею на столе ничего нет.
В определенные календарные сроки, когда, согласно традиционным представлениям, открывались границы между мирами живых и мертвых, души умерших посещали родные дома и места, где человеку приходилось бывать при жизни. С этими представлениями связаны поминальные обычаи оставлять на столе и на могилах угощение для душ предков, а также в некоторых местностях — «опахивать» могилки.
Девичья красота
Символическое понятие девичьей красоты в народном сознании связывалось с половозрастной группой девушек, достигших брачного возраста. В местных свадебных традициях девичья красота могла назваться также «волей», «девьей красой», «покрасой», «кросотой». Наделенность девушки этим качеством относилась к периоду ее «невещенья», «красования», то есть со времени наступления физиологической зрелости до вступления в брак. Однако понятие девичьей красоты становилось актуальным не в пору девичества, а с момента просватанья, когда девушке приходилось непосредственно расставаться с красотой, выбывать из круга подруг, прощаться с родительским домом.
В понятии девичьей красоты концентрировалось все многообразие особенностей, отличающих статус совершеннолетней девушки от всех других половозрастных групп общины. А в свадебной обрядности и поэтических текстах девичья красота воплощалась в самых разнообразных предметах и образах: это могла быть девичья коса, коса из льна или просто кудель, алая лента или связка лент, девичий головной убор или весь наряд, украшенное деревце или веник, специальный свадебный пирог. Так или иначе, все эти воплощения соотносились с традиционными представлениями о девушке и девичестве.
Основной характеристикой девушки, «носящей» девичью красоту, являлась ее зрелость, то есть готовность к материнству и браку. На уровне физического развития проявлением зрелости считались соответствующие возрасту рост и сила. Так, если девушку не хотели отдавать замуж за нежелаемого жениха, поводом для отказа обычно служила ее «молодость»: родители говорили сватам, что их дочь еще «не доросла». Этот мотив часто звучит в и причитаниях самой просватанки, где она жалуется, что у нее:
Ручки-ножечки да тонёхоньки,
Во плечах силы малёхонько
Одним из внешних признаков взрослости девушки являлись длинные волосы. Длина косы была своего рода знаком степени зрелости и соответственно — готовности к замужеству. Если вспомнить сказки, то в них всегда подчеркивается, что у героини-невесты есть «долгая коса». Восприятие косы в традиционной культуре как символа девичества обусловило одно из поэтических и материальных воплощений красоты в виде девичьей прически. Во многих местностях у русских свадебный обряд прощания невесты с девичьей красотой заключался в расплетении ее косы — разрушении девичьей прически для того, чтобы позже она носила уже женскую прическу.
Наиболее четким «природным» признаком зрелости девушки считалось наличие регул — месячных очищений. Именно появление регул, соотносимых в народной традиции со способностью зачатия ребенка, служило знаком готовности девушки к материнству. По мнению некоторых исследователей, исконное значение красоты восходит как раз к символизации менструальной крови. В этом плане показательно, что слово «красота» является однокоренным слову «краски», обозначающему в русских говорах регулы, и оба эти слова восходят к прилагательному «красный», основное значение которого соотносится с кровью. В этой связи важно и то, что право на ношение в косе яркой красной ленты вместо тонкого плетеного шнура девушка получала только с появлением регул. Не случайно во многих местных традициях девичья красота находила свое материальное и поэтическое воплощение в образе алой ленты. В свадебной поэзии алая ленточка зачастую непосредственно называется «девичьей красотой»:
У меня молодёшеньки,
Да чесна дивья-та красота
Да шоуковы алы ленточки
Да покатайтесь-ко, ленточки,
Да с плечика да на плечико.
В ярославском свадебном приговоре при выносе девичьей красоты в виде украшенного лентами деревца сообщалось:
А тебе, Марья Ивановна,
Не бывать больше в девушках,
Не носить алых ленточек
В традиционной культуре красный и белый цвета противопоставлялись друг другу как знаки девичьего и женского статусов. Ключом к пониманию этого противопоставления является связь отсутствия регул с состоянием беременности, а если учесть, что крестьянки рожали по 10–20 детей, то становится понятно, почему белый цвет соотносится с женщиной, а красный — с девушкой. Об этом соотнесении свидетельствует и то обстоятельство, что молодые женщины до рождения первого ребенка не исключали из своего наряда некоторые детали, свойственные девичьему костюму, и в том числе — ленты и банты. Их, однако, закрепляли не в волосах, как у девушек, а поверх головного убора сзади.
Важной скрытой «природной» характеристикой девушки, которая связывалась с понятием девичьей красоты, считалась девственность, понимаемая, в частности, как целостность. Признак целостности содержался в таких именованиях целомудренной девушки, как «целка», «непочатая»; в названиях же девушки, утратившей девственность, подчеркивалось нарушение целостности: такую девушку называли в пермском говоре «нецельной», в оренбургском — «неуцелевшей», в олонецком — «колотым копытом», в ярославском — «порушеной». Позже физиологический признак целостности невесты в большей степени озвучивался в морально-этическом плане: синонимами «девственности» стали понятия честности, невинности. Эпитет «честная» использовался для определения и девушки, и девичьей красоты. В свадебной поэзии тема честности невесты звучит в мотиве целостности одежды ее олицетворенной красоты:
Дак моя дивья-та красота
Чесная не порочная;
У моие дивьи красоты
Подольчики не ухлюпаны,
У пояска-то шоуковово
Да кончики не оступаны,
А у шали семишоуковы
Да кисточки не закатаны;
Мое платье не ленное
Званьица не измятое
В связи с соответствием целостности девушки понятию девичьей красоты показательно, что в обрядах расставания невесты с красотой, независимо от того, в каком предмете она воплощалась, с нею совершали действия разрушительного характера. Так, красоту-косу расплетали, красоту-ленту разрезали, красоту-веник трепали, а веточками вершили дорожку в баню, а затем разбрасывали и прямо по ним шли обратно в дом, красоту-деревце разоряли или сжигали. В Оренбуржье в некоторых местах вплоть до 1960-х годов символом девичьей красоты были два специальных сладких пирога, украшенных сверху стоячими «елочками» из теста. Их так и называли «кросотой». Один из пирогов отдавали молодоженам перед брачной ночью, а второй — подругам невесты. Наутро, если молодая оказалась «честной», девушки с весельем делили кросо-ту в своем кругу и съедали. Разрушение или уничтожение атрибута невесты воспринималось как знак лишения ее девственности в ходе свадебного обряда.
Девичьей красоте, символизировавшей девственность невесты, в традиции приписывались магическая защитная и продуцирующая сила. В Воронежской губернии предметным воплощением девичьей красоты, которая называлась «покрасой», являлись пучки ржи, которые до венчания подвешивали дома к потолку. После свадьбы покрасу снимали и относили на чердак, бережно сохраняя колоски для лечения от всяких болезней. Если у кого-нибудь болела голова, рука или что-либо другое, то рожь из покрасы варили и обмывали настоем больные места. Однако покраса имела силу лишь при том условии, что невеста до свадьбы была девственницей. В противном случае она оказывалась, по народным представлениям, бесполезной, и ее выкидывали на улицу. В некоторых местных традициях девичью красоту в виде деревца бросали или сжигали в поле, подобно троицкому дереву или соломенной масленице, что свидетельствует о наделении ее в крестьянском сознании продуцирующей силой, распространяющейся на посевы.
С понятием девичьей красоты в народной традиции соотносился такой признак зрелости девушки, как наличие ума-разума. Приходя в дом невесты, сваты мотивировали свой выбор тем, что они наслышаны о положительных качествах хозяйской дочери, и одно из них то, что девушка «сама умнешенька». В приговорах, сопровождающих вынос красоты-деревца, невесте приписывалась высшая степень ума-разума: «У нас Таня — самая разумная». Этим качеством в причитаниях наделялась и сама девичья красота, прощаясь с которой невеста голосила:
Моя красная ты красота,
Моя умная-разумная,
Моя кроткая-смиренная.
Понятие ума-разума девушки в народной традиции тесно связывалось с ее различными трудовыми умениями, в частности с рукоделием, которое в значительной степени создавало славу девушке, особенно при выборе ее в невесты. В Псковской губернии сваты наряду с умом невесты отмечали ее трудовые навыки: «прядё лавошенько, беля бялешенько, моя цистешенько». В свадебном причете, сопровождавшем прощание с красотой, ее наличие соотносится с таким уровнем рукоделия невесты, которое достигает мастерства Творца:
На коленочках держит,
Полужоныя пялечки,
Во правой-то руке держит
Она иголку серебряну,
Во левой-то руке держит
Она цевоцку золота.
Она шьет да вышивает
Три узора мудреные:
Как первый узор вышила
Она краснаго солнышка
Со лучами со ясными,
С обогривами теплыми.
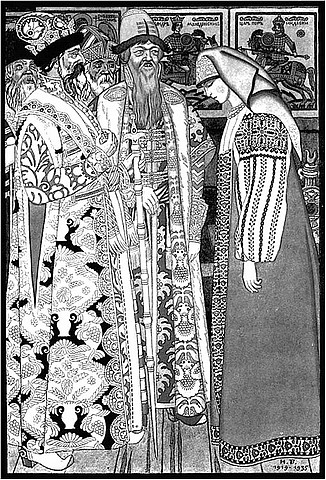
Стрельчиха перед царем и свитой. И. Билибин (1919–1935).
Как другой узор вышила
Она светлова месяца,
Со звездами со мелкими,
А третей узор вышила
Она всю подвселенную.
В традиционном укладе одним из основных видов работы девушки было прядение, которым обычно занимались в девичьем коллективе. После замужества право на посещение девичьих собраний-супрядок утрачивалось. Поэтому неудивительно, что для изготовления свадебного атрибута девичьей красоты использовали кудель. В Кадниковском уезде Вологодской губернии девушки в день рукобитья или после богомолья делали косу из кудели и вывешивали ее на украшенной лентой веревке между домом невесты и соседней избой. В день венчания или через три дня после свадьбы ее срывали. В Ярославской губернии вершину деревца-красоты украшали льняной косой. В Новгородской и Тверской губерниях девичья красота могла представлять собой небольшое количество льняного волокна, которое подружки невесты сжигали на следующий день после богомолья: они расстилали по полу до порога принесенную невестой кудель и зажигали красоту; иногда ее жгли на улице, повесив на поставленную под окно сухую ветку березы. При этом невеста оплакивала свою красоту.
Показателем взрослости девушки являлось ее обязательное участие в молодежных собраниях, которые назывались «гуляниями». В Вологодской губернии, невеста, передавая младшей сестре девичью красоту в виде ленты или платка, наказывала ей:
Ты носи мою красоту
По годовым честным праздничкам,
По гулящим-то ярмаркам,
Ты носи, сберегаючи,
Все меня поминаючи.
Если худо покажется,
То по святым воскресеньицам.
Если худо покажется,
То в компаньи веселые,
На вечеринки матерые.
В этом плане понятие девичьей красоты в свадебной поэзии соотносится с самим периодом девичества и характерными для него занятиями. В Самарской губернии, прощаясь с девичьей красотой, невеста горевала:
Милы мои подруженьки,
Отгуляла-то я по широкой улице,
Отпела-то я с вами развеселы песенки,
Отойдут-то с вами все гульбы, забавушки,
Все девичьи прохладушки!
Действительно, расставание с девичьей красотой и замужество оказывались той границей, за которой невеста лишалась возможности проводить время таким образом. Поэтому во многих местных традициях в причитаниях и приговорах, сопровождавших обряды с красотой, часто звучит тема противопоставления девичьей жизни и женской доли. Положение девушек, достигших брачного возраста, отличалось наибольшей свободой, а их жизнь считалась беззаботной и вольной. Не случайно в народных представлениях понятие воли зачастую выступало как синонимичное девичьей красоте, а сама девичья красота в свадебных причетах называлась волей «вольной».
Внешний облик взрослой девушки характеризовался особой прической — косой, убранной лентами и косниками, ношением девичьего головного убора в виде венка или венца, оставляющего открытой макушку головы, особенностями костюма и обилием украшений — лент, гайтанов, колец, а также использованием косметических средств — белил, румян и других. Любой из перечисленных элементов, отличающих внешность девушки, в той или иной местной традиции мог выполнять в свадебной обрядности роль девичьей красоты. Так, в севернорусской свадьбе невеста в качестве девичьей красоты могла передавать сестре, подруге или отдавать матери ленту, кольцо, гайтан, головной убор, весь девичий наряд — «скруту». Во многих местностях головной убор девушки-невесты так и называли «красотой», «девичьей красотой». В Вологодской губернии одним из материальных и поэтических воплощений девичьей красоты были белила-румяна. Невеста здесь причитала:
Каково я нарядилася,
Бело ли набелилася,
Румяно ли намазалася,
Хорошо ли наложила
Свою девью-то красоту.
В свадебных причитаниях утрата невестой ее девичьей красоты иногда изображается с помощью образа белил-румян:
Я недолго стояла,
Сколь много простояла.
Простояла я, девица,
Со лица-то румянчики,
С белых ручек белилчики,
Потеряла я, девица,
Свою честну девью красоту.
В народных представлениях понятие девичьей красоты соотносится также с эстетической категорией красоты: прежде всего — через название «красота», «краса». В свадебных причитаниях девичья красота олицетворялась и наделялась признаком красоты:
Моя дивья-та красота <…>
Да из себя-то хорошая,
Волосами-то сивая
Да на лицо-то красивая.
В свадебной поэзии девичья красота в образе головного убора или ленты представляется состоящей из самых дорогих и красивых материалов: шелк, хаз — тесьма из серебряной или золот-ной нити, бархат, золото, жемчуг, что, собственно, нередко соответствовало действительности.
Таким образом, очевидно, что понятие девичьей красоты в народных представлениях является сложным и неоднозначным. С одной стороны, оно включает в себя отличительные характеристики девушки, готовой к замужеству. С другой стороны, непосредственно в ритуальной практике девичья красота находит материальное воплощение в разнообразных предметах, выступающих как обрядовые атрибуты. Они символизируют и саму невесту, и возрастной статус взрослой девушки, и девичий период жизни. С третьей стороны, в свадебной поэзии образ девичьей красоты выступает и как конкретный предмет, и как некое свойство, утрачиваемое невестой.
В фольклорных текстах образ девичьей красоты нередко олицетворяется, приобретая черты живого существа, чаще всего птицы или девушки. Феномен олицетворения, свойственный мифо-поэтическому сознанию, явился основой для трактовки учеными древнего значения девичьей красоты как одушевленной субстанции девичьего «я», души девушки, которую она утрачивает, выходя замуж. Иногда поэтический образ красоты-воли персонифицируется: в Вологодской губернии «волей» оказывалась подруга невесты, к которой она обращалась в обряде прощания с красотой, называя «волей».
В каждом конкретном свадебном обряде понятие девичьей красоты связывалось прежде всего с индивидуальными качествами девушки-невесты, а также с кругом ее подруг. Именно подруги невесты были участницами всех обрядов с красотой: они мастерили красоту-деревце, расплетали косу невесты, «продавали» девичью красоту жениховой стороне. Кусочки или детали красоты, в основном ленты, доставались девушкам «на память» от невесты. Пирог-кросоту отдавали для угощения девушкам. В некоторых местных традициях красоту-деревце не уничтожали, а сохраняли до следующей свадьбы, а красота в виде головного убора могла выдаваться на свадьбу каждой из невест одной или нескольких деревень. В свадебных приговорах при выносе красоты-деревца перед жениховой стороной оно выступает как метафора девичьего сообщества с оставившей его невестой:
Уж ты елка, наша сосенка,
Да зеленая, да кудрявая,
Да на тебе ли, елка-сосенка,
Да много сучьев, много отраслей,
Да одного сучочка нетутко,
Да что сучка, самой вершиночки,
Да у нас подружки нетутко,
Да что подружки нашей Манечки.
Иногда же образ девичьей красоты соотносился с родом невесты и даже шире — с деревенской общиной, в прошлом — со всем «родом-племенем». Так, например, часто символ девичьей красоты — ленту, головной убор, украшение, весь наряд — невеста передавала своей младшей сестре. А красоту-деревце, как уже упоминалось, могли хранить до следующей деревенской свадьбы и передавали в дом другой невесты. В Ярославской губернии красоту-деревце тайно подбрасывали на крышу дома парню, который собирался жениться.
Факты подобного рода, а также соотнесение девичьей красоты в виде деревца с архаическими представлениями о священном родовом дереве, связанном с образом женского божества плодородия всего родового коллектива, легли в основу взгляда на древнее значение девичьей красоты не только как «девичьей», но и как «родовой души невесты».
Так или иначе, девичья красота являлась основным признаком, связывающим девушку-невесту с ее прежним статусом. Этот факт обусловил роль обряда прощания с девичьей красотой как центрального момента свадебного ритуала.
Лихорадка
Лихорадка считалась одной из самых тяжелых болезней. Неслучайно ее название связано со словом «лихо» — «зло». В народе ее называли также «лиходейкой», «лихоманкой». Ее образ в народном сознании олицетворялся и обычно представлялся в виде не одного, а множества демонических духов — чаще всего семи, девяти, двенадцати, сорока, семидесяти семи. Появляясь, эти духи вызывали те или иные симптомы заболевания.
В русской культурной традиции образы лихорадок персонифицировались в женском облике. Лихорадок могли представлять в образе девушек или женщин в белом одеянии, с непокрытой головой, распущенными волосами и без пояса, что считалось недопустимым в традиционном обществе; либо в образе безобразных косматых сгорбленных старух с клюкой, что сближало их с обликом мифологических существ низшей демонологии и колдуний. По поверьям, лихорадка стучит своей клюкой в дома, и если кто откроет такой старухе, тот обязательно заболеет.
Лихорадки, в зависимости от того, с каким симптомом болезни они соотносятся, поражают разные части тела человека и вызывают разные болевые ощущения. В старых заговорах встречаются перечисления имен лихорадок вместе с определением того, что делает каждая из них:
«Мне есть имя Трясся. Не может тот человек согреться в печи» Вторая рече: «Мне есть имя Огнея. Как разгорятся дрова смоленыя в печи, так ражигает во всяком человеке сердце» <…> Третья рече: «Мне есть имя Ледея. Знобит род человеческий, что тот человек и в печи не может согретися» <…> Четвертая рече: «Мне есть имя Гнетея. Ложится у человека по у ребре, аки камень, здыхает, здохнуть не дает, с души сметывает» <…> Пятая рече: «Мне есть имя Хрипуша. Стоя кашлять не дает, у сердца стоит, душу занимает, исходит из человека с хрипом» <…> Шестая рече: «Мне есть имя Глухая. Та ложится у человека в головы и уши закладывает, тот человек бывает глух» <…> Седьмая рече: «Мне есть имя Ломея. Ломит у человека кости и главу, и спину, аки сильная буря сырое дерево» <…> Восьмая рече: «Мне имя Унея. Аки выловиц плетима испущает тець и кровь» <…> Девятая рече: «Мне имя Желтея. Испущает на человека желчь, в поле желток и отдохнуть не дает» <…> Десятая рече: «Мне имя Корку-ша» <…> Одиннадцатая рече: «Мне есть имя Гледея. Та буди всех проклятие: в нощи спать не дают: на месте не сидит» <…> Двенадцатая рече: «Мне есть имя Невея. Сестра старейшая трясовича и угодница Ирода царя, наболящим человеком страшна; та усекнула главу Иоанна Предтечи и принесла пред царя на блюде».
В Костромской губернии считали, что старшая из сестер-лихорадок Невея — самая злая, именно она посылает к людям остальных сестер. В русских заговорах лихорадки противопоставляются христианскому миру: «Посланы мы от Ирода царя в мир православный тела их трясти и кости их мождати»; «оне по миру ходят, отбывают ото сна, от еды, сосут кровь, пилами пилят жел-тыя кости и суставы» Тяжесть лихорадки отразилась в поговорке: «Лихорадка — не матка: треплет, не жалеет».
В мифопоэтических текстах лихорадки соотносятся с нечистой силой. В заговоре св. Сисиний так их и называет — «дьяволами», а на его вопрос о том, зачем лихорадки пришли мучить род человеческий, они отвечают: «А кто много и беспрестанно спит и ест, не молится, и кто без молитвы Иисусовы спать ложится, и кто молитвы Иисусовы не творит, вставая, не перекрестится, и кто в праздники Господни блуд творит и нечист ходит, и пьет и ест рано, и тот наш угодник».
В мир человеческий лихорадки приходят из «иного» мира. Изначально они находятся под землей, где прикованы цепями. В заговорах они появляются из лесной чащобы, болота, из моря-Окияна, морской пучины, иногда они сидят на Латыре-камне. Вот как описывается их появление: «Бысть в Черном море возмущение: изыдоша из моря тринадцать жен, и идут по воде, простово-лосыя»
В крестьянском сознании появление лихорадок могло связываться не только с мифологическими пространственными образами, но и с конкретными реками и водоемами. Так, во многих местностях у русских лихорадки считались особенно опасными в конце зимы и весной и что легче всего заболеть лихорадкой на воде. Поэтому во избежание опасности весной старались как можно реже переправляться через реки.
В Тульской губернии верили в то, что лихорадки появляются из-под земли в определенное — опасное — время: в полдень или на закате солнца, что также сближает их образ с мифологическими персонажами низшей демонологии и нечистой силой вообще.
В крестьянском календаре в связи с представлениями о лихорадке были значимы некоторые даты. Так, 15 января — в Сильвестров день — у русских существовал обычай «заговаривать лихоманку», то есть с помощью заговоров выгонять лихорадку. Об этом дне известна поговорка: «Сильвестров день гонит лихоманок-сестер за семьдесят семь верст». Со дня Тарасия-Кумошника (25 февраля / 10 марта), который своим народным прозвищем обязан одному из именований лихорадки — «кума», крестьяне опасались ложиться отдыхать днем: иначе, верили, нападет «кумоха».

Трясовицы.
В русских поверьях и заговорах лихорадок считали дочерями, реже — сестрами царя Ирода, с именем которого связано евангельское событие усекновения головы Иоанна Крестителя. Правитель Галилеи Ирод Антипа был обличен Иоанном Крестителем за то, что отнял у своего брата жену Иродиаду и женился на ней при жизни прежнего мужа, нарушив тем самым древние иудейские обычаи. Согласно Евангелию, падчерица Ирода (Саломея) настолько угодила ему своей пляской на празднике по случаю его дня рождения, что отчим обещал исполнить любое ее желание. По наущению своей матери Иродиады Саломея попросила голову Иоанна Крестителя. После казни Иоанна Предтечи его голову преподнесли ей на блюде. Имя преступного правителя и мотив пляски его падчерицы на русской почве соединились с образом опаснейшей болезни: лихорадок называли не только Иродовыми дочерьми, но и трясовицами. Основной симптом лихорадки соотносился в народном сознании с пляской. Согласно сложившимся позже народным легендам, дочери царя Ирода за смерть Иоанна Крестителя подверглись Божьему проклятию и были обращены им в орудие наказания людей болезнями.
Защитные меры против лихорадки обусловливались разнообразными представлениями об этой болезни. По народным представлениям не заболеет лихорадкой тот, кто соблюдает православные обычаи, например постится в пятницы, предшествующие Троице и Успению Богородицы. Считали также, что тря-совиц отгоняет крест. В качестве оберега от болезни носили на веревочке нательного креста написанную на бумаге молитву.
Нередко в целях защиты лихорадку называли словами, обозначающими родство или добрые отношения: «тетка», «матка», «сестрица», «кума» или «кумоха», «гостья», «гостейка», «подруга». Это делали для того, чтобы задобрить болезнь и чтобы она не напускалась на «родственников» и «знакомцев».
Существовали и предметные обереги от лихорадок. В Саратовской губернии хорошим предохранительным средством считали ношение змеиной шкурки или пояса, через который трижды переползала змея. К архаичной магической практике восходит изготовление кукол, оберегающих человека от болезни. Так, в Российском Этнографическом Музее в Санкт-Петербурге хранится коллекция кукол-лихорадок, привезенных в 1930-е годы из Воронежской области. Это двенадцать антропоморфных изображений длиной около 10 см, скрученных из пестрых лоскутков; лица кукол нарисованы карандашом. Этих кукол вешали в хате возле печки, и они, согласно местным поверьям, должны были служить магическим средством, отгоняющим лихорадок от хозяев дома.
Способы лечения от лихорадки были разнообразными. На юго-западе России верили, что избавиться от нее можно следующим образом: страстной свечой выжечь на потолке крест, соскрести сажу, насыпать ее в освященную воду и выпить. Повсеместно считали, что от лихорадки помогают почки освященной вербы: их заваривали и отвар давали больному. По поверьям от лихорадки помогало ношение сушеной лягушки в ладанке или привешивание живой лягушки в мешочке на груди. В Тверской губернии от лихорадки на шею вешали сушеную летучую мышь, клали под подушку паука, окуривали больного табаком. На Кубани, чтобы излечить ребенка от лихорадки, мать ходила на кладбище и брала с семидесяти семи могил по щепотке земли в узелок, который затем вешала на шею больному.
В Сургутском крае наиболее действенным считалось посещение черной бани: больной должен был лечь на каменку, молчать и не двигаться. По поверьям, должна придти лихорадка в виде человека без лица и начать «стращать» больного. Если выдержать это испытание, должно наступить выздоровление. Если же больной шевельнется, лихорадка лишь оплюет его и убежит.
А вот как рассказывали об изгнании лихорадки в Олонецкой губернии:
В деревне Югозере заболел один мужик лихорадкой и отправился к колдуну подлечиться; колдун положил его спать в амбар и под соломенную настилку, на которой должен был почивать больной, положил змею, спрятанную в голенище. Хотел больной заснуть, но не может; является к нему белая женщина и говорит: «Уйди, зачем ты сюда пришел? Если не уйдешь, я убью тебя!» Испуганный мужик побежал к колдуну. Колдун объяснил ему, что лихорадка стращает и гонит его для того, чтобы в нем остаться; затем привел мужика на прежнее место и велел лежать; причем нарочно громко, для того чтобы лихорадка слышала, сказал, что он вспорет мужика розгами, если он осмелится встать. Испуганная предстоящею поркою, лихорадка удалилась. В некоторых местностях были разработаны целые обряды кормления лихорадок, чтобы умилостивить их, а они бы отступились от человека. В Тверской губернии пекли двенадцать пирожков или пряников, завязывали их в салфетку и клали на землю на перекрестке дорог или в лесу, приговаривая: «Вот вам, двенадцать сестер, хлеб, соль, полноте меня мучить, отстаньте от меня». Затем кланялись на четыре стороны и уходили, чтобы никто не видел. В Воронежской губернии отправлялись к реке с горстью пшена, встав к воде спиной, говорили: «Лихорадки, вас семьдесят семь, нате вам всем», после чего бросали пшено через голову.
Обряды другого типа были построены на перенесении болезни с человека на какой-либо предмет и «отправлении» этого предмета за пределы «человеческого» пространства. В Саратовской губернии больного вытирали тряпочкой, которую затем несли к лесу и зажимали ее в щели на коре молодого дуба. В Тульской губернии знахарь над липовой корой трижды говорил: «От (имярек) раба Божия отстань, лихорадка, и плыви вдоль по реке». Кору клали под матицу на три дня, после чего сам больной спускал ее по реке, трижды повторяя тот же заговор.
Не только в обрядах, но и в текстах самих заговоров лихорадки отсылаются в пространство, соотносимое в мифологическом сознании с «потусторонним» миром. Среди святых, изгоняющих лихорадок, в заговорах чаще всего упоминаются Сисиний, Сисой, Зиновий, Филипп, Пафнутий, евангелисты. Они лихорадок «ввергают в огненное море», «за тридевять земель, в тридесятое пустое царство». В одном из заговоров лихорадок посылают подальше от мира людей, завлекая прекрасными посулами: «Здесь вам не житье, жилище, не прохладище; ступайте вы в болота, в глубокия озера, за быстрыя реки и темныя боры: там для вас кровати поставлены тесовыя, перины пуховыя, подушки пе-реныя; там яства сахарныя, напитки медовые; там будет вам житье, жилище, прохладище»
По мнению исследователей, образы лихорадок-трясовиц, входящих в довольно большой ряд персонифицированных болезней, восходят к книжному источнику. Представления о двенадцати демонах — олицетворениях болезней — очень древние и известны многим народам. Один из источников славянских заговоров видят в греческой легенде о Сисинии, который, защищая детей своей сестры Милетины, вступил в борьбу со злым демоном Гило, губившим младенцев. Средством борьбы с этим духом, согласно легенде, оказывается перечисление его двенадцати с половиной имен. Многие имена лихорадок, сохранившиеся в русских заговорах, — ахоха, лекта, хампоя и другие — восходят к греческим словам. Многие же со временем были заменены народными словами с ясным для простого человека значением — хрипуша, дряхлея, пухлея, зябуха, дремлея, ветрея и подобные. В русских заговорах Сисиний выступает как главный противоборец лихорадок.
В Древней Руси молитвы и заговоры от лихорадок помещались в канонические церковные книги. Позже подобные тексты отвергались церковью и переходили в разряд апокрифических, что обусловило их перемещение из письменных источников в сферу устного бытования, сблизив с фольклорными произведениями. Заговоры, в которых присутствуют образы сестер-трясо-виц, сохранились в многочисленных записях начиная с XVIII века и по сию пору.
Коровья смерть
В мифологическом сознании смерть, связанная с повальными болезнями и мором домашнего рогатого скота, нередко персонифицировалась. В народе ее чаще всего называли Коровьей смертью, Скотьей смертью, а в некоторых местностях — Черной немочью.
Крестьяне Вологодской, Костромской, Вятской губерний верили, что в феврале Коровья смерть пробегает по селам в виде чахлой и заморенной старухи, завернутой в белый саван. На Нижегородчине полагали, что она выглядит как старая отвратительная женщина, руки которой подобны граблям. В южнорусских берниях — Орловской и Курской — Коровью смерть представляли в облике коровы, кошки или собаки черной масти, реже — в виде коровьего скелета. Последний образ, явно более позднего происхождения, возник, вероятно, под влиянием представлений о человечьей смерти в виде скелета.
Согласно поверьям, Коровья смерть могла оборачиваться в различных животных. Вот как это описывается в одном мифологическом рассказе:
Ехал мужик с мельницы позднею порою. Плетется старуха и просит: «Подвези меня, дедушка!» — «А кто же ты, бабушка?» — «А вот лечила в соседней деревне да там все переколели. Что делать? Поздно привезли, и я захватить не успела». Мужик посадил ее на воз и поехал. Приехавши к росстаням, он забыл свою дорогу, а уже было темно. Он снял шапку, сотворил молитву и перекрестился, глядь, а бабы как не бывало. Обворотившись черною собакою, она побежала в село, и назавтра в крайнем дворе пало три коровы. Мужик привез коровью смерть.
В народе полагали, что особенно опасна Коровья смерть в конце февраля, когда и корма для домашних животных становилось мало, и, кроме того, в это время начинался отел коров. Не случайно покровительницей домашнего скота и пособницей в уходе за ним считалась св. мученица Агафья, день памяти которой отмечается православной церковью 5/18 февраля. Крестьяне верили, что Агафья оберегает коров от болезней, за что в народной традиции она и получила прозвище Коровница, или K°-ровятница. Согласно некоторым поверьям, Коровья смерть пробегает по селам именно в день Агафьи Коровницы. Поэтому при сильном падеже скота, исчерпав все рациональные способы лечения животных, или для его предотвращения в день св. Агафьи прибегали к магическому обряду опахивания. Во многих местах в России вплоть до начала ХХ века этот обряд совершали и во Власьев день, приходившийся на 11/24 февраля.
Ритуал опахивания происходил следующим образом: ночью за околицей тайно собирались все девушки и женщины селенья, одетые только в рубахи, с распущенными волосами; все брали в руки кто дубину, кто косу; на одну из вдов надевали хомут без шлеи и запрягали ее в соху, а затем шли вокруг деревни. Землю взрывали сохой так, чтобы пласты отваливались в противоположную от селенья сторону. С собой брали также петуха, кошку и собаку. Во время шествия женщины выкрикивали: «Смерть, смерть коровья — не губи нашу скотину; мы зароем тебя с кошкой, собакой и кочетом в землю!» После обхода животных погребали за пределами деревни, веря, что теперь Коровья смерть не войдет на территорию, очерченную магическим кругом с помощью сохи.
В некоторых местах обязательным условием было участие в обряде девяти девушек и трех вдов. Иногда в соху впрягали не вдову, а беременную женщину, остальные помогали ей волочить соху. Верили, что при опахивании поднимается и выходит сила земли, которая и устрашает Коровью смерть. Поэтому в некоторых местных традициях этот обряд ежегодно проводили в ночь на Ивана Купалу, когда, согласно поверьям, сила земли достигает своего апогея, или в канун Духова дня, традиционно считавшегося именинами земли.
В образовавшуюся при опахивании борозду вдовы нередко «сеяли» песок и приговаривали при этом: «Когда наш песок взойдет, тогда к нам смерть придет». В Орловской губернии этот обряд назывался «гонять смерть». Здесь участницы процессии шли за сохой с палками и кольями, гремели печными заслонками и сковородами, чугунами и косами. Под звон и скрежет металла женщины угрожали Скотьей смерти, крича: «Смерть, выйди вон, выйди с нашего села, изо всякого двора! Мы идем, девять девок, три вдовы. Мы огнем тебя сожжем, кочергой загребем, помелом заметем, чтобы ты, смерть, не ходила, людей не морила. Устрашись — посмотри: где ж это видано, что девушки косят, а вдовушки пашут?» Если на пути женщинам встречалось какое-нибудь животное, то его, принимая за Скотью смерть, ловили и разрывали на части. Обряд опахива-ния считался в народе самым надежным способом предотвратить или прекратить падеж скота.
В Нижегородской губернии при эпизоотии, чтобы отвратить Коровью смерть, крестьяне загоняли весь скот на один двор, запирали ворота, а на следующий день утром разбирали животных по домам. Если оставалась лишняя корова, полагали, что это и есть Коровья смерть; ее ловили и сжигали.
Оберегом от Коровьей смерти крестьяне считали старые лапти, пропитанные дегтем. Чтобы уберечь коров от падежа, лапти вешали в хлевах; полагая, что это отпугнет Коровью смерть.
Правда и Кривда
В русских сказках Правда и Кривда — воплощения двух жизненных принципов, противоположных друг другу. Эти образы соотносятся с понятием о судьбе, которая, согласно народным представлениям, отчасти может корректироваться самим человеком. Образ Правды отражает идеальное соответствие нормам поведения, выработанным в традиционном обществе, в том числе и церковными установлениями. Поэтому в традиционном сознании в противостоянии Правды и Кривды, при внешнем первенстве Кривды, последнее слово однозначно остается за Правдой. Вот одна из сказок о Правде и Кривде:
Однажды спорила Кривда с Правдою: чем лучше жить — кривдой али правдой? Кривда говорила: лучше жить кривдою; а Правда утверждала: лучше жить правдою. Спорили, спорили, никто не переспорит. Говорит Кривда: «Пойдем к писарю, он нас рассудит!» — «Пойдем», — отвечает Правда.
Вот пришли к писарю. «Реши наш спор, — говорит Кривда, — чем лучше жить — кривдою али правдою?» Писарь спросил: «О чем вы бьетеся?» — «О ста рублях». — «Ну ты, Правда, проспорила; в наше время лучше жить кривдою».
Правда вынула из кармана сто рублей и отдала Кривде, а сама все стоит на своем, что лучше жить правдою. «Пойдем к судье, как он решит? — говорит Кривда. — Коли по-твоему — я тебе плачу тысячу рублей, а коли по-моему — ты мне должна оба глаза отдать». — «Хорошо, пойдем». Пришли они к судье, стали спрашивать: чем лучше жить? Судья сказал то же самое: «В наше время лучше жить кривдою». — «Подавай-ка свои глаза!» — говорит Кривда Правде; выколола у ней глаза и ушла куда знала.
Осталась Правда безглазая, пала лицом наземь и поползла ощупью. Доползла до болота и легла в траве. В самую полночь собралась туда неверная сила. Набольшой стал всех спрашивать: кто и что сделал? Кто говорит: я душу загубил; кто говорит: я того-то на грех смустил; а Кривда в свой черед похваляется: «Я у Правды сто рублей выспорила да глаза выколола!» —

Правда и Кривда (?) в облике борцов. Рельеф Дмитриевского собора во Владимире.
«Что глаза! — говорит набольшой. — Стоит потереть тутошней травкою — глаза опять будут!» Правда лежит да слушает.
Вдруг крикнули петухи, и неверная сила разом пропала. Правда нарвала травки и давай тереть глаза; потерла один, потерла другой — и стала видеть по-прежнему; захватила с собой этой травки и пошла в путь-дорогу. В это время у одного царя ослепла дочь, и сделал он клич: кто вылечит царевну, за того отдаст ее замуж. Правда приложила ей к очам травку, потерла и вылечила; царь обрадовался, женил Правду на своей дочери и взял к себе в дом Сюжет о споре Правды и Кривды широко распространен у многих народов земного шара; в Древнем Египте он был известен еще в XII веке до нашей эры. В русском фольклоре он имеет ярко выраженную социальную и религиозную окраску: персонажи сказки обращаются для разрешения спора к писарю, судье, попу — людям, наделенным определенным знанием и занимающим в социальной иерархии традиционного общества более высокое положение, чем, например, крестьянин.
Эта окраска подчеркивается введением в сказку историко-политических элементов. Так, в одном из вариантов сказки на вопрос двух мужичков, правдивого и криводушного, чем лучше жить, поп отвечает следующим образом: «Вот нашли о чем спрашивать. Знамо дело, что кривдой. Какая нонче правда? За правду, слышь, в Сибирь угодишь, скажут — кляузник. Вот хоть к примеру, — говорит, — сказать вам не солгать: в приходе-то у меня разве десятая доля на духу-то бывает, а знамо дело, мы всех записываем. Зато и нам повольготнее; ин раз ладно и молебен за-место обедни».
Упоминающиеся в сказках формулировки типа «Какая нонче правда?» или «В наше время лучше жить кривдой», оправдывающие неправедную жизнь, указывают на свойственное мифологическому сознанию различение «прежних времен», когда все было так, как положено, и «настоящего времени». Разделение идеального и неправедного существований как принадлежащих разными мирам отразилось также в русских поговорках: «Правда у Бога, а кривда на земле», «Правдою жить, от людей отбыть, а неправдою жить, Бога прогневить». Но вместе с этим в поговорках чаще манифестируется жизненная установка на правду, обеспечивающая благо, иногда — вечное: «Праведна мужа не одолеет нужа», «Где правда, там и счастье», «На суде Божьем право пойдет направо, а криво налево», «Кривью жить, не у Бога быть», «Кривдою свет пройдешь, да назад не воротишься», «Правда избавляет от смерти».
В народном мировосприятии понятия правды и кривды противопоставлялись друг другу как божественное и нечистое. О правде в народе говорили: «Правда та свята, на небо взята», «Правда гневна, да Бо мила». Образ же Кривды в сказке соотносится с нечистой силой и даже выступает как одно из ее воплощений: Кривда наравне с «неверной силой» отчитывается перед «набольшим».
В одном из вариантов сказки Правда и Кривда воплощаются в образе двух купцов с соответствующими именами. Проигравший спор Правда отдает Кривде все свое состояние и отправляется в темный лес и попадает в избушку, где становится свидетелем разговора нечистой силы о ее делах, направленных на нарушение устоев человеческого бытия:
Ночью поднялся страшный шум, и вот кто-то говорит: «А ну-тка, похвалитесь: кто из вас нынче гуще кашу заварил?» — «Я поссорил Кривду с Правдою!» — «Я сделал, что двоюродный брат женится на сестре!» — «Я разорил мельницу <…>» — «Я сомустил человека убить!» — «А я напустил семьдесят чертенят на одну царскую дочь; они сосут ей груди всякую ночь. А вылечит ее тот, кто сорвет жар-цвет!» (Это такой цвет, который всегда цветет — море колыхается и ночь бывает яснее дня; черти его боятся!) Правда, и в нужде не отступившийся от правды все в человеческом мире ставит на свои места, все возвращает к нормальному порядку: «Как ушли они, Правда вышел и помешал жениться двоюродному брату на сестре, запрудил мельницу, не дал убить человека, достал жар-цвет и вылечил царевну» В результате он вознаграждается значительно большим, что у него было. Завистливый Кривда решается отправиться в ту же избушку в лесу, но злые духи разрывают его на мелкие части. Нередко в сказках на этот сюжет делается назидательный вывод, определяющий традиционное отношение к основам жизни: «Так и выходит, что правдою-то жить лучше, чем кривдою».
Несмотря на довольно позднее оформление сюжета о споре Правды и Кривды в русском фольклоре, в сказках и представлениях об этих персонажах прослеживаются архаичные черты. Так, например, устойчивым в сюжете об их споре является неясный на первый взгляд мотив отдавания своих глаз Правдой и забирание их Кривдой. В ранних представлениях человека, нашедших отражение в мифологии и фольклоре, из всех органов чувств именно зрение было особо значимо. Это связано с тем, что для носителя мифологического сознания любой образ строился зрительно, потому что шел прежде всего от зрительных впечатлений. Поэтому наличие зрения осознавалось как жизненно важное; в мифопоэтических текстах и представлениях зрение превратилось в знак жизни, отсутствие же его воспринималось как признак нежизнеспособности и смерти; слепота персонажа оказывалась знаком его принадлежности к «иному» миру.
Соотнесенность смерти и слепоты выявляется на уровне языковых фактов. Так, например, в русском языке «жмуриками» (закрывшими глаза) называли покойников. Согласно традиционным представлениям, мертвый не может и не должен видеть живых; поэтому первое, что делали с покойным, это закрывали ему глаза. В фольклорных текстах слепота или ее вариант — од-ноглазость обычно являются особенностью «древних» существ, имеющих хтоническую природу и, соответственно причастных к пространству «иного» мира. Таков, например, образ Лиха одноглазого в русских сказках. Если учесть, что в народных говорах слово «кривой» означает «слепой на один глаз», «одноглазый», то становится понятно, почему Кривда так «интересуется» глазами Правды. Она пытается восполнить свой изъян и обеспечить себя зрением и, следовательно, жизненной силой. Но в финале сказки каждый персонаж получает то, что ему положено: Правда прозревает, а Кривда, разорванная на кусочки нечистыми духами, исчезает с белого света. В связи с мотивом борьбы Правды и Кривды за глаза показательно также традиционное представление о воздействии правды, отраженное в поговорке: «Правда глаза колет».
В пословице противопоставление Правды и Кривды иногда реализуется через символику социальной принадлежности обуви: «Правда ходит в лаптях, а неправда в кривых сапогах». Ущербность кривды здесь обозначается через тот же признак кривоты, который в данном случае обозначает хромоту: слово «кривой» в народном языке имеет не только значение «одноглазый», но и «хромой». Этот недостаток Кривды также соотносит ее с существами «иного» мира: общеизвестно, что хромота является признаком нечистой силы.
Женская символика Кривды и причастность ее к древним временам отражена в пословице: «Из кривого ребра Адама Бог жену создал, оттого и кривда пошла».
Смерть
В мифологическом сознании смерть может олицетворяться в различных образах. Для традиционной культуры восточных славян характерно воплощение смерти в персонажах, наделенных женскими признаками. Чаще всего со смертью связывается образ старухи с костлявыми руками и ногами, с большими зубами. В некоторых сказках, правда, старуха-Смерть рисуется, напротив, беззубой. В загадках смерть нередко загадывается через образ красивой девушки: «Красная девица, и всяк ее боится: и царь, и царица».
В народных представлениях известен и образ смерти в виде скелета с косой. В повести об Анике-воине, широко распространенной в рукописях XVII–XVIII веков, Смерть изображается как «тощая, сухая, кости голые! и несет в руках серп, косу, грабли и заступ». Старость и костлявость Смерти соотносятся с представлениями об останках мертвого человека. Сравнение в народной традиции Смерти с покойником довершается изображением ее одежды. Как правило, старуху-Смерть представляли в саване или белом одеянии, которые являлись обычной погребальной одеждой. В мифологических рассказах нередко встречается также образ «женщины в белом», олицетворяющий собою смерть:
Один человек идет и слышит, что позади него снег скрипит. Он оглянулся и видит: идет женщина в белом. Головой покрутила и пошла. А он вскоре умер. Вот еще один рассказ подобного типа, записанный в сравнительно недавнем прошлом на Русском Севере:
Тут у нас старушка была <…> она умерла несколько лет назад. Незадолго до ее смерти я пошла в магазин, а она вышла из дома и говорит: «Тебе никто навстречу не попадался?» Я говорю: «Нет, никто не попал». Она говорит: «Да что ты, я в избе была, шла женщина белая, женщина в белом платье и ко мне во двор, а в избу не заходит. Я ждала-ждала. Пойду, посмотрю, кто это». Я говорю: «Мне никто не попадал». А она: «Ой, так это смерть за мной пришла». Так через день она и умерла. Она болела перед этим. А говорят, тому, кто болеет, Смерть перед кончиной показывается. В доме, где живешь, — в коридоре или во дворе
Помимо одежды, связанной с потусторонним миром, показательны и другие атрибуты Смерти. Это заступ — лопата, которой выкапывают могилу, а также коса или серп — инструменты для срезания травы или зерновых культур. Приписывание Смерти орудий для уборки растений неслучайно, это связано с представлениями о ее мощи: если она «работает», то одним взмахом «скашивает» не одну жизнь. Однако в своем деле смерть может обойтись и без инструментария, о чем свидетельствует загадка о ней: «Зарежет без ножа, убьет без топора».
В мифопоэтических текстах Смерть может олицетворяться не только в облике человека, но и в виде птицы или животного. В русских народных загадках очень часто она изображается птицей:
Сидит птичка
На поличке.
Она хвалится,
Выхваляется,
Что никто от нее не отвиляется —
Ни царь ни царица,
Ни красная девица.
Иногда это не просто птичка, а птица-хищник, признаваемая в народных представлениях царем птиц: «Летит орел через немецки города, берет орел ягоды зрелы и незрелы». Или в другой загадке:
Висит котел,
Над котлом орел,
Под котлом цветы.
Орел цветы срывает,
В котел полагает,
В котле не прибывает,
И цветов не убывает.
Соотнесение образа птицы со смертью понятно: в мифологической картине мира птица осмыслялась как посредник между разными мирами, в частности между миром живых и миром мертвых. Это древнее представление обусловило традиционное восприятие птицы и как предвестника смерти: по народным поверьям, если птица залетит в дом или ударится в окно, то это предвещает смерть кого-либо из домочадцев.
Согласно мифологическим рассказам, Смерть может показываться и в облике домашних животных — коровы, собаки. Вместе с тем в жанре загадки используется и образ Смерти-невидимки, которая тем не менее исправно делает свое дело: «Печь день и ночь печет, а невидимка дошлую ковригу выхватывает».
Местопребывание смерти в народных представлениях связывается с потусторонним миром. Так, в сказке Смерть появляется из-под земли:
Мужик косил сено. Вдруг коса обо что-то зацепилась и зазвенела. «Нашла коса на камень!» — сказал мужик. — «Да, похоже на то!» — проговорила кочка. Мужик смотрит: кочка подымается, закурилась — и стала из нее Смерть
В традиционном сознании Смерть соотносилась с темнотой — признаком потустороннего мира — и соответственно с ночью как темным временем суток. Эти представления нашли отражение в загадках, имеющих по две разгадки, одна из которых — смерть, а другая — ночь: «Черная корова весь мир поборола» — или ночная птица сова: «Днем спит, ночью летает и прохожих пугает».
Образ смерти в народных представлениях зачастую сочетает в себе, с одной стороны, внешнюю немощь, а с другой — невероятную силу. В повести об Анике-воине Смерть говорит герою: «Сколько ни было на белом свете храбрых могучих богатырей — я всех одолела». Более того, в приведенной выше загадке смерть «весь мир поборола». Другая загадка: «Что ниже Бога, а выше царя?» — рисует ее не только всесильной, но и всевластной, выше смерти оказывается только Бог. Народная поговорка гласит: «Смерти воля дана».
Помимо того что смерть на земле имеет власть абсолютно над всеми, в народном сознании она воспринимается как бесстрастная, лишенная человеческих слабостей и потому неподкупная. Вот как об этом говорится в загадке: «Стоит столб, этого столба никому не перейти, не переехать, хлебом не отманить, деньгами не закупить». То же качество приписывается Смерти в сказках. Так, появившуюся из-под кочки Смерть мужик хотел было от страха ударить косой, но она попросила пощады, а в награду обучила его лечить людей. Смерть объяснила ему, как узнать, смертельно болен человек или нет: если мужик увидит Смерть в ногах больного, то его можно вылечить, а если она стоит у изголовья, то больной уже принадлежит ей. Благодаря полученному знанию мужик разбогател, а когда пришел его черед умирать, решил перехитрить Смерть: как только она появлялась у него в головах, он и переворачивался на кровати и поперек нее ложился. Но ему так и не удалось «отвертеться» от Смерти. Неслучайно были сложены народные поговорки: «От смерти не посторонишься», «Смерть да жена — Богом суждена».
Рано или поздно забирая всех в свое царство, Смерть сама оказывается бессмертной. Вот как об этом говорится в загадке: «Сидит птица на кусту, молится самому Христу: «Дал Ты мне власть над людьми и зверями, над птицами и рыбами, только не дал Ты мне власти над самой собой»».
Народные поверья представляют Смерть вечно голодной, пожирающей все живое. Ее ненасытность отражена в загадке:
Сидит сова на корыте,
Не можно ее накормити,
Ни попам, ни дьякам,
Ни пиром, ни миром,
Ни добрыми людьми,
Ни старостами.
Вместе с тем в мифопоэтическом сознании смерть воспринималась как начало нового существования, как необходимый этап для продолжения нормального течения жизни на земле. Об этом свидетельствуют многочисленные пословицы и поговорки: «Смерть на живот дана», «Бога прогневишь — и смерти не даст», «Человек родится на смерть, а умирает на живот». Свойственные мифологическому мировосприятию идеи непрерывности круговорота жизни и смерти, равенства и взаимодополняемости этих двух противоположностей, обеспечивающих гармоничный баланс бытия, нашли воплощение в жанре загадки:
Стоит дерево, на дереве — птица
Цветы хватает, в корыто бросает,
Корыто не наполняет и цветов не умаляет.
Нарушение порядка на земле из-за отсутствия смерти изображается в сказках, где солдат хитростью или с помощью волшебной торбы, в которую, как ее откроешь, все залезает само собой, уносит Смерть подальше от людей — в леса дремучие на горькую осину:
С той поры не стал народ помирать: рожаться — рожается, а не помирает! Вот прошло много лет, солдат все торбы не снимает. И случилось ему идти по городу. Идет, а навстречу ему эдакая древняя старушка: в которую сторону подует ветер, в ту сторону и валится. «Вишь какая старуха! — сказал солдат, — чай, давно у помирать пора!» — «Да, батюшка! — отвечает старушка, — мне давно помереть пора, — еще в тое время, как посадил ты Смерть в торбу, оставалось всего житья моего на белом свете один только час. Я бы и рада на покой, да без Смерти земля не примает, и тебе, служивой, за это от Бога непрощо-ный грех! ведь не одна душа на свете так же, как я, мучится!» В сказках, в отличие от поверий, образ Смерти чаще всего обрисовывается вовсе не как строгий, мудрый, бесстрастный и неуязвимый. Сказочная Смерть обычно доверчива и даже глуповата, падка на угощение, поддается на хитрость человека и потому нередко побеждаема им. Правда, этим победителем, как правило, являются кузнец или солдат, которые в народном сознании наделялись особой магической силой и знанием. Поэтому только этим персонажам под силу справиться со Смертью. Солдат, кроме того, согласно традиционным представлениям, постоянно имеет дело со смертью, и потому они воспринимались как равные, что отразилось в народной поговорке: «Смерть русскому солдату свой брат».
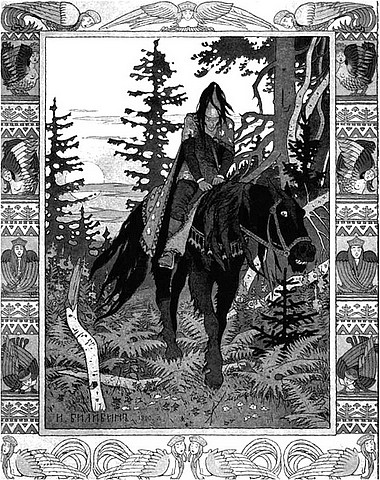
Черный всадник. И. Билибин (1900).
В одном из сказочных сюжетов солдата напуганные им черти выгоняют из ада. Бог ставит его у райских ворот на страже, так как в самом раю солдату показалось скучно. Время от времени к Господу является Смерть спросить повеления, кого ей морить. Не пуская Смерть к Богу, солдат обманывает ее, искажая данные распоряжения: вместо приказа морить три года старых людей, он говорит ей, что велено точить старые дубы; в следующий раз сообщает, что приказано три года точить средние дубы; а в третий раз — три года точить молодые дубки. Уставшая и обессилевшая за девять лет, Смерть добирается до Господа и жалуется на солдата, и ему в наказание велено носить Смерть на плечах девять лет. Но и тут солдат умудряется обхитрить Смерть: Засела Смерть на солдата верхом. Солдат — делать нечего — повез ее на себе, вез-вез и уморился; вытащил рог с табаком и стал нюхать. Смерть увидала, что солдат нюхает и говорит ему: «Служивой, дай и мне понюхать табачку». — «Вот те на! Полезай в рожок да и нюхай, сколько душе угодно». — «Ну, открой-ка свой рожок!» Солдат открыл, и только Смерть туда влезла — он в ту же минуту закрыл рожок и заткнул его за го-ленище
В другом варианте этой сказки Господь велит солдату кормить Смерть орехами, «чтоб она поправилась». Пошел солдатс нею в лес и заспорил, что она не сможет влезть в пустой орех. Смерть «сдуру» и влезла, а солдат заткнул дырочку в орехе колышком и спрятал орех в карман. Когда по просьбе зажившейся на земле старушки или по повелению Господа солдат освобождает Смерть из заточения, она в страхе убегает от него подальше, отказываясь даже его морить. В другой раз солдат обманывает Смерть, когда все-таки приходит его время умереть. Он притворяется глупым, не понимающим, как следует лечь в гроб: он ложится то вверх спиной, то на один бок, то на другой. Смерть вынуждена показать ему это сама, и солдат снова заточает ее, забивая гроб железными обручами и бросая его в реку. Чтобы восстановить порядок на земле, Господь вновь освобождает Смерть и для победы над солдатом советует ей не вступать с ним ни в какие разговоры.
Несмотря на незатейливость образа Смерти в сказках, народная мудрость, воплотившаяся, в частности, в жанре загадки, рисует его как непостижимый для человека: «Загадка без разгадки».
Горе
Горе — один из ярких и широко распространенных персонифицированных образов в традиционной культуре. Он встречается в разных фольклорных жанрах: сказках, обрядовых и лирических песнях, свадебных и похоронных причитаниях, заговорах. Цельное представление об образе Горя дает также «Повесть о Горе-Злочастии», написанная в XVII веке неизвестным автором, в которой, однако, изображение этого персонажа основано на традиционном взгляде на Горе.
В мифопоэтических текстах и представлениях образу Горя близки, а иногда совпадают с ним по значению олицетворения нужды, тоски-кручины, лиха, бессчастья; подчас же он соотносится и с представлениями о доле и судьбе человека. Правда, если доля, согласно народному мировоззрению, дается человеку при рождении и определяет его судьбу, то Горе может появиться в любой момент и по разным причинам. В сказке о двух братьях, богатом и бедном, герой спрашивает Нужу (Нужду) — аналог Горя, — с каких пор она поселилась в его доме, на что она отвечает: «Да с тех самых пор, как ты с братом разделился». В лирических песнях о женской доле появление Горя связывается с «бабьим житьем», причем четкой границей изменения характера жизни выступает свадьба:
В воскресеньицо матушка замуж отдала,
К понедельничку Горе привязалося
В одной из песен приводится несколько вариантов возможности возникновения Горя в судьбе человека:
Ишше было-то бедному хресьянину,
Ишше горюшко ему да доставалосе.
«На роду ли мне горё было уписано,
На делу ли та мне, горё, доставалосе,
В жеребью ли ты мне, горюшко, повыпало?..»
В «Повести о Горе-Злочастии» Горе привязывается к молодцу в наказание за то, что он похваляется своей хорошей жизнью:
Сам себя молодец восхваливал:
«Не бывать удачи-доброму-молодцу
Ни в горюшке, ни в кручинушке,
Ни в нужды мне не быть, ни в печалюшке».
Со того слова с молодецкого
Накасалося, навязалося
К ему горюшко, горе горькое
Согласно народным представлениям, подобным образом на человека может напасть сглаз или привязаться нечистая сила. В другом случае в повести появление Горя мотивируется непослушанием героя: «Не послушался я наказа отца-матерня!» И в обоих случаях можно говорить о том, что молодец наказан за нарушение норм поведения, предписанных традицией. В сказках Горе и Нужда садятся на плечи первому, кто их выпускает из заточения в кувшине или под камнем. В сказке «Как богатый барин стал бедным мужиком» это описывается так:
Мужик горе и нужду в кувшин положил и отнес барину.Кувшин! Что это такое? А горе говорит:Да это мы тут сидим.Кто это вы?Горе да нужда.Чья?
— Да чья бы ни была, но к тебе пришли. Нас закрыли, значит, от нас отказались. А вот кто нас открыл, к тому сейчас и пойдем. Тот хозяин наш будет
Образы Горя и подобных ему могут воплощаться по-разному. Нередко они наделяются женским обликом или признаками. Так, например, сказочное Лихо предстает в образе высокой худощавой женщины пожилого возраста. В «Повести о Горе-Злочастии» заглавный персонаж олицетворяется в образе красивой, но беспутной, развратной женщины:
Выходила бабища курвяжища,
Турыжная бабища, ярыжная:
Станом ровна и лицом бела,
У ней кровь в лицы быдто у заяцы,
В лицы ягодицы цвету макова.
В одной из сказок невидимое глазу Горе подпевает хозяину тоненьким голоском, который он принимает за голос жены.
Если в этих случаях подчеркивается женская природа Горя, сближающая его с традиционными образами персонифицированных болезней, Смерти и подобных, то в других случаях в его внешнем облике отмечаются признаки бедности, нищеты, отличающие человека, находящегося во власти Горя:
Во отопочках горе во лозовеньких,
Во оборочках горе во мочальненьких.
Мочалой горе приопутавши,
Оно лыком горе опоясавши
В облике Горя нередко подчеркивается также физический признак худобы:
Оно тонко, жидко, да пережимисто,
Лыком-де горё подпоясалось
В качестве основной цветовой характеристики Горя обычно выступает эпитет «серый», например в лирической песне: «Ой ты, горе мое, горе, горе серое». С помощью того же цвета Горе противопоставляется радости в поговорке: «Радость красна, горе серо».
Олицетворение образа Горя иногда создается с помощью приписывания ему человеческих свойств: в сказке Горе подговаривает своего хозяина пойти в кабак, пьет вместе с ним, а на следующий день начинает охать, что у него с похмелья болит голова. Кроме того, Горе все время «лежит на боку», прохлаждается, ничего не делая, или веселится в кабаке, что сближает его с образом ленивой Доли.
Зачастую образы Горя, Лиха, Нужды наделяются чертами мифологических существ. В сказке «Лихо» заглавный персонаж представлен в виде громадного и тучного великана, который лежит в горнице — «голова на покути, ноги на печке; ложе под ним — людские кости». Само жилище Лиха обнесено частоколом из человечьих костей с черепами. Кроме того, великан — слепой и оказывается людоедом. В сказке, где Лихо предстает перед героями — кузнецом и портным — в образе высокой худой старухи, особенностью ее внешнего облика является наличие лишь одного глаза, и старуха тоже съедает одного из пришедших к ней путников. А кузнец, которого она просит сковать ей второй глаз, совсем ослепляет Лихо, выкалывая единственный глаз. Обе характеристики Лиха — слепота или одноглазость и поедание людей — отличают мифологических персонажей, имеющих хтони-ческую природу. Лихо также соотносится с образом вечно голодной Смерти, «пожирающей» людей. О хтонической природе Лиха свидетельствует и золотая окраска принадлежащего ему предмета — топорика: убежав от ослепленной старухи, кузнец видит топорик с золотой ручкой, за который он только взялся, как рука пристала к нему. В народных представлениях золото и золотые предметы — это принадлежность подземного мира.
В жанре лирической песни и в «Повести о Горе-Злочастии» Горе наделяется такой мифологической характеристикой, как обо-ротничество: куда бы от него не скрывался герой, Горе преследует его, перевоплощаясь последовательно в черного ворона, серую утицу, сизого орла, ясного сокола, белую лебедь, серого заюшку, горностаюшку. Иногда оно даже принимает облик природной стихии — «буйного ветра». В сказке же «Нужда» Нужа с хозяевами только говорит, а они ее не видят, и на их вопрос: «Отчего ж мы тебя никогда не видали?» — она отвечает: «А я живу невидимкою».
Связь Горя с потусторонним миром и его хтоническое происхождение очевидны в лирической песне:
Отчего ты, Горе, зародилося?
Зародилося Горе от сырой земли,
Из-под камешка из-под серого,
Из-под кустышка с-под ракитова
Для того чтобы «пристать» к кому-нибудь, Горе обычно появляется «с-под белаго с-под камешка», «с-под ракитоваго с-под кустышка», «из-под мостичку с-под калинового», разделяющих, согласно мифологическим представлениям, земной и подземный миры.
Яркая картина появления Горя на белом свете, в полной мере отражающая мифологическое восприятие этого феномена, изображена в похоронном причете известнейшей севернорусской плакальщицы конца XIX века Ирины Федосовой:
Вы послушайте народ люди добрыи, Как, отколь в мире горе объявилося. Во досюльны времена было годышки, Жили люди во всем мире постатейныи, Оны ду-друга люди не терзали; Горе людушек во ты поры боялося, Во темны леса от них горе кидалося;
Но тут было горюшку не местечко: В осине горькой листье расшумелося, Того злое это горе устрашилося; На высоки эты щели горе бросилось, Но и тут было горюшку не местечко: С того щелье кремнисто порастрескалось, Огонь пламя изо гор да объявилося; Уже тут злое горюшко кидалося, В Окиян сине славно оно морюшко, Под колодинку оно там запихалося; Окиян море с того не сволновалось, Вода с песком на дне не помутилась <…> Прошло времечка с того да не со много, В окиян-море ловцы вдруг пригодилися <…> Изловили тут свежу они рыбоньку <…> Распороли как уловну свежу рыбоньку <…> Были сглонуты ключи да золоченые! <…> В подземельные норы ключ подладился, Где сидело это горюшко великое <…> С подземелья злое горе разом бросилось, Черным вороном в чисто поле слетело <…> Подъедать стало удалых добрых молодцев, Много прибрало семейныих головушек, Овдовило честных, мужних молодыих жен, Обсиротило сиротных малых детушек; Уже так да это горе расплодилося, По чисту полю горюшко катилося, Стужей-инеем оно да там садилося, Над зеленыим лугом становилося, Частым дождиком оно да рассыпалося; С того мор пошел на силую скотинушку, С того зябель на сдовольны эти хлебушки; Неприятности во добрых пошли людушках.
Привязываясь к отдельному человеку, Горе доводит его до полной нужды. В песенных жанрах и «Повести о Горе-Злочастии» избавиться от Горя не представляется возможным: оно надсмехается над героем, понуждает его нарушать общепринятые нормы поведения — бесконечно пить вино, «бить-грабити». Единственным способом освободиться от него оказывается уход в «сырую землю», то есть смерть, или в монастырь — смерть для мирской жизни. Даже когда герой повести умирает, Горе идет за ним по пятам:
Молодец от горя винца выкушал
И с того винца во хворобу слег, —
За им горе в головах сидит:
«Ты постой, удача-добрый-молодец!
Тебе от горя не уйтить будет;
Горя горького вечно не смыкати».
Молодец от горя переставился, —
За им горе на погост идет и попов ведет,
И с ладаном идет и кутью несет:
«Ты постой, удача-добрый-молодец!
Тебе от горя не уйтить будет;
Горя горького вечно не смыкати».
Молодец от горя во сыру землю, —
За ним горе с лопатам идет.
Перед ним горе низко кланяется:
«Ты спасибо, удача-добрый-молодец,
Что носил горе, не кручинился и не печалился!»
Пошел молодец во сыру землю,
А горюшко по белу свету
По вдовушкам и по сиротушкам,
И по бедным по головушкам.
Многие черты Горя здесь очень близки образу Смерти: оно, как и Смерть, сидит в головах у заболевшего молодца, идет за гробом с лопатой — атрибутом Смерти. И наконец, оно, как и Смерть, оказывается бессмертным: если умершему молодцу «славу поют», то «Горю слава во век не минуется».

Птицы Сирин и Алконост. Песнь радости и печали. В. Васецов (1896).
В похоронных причитаниях для избавления от Горя обращаются к реке, бегущей в синее море, чтобы она унесла и потопила его, брошенное в воду. Но Горе не тонет, а только увеличивается:
А твое горе не тонется,
От часу-то горе копится,
Великова прибавляется
Горе не тонет, потому что оно не забыто и потому живо, а живому не место в потустороннем мире.
В сказках встреча с Лихом может привести героя к потере руки, прилепившейся к золотому топорику, или гибели человека. Сказочное Горе доводит героя до полной нужды, но когда у того не остается вообще ничего, оно показывает клад с золотом, после чего находчивому герою удается все же избавиться от своего вечного попутчика. Он зарывает Горе в яму, где под камнем лежал клад. В другой сказке герою удается запереть Горе в сундуке и зарыть в землю. Подобным образом избавляется от Нужы-невидимки крестьянин, после того как неожиданно находит клад.
Он узнает у Нужы, что она ночью спит в кувшине, и, закрыв его, бросает в прорубь.
Однако Горе, как и близкие ему образы, оказывается спрятанным лишь на время: завистливые люди откапывают сундук и вытаскивают из проруби кувшин в надежде навредить поправившему свои дела герою. Но Горе тут же усаживается на шею своему спасителю. Так оно, лишь пройдет какое-то время, находит свою очередную жертву.

