Глава двадцать четвертая
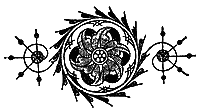
Макс и Эсфирь Русофф получали огромное удовольствие от своего бизнеса в Уотерфорде. В умении торговать Макс был настоящим волшебником, а Эсфирь аккуратно вела бухгалтерские книги, каллиграфическим почерком выводя ровные ряды цифр, красивых, как тюльпаны на клумбе. Бизнес для них был своеобразным продолжением искусства вежливого обхождения, и любого, кто заходил к ним в магазин, они встречали как почетного гостя. Макс выступал в роли радушного хозяина, советчика и шутника, Эсфирь же держалась на заднем плане, занимаясь счетами и складом.
Они процветали. Некогда маленький продуктовый магазин стал первым в городе супермаркетом, а весной 1937 года открылся универмаг Русоффа. Универмаг быстро стал популярным: там всегда были модные товары и разумные цены. Первая женщина, специально приехавшая к ним из Чарлстона, получила в подарок сумочку; на следующей неделе ее фотография появилась в местной газете. Они и сами не ожидали от себя таких способностей к маркетингу и рекламе. Все, к чему они прикасались, обращалось в золото, и они поначалу даже поверить не могли, что им так повезло и что на них снизошла благодать Божья.
В 1939 году еврейский Бог отвернулся от своего народа. Долгие годы в дом Макса и Эсфирь приходили письма от родственников, разбросанных по всей России и Польше. Эсфирь считала своей святой обязанностью вести переписку буквально с каждым родственником, а Макс с самых первых дней, как обосновался в Уотерфорде, постоянно посылал деньги своей семье в Европу.
В 1939 году письма из Польши перестали приходить. Почтовый ящик опустел, и в тот год идиш как язык умер для Эсфирь Русофф.
Узнав о тревогах семьи Русофф, Сайлас Макколл устроил им встречу с достопочтенным Барнуэллом Миддлтоном, который представлял их округ в Конгрессе Соединенных Штатов. В октябре 1941 года твердолобый, но утонченный Миддлтон сидел в ресторане «У Гарри» в Уотерфорде и смотрел на обветренное лицо и мощные руки Макса Русоффа. Сайлас Макколл сидел рядом и слушал, как Макс рассказывает об исчезновении их с Эсфирь родственников, после того как в Польшу, а потом и в Россию вошла немецкая армия. Закончив рассказ, Макс протянул конгрессмену список всех своих родственников, с именами и адресами. В списке было шестьдесят восемь человек, включая четверых младенцев.
Миддлтон откашлялся, сделал глоток черного кофе и только потом заговорил.
— Плохие времена, Макс.
— А что вам известно? — спросил Макс.
— Что все плохо. Хуже, чем вы думаете. Хуже, чем все думают.
— Черт возьми, Барнуэлл! — сердито перебил его Сайлас. — Вы же видите, человек жутко нервничает. Не заставляйте его страдать еще больше, пока не узнаете хоть что-то наверняка.
— Макс, что бы я там ни узнал, это будут плохие вести.
— Мы евреи, — ответил Макс. — И нам не привыкать к плохим вестям.
С тех пор прошло больше года, но Русофф так и не дождался ни единого слова от Барнуэлла Миддлтона. К тому времени Соединенные Штаты уже начали активные боевые действия против фашистской Германии. Макс ничего не слышал о евреях Киронички, так как стена молчания, окружавшая Польшу, передвинулось на территорию России. В тот год оба сына четы Русофф, Марк и Генри, записались в армию США. Отправив сыновей воевать с немцами, Макс и Эсфирь наконец-то почувствовали себя настоящими американцами. Когда мальчики садились на корабль, чтобы отправиться за океан, Макс дал им миниатюрные изображения статуи Свободы, и эти фигурки они пронесли через всю войну. Они сражались как американские солдаты, яростно и решительно, а еще — как сыновья Великого Еврея, которым никакие казаки не страшны. Они воевали в Северной Европе, там, где навеки умолкли голоса всех их родственников.
В середине 1943 года Барнуэлл Миддлтон встретился с Максом и Сайласом за ланчем, впервые с того времени, как пообещал Максу разузнать о судьбах его родственников. Первые пятнадцать минут Барнуэлл говорил о военных действиях, о победах и поражениях союзников и о мрачном настроении в Вашингтоне.
Сайлас, нетерпеливо слушавший его, наконец не выдержал:
— Ближе к делу, Барнуэлл.
— Вы сумели что-нибудь узнать о наших семьях? — спросил Макс.
— Да, — мрачно проронил Миддлтон. — Лучше бы я не получал ответа. Но я его получил.
Перегнувшись через стол, Барнуэлл взял Макса за руку, крепко ее сжал и не выпускал все время, пока рассказывал ему новости из Восточной Европы, сидя в кафе Южной Каролины, славящемся плохим кофе и хорошими пирогами.
— Макс, — прошептал он. — Все имена, которые вы мне дали. Все они… Все они мертвы, Макс. Все до одного мертвы.
Макс ничего не сказал. Он не пытался говорить, да и не смог бы выдавить ни звука, даже если бы ему надо было принять участие в разговоре.
— Да откуда вы знаете? — вмешался Сайлас. — Время сейчас военное. Неразбериха. Армии ведут боевые действия. Вы не можете знать наверняка.
— Вы правы, Сайлас, — согласился Барнуэлл. — Некоторые из этих людей могли убежать или не попасть в поле зрения властей. Кто-то мог спрятаться. Информация приходит с опозданием. Я даже не знаю наверняка, откуда она поступила и кто ее передал. Источник находится в Швейцарии, и человек этот — немец. Вот и все, что мне известно. Он говорит, что вся ваша семья погибла. И семья Эсфирь — тоже. В городах, о которых вы дали сведения, не осталось ни одного еврея.
— Judenrein, — произнес наконец Макс.
— Они убивают всех евреев подряд, — сказал Барнуэлл. — За исключением тех, кого отправляют в концентрационные лагеря. Большинство членов вашей семьи расстреляли прямо в поле. Евреев заставляют рыть ямы, а потом их ставят на краю этих самых ям и скашивают автоматной очередью.
— Там было четыре ребенка. Четыре младенца, — прошептал Макс.
— Немцы не разбираются, — ответил Барнуэлл.
— Они что же, и младенцев из автоматов? — не поверил своим ушам Сайлас.
— Да, или закапывают живьем, после того как убьют матерей, — подтвердил Барнуэлл. — Там была девочка-подросток… Думали, что это племянница Эсфирь. Она скрывается в Польше. Но оказалось, что она просто однофамилица девочки из списка Эсфирь — Руфь Грубер. Какой стыд. Выяснилось, что у нее вообще нет родственников.
— А что случилось с семьей этой девочки? — спросил Макс.
— Думаю, то же, что и с вашей, — пожал плечами Барнуэлл. — Говорят, польское подполье может тайком вывезти ее.
— Тогда вы должны это сделать, — предложил Сайлас.
— Цена уж не по-детски высока, — отозвался Барнуэлл с иронией в голосе. — Они просят пятьдесят тысяч долларов наличными.
Сайлас присвистнул, а Барнуэлл наконец-то выпустил руку Макса и поманил пальцем официантку, чтобы попросить еще кофе.
— Чудесный мир, — усмехнулся Сайлас. — Скажите мне хоть что-то хорошее о человеческом роде.
— Эта девочка… — начал Макс.
— Какая девочка? — удивился Барнуэлл.
— Та, что скрывается. Та, которую вы приняли за племянницу Эсфирь, — сказал он.
— У нее никого нет. Она из другой части Польши.
— И все же. Это еврейская девочка, и она в беде.
— Да, — кивнул Барнуэлл.
— Мы с Эсфирь хотим привезти эту девочку в Америку, — заявил Макс.
Оба мужчины взглянули на Макса так, словно решили, что ослышались.
— Она же не твоя, Макс. И не Эсфирь, — удивился Сайлас. — К тому же она идет с ценником в пятьдесят тысяч баксов.
— Это еврейская девочка, попавшая в беду. А потому все равно что моя. Все равно что моей жены. Вы говорите, что семья Эсфирь, скорее всего, погибла. Как и моя. Кто, если не мы, должен ей помочь?!
— Что значит жизнь одной маленькой девочки, когда идет такая большая война, — произнес Барнуэлл.
— А я думаю, очень даже значит, — возразил Макс.
— Но у вас ведь нет пятидесяти тысяч наличными, — заявил конгрессмен и поднялся из-за стола с видом человека, потратившего и так слишком много времени на вопрос, который не подлежит обсуждению. — Ни у кого в городе нет такой суммы наличными.
— За исключением вас, — ответил Сайлас. — Стоит избрать человека в Конгресс, и он за четыре года становится миллионером. Барнуэлл, расскажите мне, как это делается.
— Бог любит пьяниц и дураков, — усмехнулся Барнуэлл Миддлтон.
В тот вечер Макс вывел Эсфирь на веранду, выходящую на реку Уотерфорд. Они смотрели, как солнце окрашивает скопления низких облаков неземным золотым цветом. Супруги пили шнапс из маленьких хрустальных рюмок. Это уже стало ритуалом: так они отмечали свои успехи и расслаблялись после тяжких трудов первых лет в этом городе.
Макс не знал, как сказать женщине, которую любил больше всего на свете, что та потеряла всех своих родных. Эсфирь выросла в удивительно дружной и любящей семье, и Максу трудно было сказать, что Европа, которую она знала, умерла.
И тогда, выпив вторую рюмку шнапса, Макс рассказал ей обо всем на идиш.
Шесть дней Эсфирь Русофф скорбела, а в Шаббат молодой раввин прочел в их доме поминальный каддиш. Макс и Эсфирь поклялись построить в Уотерфорде синагогу в память об обеих семьях.
После завершения шивы Эсфирь, снова лежа в объятиях Макса, прошептала:
— Эта девочка, Макс. Та, о которой говорил Барнуэлл.
— У меня она тоже из головы не выходит, — признался Макс.
— Что мы можем сделать?
— Продать все, — сказал Макс. — Дом. Супермаркет. Универмаг. Начать все заново.
— А мы сможем собрать пятьдесят тысяч долларов? Это же целое состояние. Нам не потянуть.
— Банк даст нам ссуду, чтобы покрыть остальное, — сказал Макс. — Я уверен.
— Тогда мы сделаем это, — заявила Эсфирь.
— Да, — сказал Макс.
— Ты сделал бы это и без моего согласия, — улыбнулась Эсфирь. — Я тебя знаю, муженек. Мне просто хватает ума соглашаться с тем, что ты уже для себя решил. Но это правильно. Даже если это и будет в ущерб нашим детям.
— Как спасение еще одного ребенка может навредить нашим детям? — спросил Макс.
В последующие месяцы Макс продал свой универмаг владельцам торговой сети «Белк» из Чарлстона, продал супермаркет ретейлеру тоже из Чарлстона и продал свой дом на Долфин-стрит без пяти минут отставному генерал-лейтенанту Корпуса морской пехоты, базирующегося на острове Поллок. Макс перевел пятьдесят тысяч долларов Барнуэллу Миддлтону в Вашингтон, получив в ответ отрезвляющую телеграмму, что шансы, дескать, очень невелики и операцию по спасению ребенка осуществить невероятно трудно. Но тем не менее Барнуэлл Миддлтон поклялся сделать все от него зависящее.
Но здание, где когда-то был его первый маленький магазин, который он много лет назад открыл в Уотерфорде, Макс так и не продал, и оно пустовало. Семья переехала обратно на верхний этаж, и Макс с Эсфирь снова с головой ушли в бизнес.
Прошел почти год, прежде чем Макс получил телеграмму от Барнуэлла Миддлтона. Конгрессмен сообщал, что 18 июля 1944 года в порт Уотерфорда прибудет торговое судно. В списке пассажиров числится девочка по имени Руфь Грубер. Макс позвал жену, чтобы порадовать ее хорошей новостью, затем позвонил Сайласу Макколлу, а тот все доложил Джинни Пени. Новость перелетала от дома к дому, как это бывает в маленьких городах, и была она живой, светлой и легкой, потому что история эта несла радость в мир, слишком хорошо знакомый с сообщениями о местных мальчиках, погибающих там, за океаном.
Когда судно прибыло в Уотерфорд, по сходням спустилась красивая девочка-подросток в сопровождении сурового капитана. Девочка явно смутилась, услышав ропот, пробежавший по толпе. Макс и Эсфирь приветствовали ее на идиш, и девочка сделала книксен. Макс заплакал и заключил ее в объятия. Девочка спрятала голову на его широкой груди, а город приветственно зашумел. И тогда девочка поняла, что с этого дня стала частью Уотерфорда, штат Южная Каролина, и обрела здесь свой дом. Жители открыли для этой девочки, Руфь Грубер, свои сердца, наблюдали за ее успехами в школе, дождались ее совершеннолетия и присутствовали на ее свадьбе с Джорджем Фоксом. Город был с ней, когда она родила своего первого ребенка, Шайлу, и был с ней, когда она похоронила этого ребенка.
Но самое главное, что навсегда запомнил город, — это то, как еврейская сирота, выкупленная чужими людьми, впервые ступила на землю Уотерфорда и упала в объятия Великого Еврея.
Сайлас Макколл потом расскажет своим внукам, что когда увидел прибытие этой девочки, то впервые поверил, что Америка выиграет войну. И сколько раз он ни рассказывал бы историю прибытия Руфь внукам, заканчивал он ее всегда именно этими словами, и каждый раз у маленьких Макколлов по коже пробегали мурашки.
Город ревел, говорил он, город просто ревел.
А вот свою историю Руфь не рассказывала в Уотерфорде никому, кроме мужа и дочери Шайлы, мне же она поведала ее весной 1986 года, после того как мы пришли к согласию и я вернулся в город с ее внучкой Ли, чтобы облегчить своей матери уход из жизни.
И только тогда, когда Руфь рассказала мне всю страшную правду о своей жизни в Польше во время оккупации, я наконец узнал, что означали слова «хранительница монет».
Назад: Глава двадцать третья
Дальше: Глава двадцать пятая

