Часть IV
Глава двадцать вторая
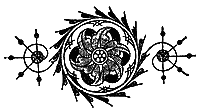
Фантазия — одно из ярчайших сокровищ души. Чем ближе становился день, когда я должен был впустить Ли в запретное царство своего прошлого, тем сильнее захлестывал меня бесконечный поток воспоминаний. Поскольку я пишу книги о путешествиях, то блестяще овладел искусством уходить от всего личного. Я устремлял взгляд к линии горизонта и гнал от себя любое желание оглянуться на собственное гнездо. Мой профессиональный успех зависел от искренности моего расставания с прошлым. Теперь моим сюжетом был мир, а родной дом стимулировал меня открывать все новые уголки этого мира. В моей голове замерцали огни тысячи чужих городов, больших и маленьких, которые я мог припомнить во всех подробностях. Я легко писал о портах и черных лодках, груженных перцем и мандаринами, рассказывал о базарах, где торговали и юными проститутками, и обезьянками, предназначенными для гурманов, и о местах, где мужчины предсказывали судьбу по картам Таро на языке, в котором, казалось, не было гласных звуков.
Но Уотерфорд я похоронил в своем сердце, и связанные с ним истории проходили через подсознание. В глубине души я уже слышал отдаленную ораторию, возникающую из разрозненных фрагментов прошлого, которые я складывал, точно отдельные музыкальные обрывки, и делился ими с Ли. Дочке особенно нравились несколько моих рассказов об Уотерфорде, так как она инстинктивно чувствовала, что они приоткрывают завесу над историей, которую она когда-нибудь узнает сама. Я всегда говорил ей, что в мире нет ничего прекраснее рассказа, и в то же время сам был главным цензором текста, будоражившего ее воображение.
За три месяца до нашего отлета в Америку я поведал Ли все, что могло бы помочь ей понять семью, с которой ей придется отныне жить. По ходу моего повествования Ли нередко обращалась к Ледар, чтобы выслушать ее версию того же события. Память Ледар чаще бывала более жесткой и узконаправленной. В ее восприятии Уотерфорд казался местом удушающей внешней благопристойности, а мой Уотерфорд был балом-маскарадом, где звучали одновременно две темы: сумасшествия и восторга. Сложенные вместе, наши рассказы создавали в головке Ли, если можно так выразиться, двойную линию горизонта.
Пока наш самолет летел над Атлантикой по аквамариновому небу, я вынул из портфеля альбом в кожаном переплете, особый альбом, который все эти годы держал под замком, как и прошлое Ли, и, открыв его, стал показывать дочери фотографии своих бабушки и дедушки перед домиком смотрителя на острове Орион, а еще фотографии своих братьев, сопровождая показ краткими биографическими сведениями.
Ли, как внимательный и послушный ребенок, запомнила имена и лица всех своих родственников, близких и дальних.
— А это кто, папочка? — спросила она, глядя на пожелтевший снимок.
— Это я, Майк Хесс и Кэйперс Миддлтон в первом классе. Ты меньше, чем я сейчас, — удивилась она.
— Вот что делает с нами время, — вздохнул я, посмотрев на свое изображение тридцатилетней давности.
Я вспомнил тот момент, когда мамаша Кэйперса сделала этот снимок, вспомнил и вкус орехового печенья, которое моя мама обычно упаковывала в коробочку с завтраками.
— А это кто? — спросил я.
— Хорошенькая собачка, — ответила Ли.
— Это не просто хорошенькая собачка.
— Да это же Великая Собака Чиппи! — обрадовалась Ли. — Но, папочка, она такая маленькая. Я думала, что она ростом с сенбернара.
— Нет, — сказал я. — Она каждую ночь спала со мной на подушке. Мама приходила и выгоняла ее, выставляла за дверь, но когда я просыпался, Чиппи неизменно оказывалась рядом.
— Это мама? — спросила Ли, указывая на небрежно одетую девочку с грустными глазами.
— Да, — кивнул я. — Она здесь в третьем классе. Пришла продемонстрировать моей матери новые баретки. Потому-то она и показывает на свои ноги.
— Ой, папочка, я так волнуюсь, — сжала мою руку Ли. — Я даже не мечтала увидеть свою семью. Как думаешь, я им понравлюсь?
— Они съедят тебя без гарнира.
— А это хорошо? — поинтересовалась Ли.
— Они полюбят твою маленькую римскую задницу.
— Плохое слово. С тебя тысяча лир.
— Уже нет, — ответил я. — Мы скоро приземлимся. Теперь это бакс.
— А Ледар нас встретит?
— Нет, — сказал я. — В Атланте мы пройдем таможенный досмотр, а Ледар будет ждать нас в Саванне.
— Папочка, а ты тоже волнуешься оттого, что возвращаешься в Уотерфорд?
— Я в ужасе, — признался я и прибавил: — Но в Уотерфорде, по крайней мере, спокойно. Там мало что происходит.
— В Уотерфорде все происходит, — заявила Ли, обращаясь даже не ко мне, а к фотоальбому.
Перед посадкой я посмотрел на зеленые холмы внизу, прячущиеся среди них озера Джорджии и попытался унять тревогу.
Я увидел, что дочь снова разглядывает фотографии моего прошлого, и понял, что вырастил ребенка, жаждущего любых сведений о доме, а потому мне придется отбросить все свои страхи.
Ледар встретила нас в аэропорту Саванны и отвезла прямо к Элизабет на Тридцать седьмую улицу. Обед там я заказал еще перед отъездом из Рима. Я уже начинал беспокоиться о своей карьере литератора, пишущего о путешествиях: ведь отныне все мои путешествия будут ограничиваться короткими поездками из Уотерфорда, но издатель «Фуд энд вайн» рассказал мне о новом поколении поваров Юга, которые получили классическое образование, но вместе с тем готовы были совершить революционные преобразования южной кухни. Издатель сказал, что, несмотря на желание добавить козий сыр в приготовленный на скорую руку салат, они сохранили свое пристрастие к маисовой каше и барбекю.
В расположенном в стороне от исторического центра красивом доме в викторианском стиле с высокими потолками я прошел на кухню: поговорить с Элизабет Терри и ее поварами, которые готовили ароматные и изысканно оформленные кушанья для консервативно одетых посетителей. Элизабет назвала мне имена всех ведущих шеф-поваров, непосредственно связанных с преобразованием южной кухни. В наш первый американский вечер мы съели отличный легкий ужин, который в семидесятые годы на Юге можно было найти разве что в Новом Орлеане. Ли заказала pasta Amatriciana. Это слово в ее устах звучало просто прелестно, а еще она громко недоумевала, почему папочка говорил, что она снова сможет отведать хорошей пасты, только когда вернется в Рим. Я признал свою ошибку и рассказал о том, как долгие годы, будучи ресторанным критиком, пробовал жуткие сочетания пасты с соусом в итальянских ресторанах от Техаса до Виргинии, в заведениях, которые в лучшем случае заслуживали того, чтобы их прикрыл департамент здравоохранения, а в худшем — просто разбомбили.
Нашу первую ночь под небом Южной Каролины мы провели в доме на острове Орион, который сняла для нас Люси. Ледар заранее взяла у нее ключи и, предварительно осмотрев наше новое жилище, нашла его более чем приемлемым. Дом стоял на высоком берегу, и из окон открывался прекрасный вид на лагуну.
Я обошел дом и остался весьма доволен той тщательностью, с которой владельцы, некие мистер и миссис Боннер, подобрали мебель и картины. А когда я увидел на стене семейные фотографии, где Боннеры выставляли напоказ здоровых светловолосых детей, безупречные улыбки которых красноречиво свидетельствовали о мастерстве ортодонтов, мне даже захотелось познакомиться с людьми, обладающими столь хорошим вкусом. Кухня меня вполне удовлетворила, тем более что Люси успела забить холодильник продуктами. В хозяйской спальне я обнаружил письменный стол и кровать с высокими столбиками, на которой наверняка и появились наследники Боннеров.
Я услышал, как Ли наверху завизжала от восторга, явно довольная своей спальней. Пока дочка принимала душ, я распаковывал ее чемоданы. Стараясь не помять платья, грустно и с любовью сложенные Марией, я убрал все в старинный комод и рассмеялся, обнаружив среди вещей Ли три коробки с пастой и палку салями, которые Мария положила на тот случай, если американцам не удастся нормально накормить ее девочку. Я мысленно взял себе на заметку позвонить Марии с утра и сообщить, что мы благополучно долетели и Ли одобрила пасту, которую ей подали в ресторане. Ли вошла в свою новую комнату уже в пижаме, глаза у нее были сонными, и от нее пахло зубным порошком. Она даже не дослушала вечернюю историю, уснув уже на шестой фразе.
Когда я спустился вниз, Ледар успела разжечь камин и приготовить мне выпить. Я взял бокал и уставился на пламя, пожиравшее сухие дубовые поленья.
— За твое возвращение домой! — провозгласила Ледар.
— Я ожидал, что будет хуже, но здесь вполне мило, — заметил я, оглядываясь по сторонам.
— Почему бы тебе не применить радикальный подход? Может, попробуешь начать получать удовольствие? — поинтересовалась Ледар.
— Я тебя умоляю, — пожал я плечами. — Ты должна смириться с моими экзистенционалистскими мучениями.
— Для этого у тебя еще будет полно времени, — отрезала Ледар. — Звонил Майк. Он хочет, чтобы сюжетная линия сериала была готова через месяц. Никаких отговорок он не принимает и требует справку от врача, подтверждающую, что тебя действительно ранил в голову террорист.
— Меня все еще мучают сомнения относительно проекта, — сказал я Ледар. — Как мы станем писать для Майка, не запрыгнув в постель к Кэйперсу?
— Тема мне кажется увлекательной, — заметила Ледар. — Возможно, мы узнаем о себе то, чего даже и не подозревали. Надеюсь, к нам вернется магия старых добрых времен.
— Опасно писать о том, чего не знаешь, — отозвался я.
— А я считаю, что опасно не знать, — ответила, поднимаясь, чтобы уйти, Ледар.
На следующий день я проснулся очень рано, и Люси пришла к нам как раз в тот момент, когда мы внимали телевизионному проповеднику, предупреждавшему аудиторию о том, что похотливое и погрязшее в грехах человечество уже стоит на пороге Армагеддона. Люси приготовила большой завтрак и что-то соврала Ли, когда та спросила о значении слова «похотливый». Я, в свою очередь, демонстративно исправил ошибку матери. После завтрака Люси, убедившись в том, что Ли одета достаточно тепло, повела нас на первую прогулку по четырехмильному берегу острова Орион. Из-за отлива вода была совсем неподвижной, и мы спокойно шли, подбирая ракушки и разглядывая покрытый прилипалами плавник, выкинутый на берег прибоем. День был безветренный, и даже чайкам приходилось взмахивать своими большими крыльями, чтобы парить в воздухе. В океане отражалось небо, а зыбь практически не мешала коричневым пеликанам.
Пока мы гуляли по берегу, Люси показывала Ли безопасные места для плавания и предупреждала о коварных течениях и водоворотах. Она объяснила внучке, что если ее затянет течением, то нужно просто расслабиться и не паниковать.
— Позволь этому водовороту увлечь тебя на глубину, дорогая, — сказала Люси. — Там его сила слабеет, и ты сможешь высвободиться. Затем медленно плыви к берегу и лови волну.
Они вместе разглядывали лежащие кучками обломки, вынесенные на берег приливом. Люси подняла сломанный панцирь атлантического голубого краба и обратила внимание Ли на его темно-синюю окраску, заметив, что это самый красивый в природе синий цвет.
Ли была в полном восторге и живо всем интересовалась, а потому, пока Люси делилась с ней своими знаниями о прибрежной зоне, прогулка растянулась на несколько часов. Они старались найти все виды раковин, но на берегу в основном были раковины донакса. Люси обещала Ли, что во время весенних приливов, когда океан прогреется, их здесь будет просто уйма.
— Ракушки мы соберем самые красивые из тех, что предложит Атлантика. И самые редкие. Но нам придется быть бдительными. А еще нам придется как следует потрудиться. Придется обязательно приходить сюда после каждого высокого прилива.
— Мы сделаем это, ба! — радостно откликнулась Ли. — Папочка говорил, что ты научишь меня всему, что нужно знать о море.
— Он и сам кое-что знает, — скромно ответила явно довольная Люси. — Конечно, он многое забыл с тех пор, как заделался европейцем. Поди сюда, солнышко, я покажу тебе, как эрозия съедает берег.
Люси обнаружила на песке послания всех созданий, побывавших днем на острове Орион. Каждое утро, гуляя по берегу, Люси укреплялась в своей вере в Бога и в конце концов начала понимать, что для планеты она не более важна, чем крошечный планктон, плавающий в невидимом бульоне и составляющий звено длинной пищевой цепи. После этих прогулок Люси думала о собственном кровообращении как о внутреннем море, мало чем отличающемся от того, мимо которого она сейчас шла со своей внучкой. Для Люси лейкемия была сродни вирулентности красных приливов, атакующих летом южное побережье и вызывающих гибель рыбы, так что морские птицы сходили с ума от обжорства. Берег — это прекрасное место для изучения всех природных циклов планеты. Люси уже не так боялась смерти.
Моя мать следила за тем, как Ли бежит к останкам маленькой акулы. Крабы и чайки уже сделали свое дело. Выклевали глаза, а более крупный хищник удалил часть спинного плавника. Глядя на бегущую внучку, Люси сказала мне, что научит этого ребенка всему и привяжет ее к Югу так крепко, что мне уже не удастся увезти ее обратно в Италию. Я посмотрел на нее и отвел глаза.
Вернувшись с пляжа, я усадил Ли в огромный крайслер «ЛеБарон», который по просьбе Люси предоставил мне хозяин дома, и проехал с ней восемнадцать миль по дороге вдоль моря.
Миновав пять островов, мы въехали в Уотерфорд по Норрис-бридж. Еще в Риме я представлял себе, как приеду сюда с Ли, и мысленно восстанавливал все детали, тщательно выбирал маршрут, которым ее провезу, дома, возле которых остановлюсь, чтобы рассказать их историю.
Спустившись с моста, я повернул направо и медленно поехал мимо особняков плантаторов, которые в свое время строили дома так, чтобы окна были обращены на восток — к солнцу и к Африке. С водяных дубов свисал испанский мох, и дома напоминали часовни, еле видимые сквозь вуаль. На мраморных ступенях спали лабрадоры. Кирпичные стены, поросшие жемчужным лишайником, скрывали от посторонних глаз ухоженные сады. В этих местах выросли мы с Шайлой, и улицы, казалось, затерялись в полях давно ушедшего времени и исчезли, как и само детство.
Мы ехали по авеню Порпуаз, главной торговой улице, возникшей еще в восемнадцатом-девятнадцатом веках. Когда-то я с закрытыми глазами мог назвать все магазинчики и их владельцев, но времена изменились, и в городе появились новые люди, которые открыли здесь магазины здорового питания, канцелярских товаров и банки с незнакомыми именами на вывесках. Банки эти пришли вместе с огромными финансовыми учреждениями из Шарлотта. А еще я заметил, что самые старые, уважаемые юридические фирмы поменяли свои аристократические названия, ознаменовав смену партнеров и восхождение амбициозных молодых юристов, которым захотелось выгравировать на вывесках на авеню Порпуаз собственные имена. Когда мы проезжали мимо дома семьи Лафайетт, я указал Ли на вывеску отца и брата — «Макколл и Макколл». Аптека Лютера закрылась, близнецы Хаддл продали свою парикмахерскую, а в театре «Бриз» теперь разместился магазин модной мужской одежды. Обувной магазин Липсица остался на прежнем месте, и сам факт его выживания на фоне всех этих изменений казался необходимой константой.
Возле универмага Русоффа я сообщил Ли, что именно здесь мы можем найти Макса, Великого Еврея. Когда мы въехали в более бедную часть города, я показал ей небольшое двухэтажное кирпичное задание, где Великий Еврей, только-только поселившись в Уотерфорде, открыл свою первую лавку. Мимо пронеслись средняя школа Уотерфорда и футбольное поле, на котором я играл за защитника в нашей команде, а Шайла и Ледар болели за нас в том далеком мире, где невинность была иллюзией, которую питали молодые южане до тех пор, пока мир их не отрезвил. Каждая улица являлась живым свидетельством моего прошлого, и лицо Шайлы виделось мне в каждом биллборде и дорожном знаке. И тогда я понял, что впервые со времени ее смерти встретился с Шайлой лицом к лицу.
Мы ехали по Де Марлетт-роуд — улице, названной в честь французского исследователя, ступившего на уотерфордскую землю в 1662 году. Я кивком указал дочке на реку Уотерфорд, поблескивающую между домами. Когда-то я мог назвать каждую семью и всех детей, живших в этих домах, но смерть и миграция населения пошатнули мою уверенность. Наконец мы подъехали к воротам маленького, но ухоженного еврейского кладбища, в полумиле от центра города.
Кладбище было обнесено увитой виноградом кирпичной стеной, а дубы и тополя бросали густую тень, создавая атмосферу покоя. Я распахнул металлические ворота со звездой Давида, взял Ли за руку и повел ее между длинных рядов могильных камней с выбитыми на них еврейскими именами: так Макс Русофф отдавал дань памяти всем людям, последовавшим за ним в Уотерфорд. Я остановился перед одной из могил и задохнулся, прочитав имя Шайлы. Я не был здесь со дня похорон и, увидев надпись «Шайла Фокс-Макколл», прикрыл левой рукой глаза. Фамилия Макколл выглядела неуместно рядом с Шейнами, Штейнбергами и Кейзерлингами.
— Ох, папочка, — прошептала Ли. — Это мама, да?
Я хотел было утешить дочку, но не мог вымолвить ни слова. На меня снова нахлынули воспоминания: сначала смерть Шайлы, а потом и судебный процесс, на котором решалась участь нашего ребенка. Тогда боль лишила меня возможности плакать. Вот и сейчас я стоял, словно окаменев, и по-прежнему не мог выдавить из себя ни слезинки. Ли рыдала, а я тихо гладил ее по волосам.
— Это не то кладбище, — сказал я наконец.
— Я знала, что ты пошутишь, — ответила Ли.
— Я что, такой предсказуемый? — спросил я.
— Да. Ты всегда шутишь, когда тебе грустно. Расскажи мне историю о маме, — попросила Ли, встав на колени возле могилы и начав выдергивать из земли чахлую зимнюю траву.
— Какую ты хочешь? — поинтересовался я.
— Такую, которую ты еще не рассказывал, — ответила Ли. — Я никак не могу представить себе маму. Она кажется мне нереальной.
— Я тебе рассказывал о том, как твоя мама сводила меня с ума? Как она меня до чертиков злила?
— Нет, — помотала головой Ли.
И я рассказал ей историю о чернокожей женщине из Чарлстона, которую Шайла подобрала в переулке возле мебельного магазина Генри. У Шайлы было сердце социалистки и душа миссионера, и она всю жизнь заботилась о страждущих — людях или животных. Вскоре после нашей свадьбы Шайла пошла по магазинам и обнаружила лежащую на земле без сознания чернокожую женщину, всю в синяках.
Шайла вошла в магазин Генри Поповски и попросила его вызвать такси, что он с удовольствием и сделал. Затем она с большим трудом уговорила таксиста помочь ей поднять женщину и положить на заднее сиденье автомобиля. Потом снова упросила водителя помочь ей внести женщину в домик на колесах с одной спальней, который мы с ней в то время снимали.
Когда я вернулся домой — я тогда работал на газету «Ньюс энд курьер» в качестве кинообозревателя и ресторанного критика, — между нами произошла одна из самых серьезных ссор за нашу совместную жизнь. Шайла заявила, что ни одно существо, претендующее на звание человека, не оставит бедную чернокожую женщину беспомощно лежать в переулке в окружении расистски настроенного белого большинства. Я ответил, что с превеликим удовольствием прошел бы мимо такого сомнительного счастья. Если это так, закричала Шайла, то она вышла замуж не за того парня и ей следует присмотреть себе мужа, который, в отличие от меня, обладал бы такими качествами, как человечность и сострадание. Но я считал, что сострадание не имеет ничего общего с тем фактом, что вонючая чернокожая наркоманка лежит на нашей единственной кровати в нашей единственной спальне. Я также заявил, что наши расистски настроенные хозяева тут же выгонят нас взашей, как только узнают, что мы внесли черномазую шлюху в список их жильцов. В ответ Шайла закричала, что не станет подстраивать свою жизнь под желания расистов. И ни за что бы за меня не вышла, если бы знала, что в душе я тайный нацист.
— Вот как, нацист! — заорал я в ответ. — Выходит, я и пожаловаться не могу, когда ты притаскиваешь в наш дом бесчувственную наркоманку и укладываешь ее в мою постель. Выходит, я теперь в ответе за все газовые камеры в Берген-Бельзене? Каждая наша ссора начинается на Кинг-стрит в Чарлстоне, а заканчивается у Бранденбургских ворот в Берлине, где я иду во главе отряда молодых нацистов под звуки «Хорста Весселя».
— Из песни слов не выкинешь, — обрезала меня Шайла.
В пылу ссоры ни один из нас не заметил, что наша гостья уже очнулась, пока та не подала голос:
— Какого хрена! Где это я?
— Ты в нашем хреновом доме, — ответил я.
— Можете оставаться у нас, пока не поправитесь, — любезно предложила Шайла.
— Будь я проклята! Ну и дела!
— Мой муж — расистский ублюдок, — объяснила Шайла. — Не обращайте на него внимания.
Чернокожая женщина, вконец растерявшись, спросила:
— Эй вы, люди, вы что, украли меня?
— Да, — раздраженно сказал я, — и оставили у дома твоей бабушки записку с требованием о выкупе.
— Расист до мозга костей! — заорала Шайла, ударив кулачком меня по груди. — Расистское отродье. Каждую ночь я ложилась в постель с предводителем ку-клукс-клана.
— Хорошо! — рявкнул я. — Это уже шаг вперед. Одним чертовым прыжком из Освенцима в Сельму.
— Эй, парень, ты что, действительно долбаный куклуксклановец? — поинтересовалась чернокожая женщина.
— Нет, мэм, — ответил я, стараясь держать себя в руках. — Я не из клана. Я просто бедный, обиженный Богом белый человек, которого не ценят и которому мало платят, но который хочет, чтобы ты убрала из моей постели свою вонючую задницу.
— Расистская свинья! — завопила Шайла. — Именно из-за таких, как ты, о южных мужчинах и идет дурная слава.
— В самую точку, солнышко, — закивала чернокожая женщина.
— Вот видишь, наша гостья со мной согласна! — торжествующе воскликнула Шайла.
— Она не наша гостья, — отрезал я.
— Если я не ваша гостья, то какого хрена я здесь делаю?! — возмутилась чернокожая женщина.
— Сестринская солидарность, — объяснила Шайла. — Как это прекрасно!
— Могу я помыться? — спросила чернокожая женщина.
— Конечно да, — улыбнулась Шайла, тогда как я, естественно, сказал: «Конечно нет!»
— Ты не забыла, что мы приглашены на коктейль к моему издателю? — поинтересовался я.
— Нет, не забыла, — промурлыкала Шайла. — И готова сопровождать тебя в дом этого неандертальца.
— Ты не возражаешь, если мы не возьмем с собой твою новую подругу? Харриет Табман, — с преувеличенной любезностью спросил я.
— Мне надо пойти на вечеринку со своим настоящим-в-скором-времени-бывшим мужем, — сказала Шайла, обращаясь к женщине. — А вы примите ванну и приведите себя в порядок. Вот вам десять долларов на такси. Оставьте ваше имя и адрес, а на следующей неделе я приглашаю вас на ланч.
— Лично я не собираюсь покидать наш дом, пока здесь эта женщина, — заявил я.
— Нет, собираешься, — звонким голосом ответила Шайла, — или уже завтра я подаю на развод. Это будет первый развод в Южной Каролине по причине белого шовинизма.
Шайла вылетела из дома, и я, с подозрением поглядывая на незнакомку, последовал за ней.
Когда мы вернулись с вечеринки, чернокожая женщина, судя по всему, вымылась, поела, а затем украла все платья Шайлы, все ее туфли и косметику. Она упаковала это в кожаную сумку, которую Шайла подарила мне на день рождения. По пути прихватила лежавшую на секретере возле дверей серебряную безделушку. Вызвала такси и радостно вернулась в подземный мир чернокожего Чарлстона.
И сейчас, стоя с Ли у могилы Шайлы, я даже улыбнулся в душе этому воспоминанию.
— Мы еще в жизни так не смеялись, как тогда, — сказал я. — И потом, когда приезжали в незнакомый европейский город, твоя мама обычно шептала: «Какого хрена? Где это я?»
— А полиция поймала эту женщину? — спросила Ли.
— Твоя мама не разрешила мне вызвать полицию, — ответил я. — Она заявила, что той женщине все эти вещи были нужнее, чем нам. И она даже рада, что та их взяла. А я считал, что этой женщине явно не помешало бы трудовое перевоспитание в местной тюрьме.
— Мама не расстроилась, что женщина украла ее одежду? — поинтересовалась Ли.
— Иногда я встречал ту женщину, разгуливавшую в платьях Шайлы. Как-то раз я был на натурных съемках и видел, как она промышляла неподалеку от моста через реку Купер. Я попросил фотографа сделать снимок. Шайле страшно понравилось, что я поместил это фото в альбом.
— А мама купила себе новую одежду?
— Шайла сразу же поехала в Уотерфорд, в магазин Великого Еврея, рассказала ему о том, что случилось, и вернулась в Чарлстон уже с новым гардеробом. Она всегда могла рассчитывать на Макса.
— Ты очень рассердился на маму? — спросила Ли.
— Поначалу я пришел в ярость. Естественно. Но все, что произошло, было вполне в духе Шайлы. Я мог бы жениться на сотне девушек из Южной Каролины, которые просто перешагнули бы через наркоманку в переулке, но я выбрал единственную девушку в Южной Каролине, которая привезла ее домой.
Ли долго смотрела на могилу матери, а потом наконец спросила:
— Мама была хорошим человеком. Правда, папочка?
— Чудесным, — подтвердил я.
— Как это грустно, папочка, — прошептала Ли. — Самое печальное на свете то, что она ничего обо мне не знает. Не знает, как я выгляжу, не знает, как я могла бы ее любить. Как думаешь, она сейчас на Небесах?
Я опустился на колени на твердую и холодную землю, поцеловал Ли в щеку и убрал с ее лица прядь волос.
— Я знаю, что именно должен был бы тебе сказать, чтобы хоть немного успокоить. Но я уже не раз говорил тебе: у меня сложные отношения с религией. Причем так было всегда. Я даже не знаю, верят ли евреи в рай. Спроси у своего раввина. Спроси у сестры Розарии.
— Я думаю, что мама на Небесах, — произнесла Ли.
— Тогда и я так думаю, — согласился я, и мы, держась за руки, пошли обратно, на секунду остановились, чтобы бросить взгляд на могилу Шайлы, а потом сели в машину.
Я навсегда запомню то посещение могилы Шайлы как одно из самых тяжелых испытаний в своей жизни. В душе я снова жутко разозлился на Шайлу, но даже виду не подал. Бросившись с моста, Шайла не подумала, что рано или поздно наступит такой день, когда мне придется привести нашу дочь, чтобы оплакать эту тяжелую утрату у могилы на еврейском кладбище. Шайла вообще не подумала об очень многом.
После кладбища мы спустились вниз по кольцевой дороге, миновали поворот на Уиллифорд, повернули налево возле муниципального колледжа и, проехав четыре длинных квартала, свернули на дорогу к дому моего детства.
— Вот здесь я и вырос, — сказал я Ли.
— Какой красивый! И какой большой! — воскликнула она. Выйдя из машины, мы подошли к причалу и я показал Ли то место, где река впадает в море. Я хотел, чтобы она поняла, где мы находимся и где лежат острова в океане, на одном из которых мы с ней переночевали. А потом махнул рукой в том направлении, где, по моим представлениям, находится Италия. Мой урок географии, похоже, не слишком заинтересовал Ли, а потому я быстро повел ее назад, мимо зарослей пожухлой болотной травы. В холодные месяцы болото спокойно спало под слоем грязи, но в глубине его уже начинала прорастать молодая трава, острая, как стекло. Болото готовилось к новому наступлению на сушу.
Задняя дверь дома была не заперта, мы вошли в кухню, и я вдохнул запахи, пробудившие во мне самые разные воспоминания детства. Это и запах соленых болот, как, впрочем, и смех моей матери, и аромат свежемолотого кофе, и шипящего на сковороде цыпленка, а еще запах потной спортивной формы, небрежно сваленной в кучу на полу в прачечной, сигаретного дыма и стирального порошка… Все это я живо вспомнил, пока вел Ли за руку.
Мы прошли через темный холл прямо в столовую, где я взял хрустальную солонку и попытался вытрясти немного соли себе на ладонь, но влажность давным-давно сделала свое дело, превратив содержание солонки в крошечное подобие жены Лота. Потом я понюхал перец, но он оказался таким старым, что я даже не чихнул.
Поднявшись наверх, я показал Ли свою спальню, где до сих пор хранились вымпелы, которые я повесил еще ребенком. В пыльном, давно забытом альбоме с вырезками была собрана вся история моей спортивной карьеры от детской лиги до колледжа.
Ли показала на дверь, ведущую на чердак. Как и всех детей, ее притягивали комнаты, забитые старыми сундуками и сломанной мебелью. На чердаке она обнаружила мешок, набитый роликовыми коньками, и кучу странного вида ключей. Пройдя подальше, она откопала альбом с моими младенческими фотографиями. Здесь же был и кларнет, и лодка, и ящик с пришедшими в негодность спасательными жилетами.
Я позволил ей рыться сколько душе угодно, а сам стал рассеянно перелистывать старые альбомы. Газетные страницы уже давно пожелтели, и, когда я наткнулся на фотографию, где Шайла поздравляла Кэйперса после игры, радостно повиснув у него на шее в типичной манере девочек из группы поддержки, мне неожиданно стало невероятно грустно, и я быстро положил альбом на пыльную полку.
Потом мое внимание привлекли книги в бумажных обложках, которые как стояли, так и остались стоять со времен моего детства. Чердак очень долго служил мне убежищем, спасая меня от неустроенности и печали первого этажа. И именно здесь я влюбился в эти книги и в их авторов так сильно, как могут полюбить лишь читающие запоем. Даже самое хорошее кино не могло оказать такого влияния на мои представления о жизни, как хорошая литература. Книги обладали властью в корне изменить мое восприятие мира, а даже самый гениальный фильм — нет.
Я всегда расставлял книги в алфавитном порядке фамилий авторов, и меня завораживала прежде всего магия слов, а не идеи, которые они выражали.
— Привет, Холден Колфилд, — сказал я, взяв с полки книгу. — Встретимся в «Уолдорфе» под часами. Передавай привет Фиби. Ты ведь принц, Холден. Настоящий чертов принц.
Достал «Взгляни на дом свой, ангел», снова прочел великолепную первую страницу и вспомнил, что, когда мне было шестнадцать, меня бросало в жар от этих слов — так действовала на меня нечеловеческая красота языка, которая была и призывом к милосердию, и заклинанием, и ревом бурной реки в темноте.
— Привет, Юджин. Здорово, Бен Гант, — тихо сказал я.
Я знал этих персонажей так хорошо, как будто прожил рядом с ними всю свою жизнь. Литература… Вот что придавало смысл моей жизни.
— Мое почтение, Джен Эйр. Привет, Дэвид Копперфилд. Джейк, рыбалка в Испании и в самом деле хороша. Берегись Озмонда, Изабель Арчер. Будь осторожна, Наташа. Храбро сражайся, князь Андрей. Не замерзни в снегу, Итан Фром. Удачи тебе, Гэтсби. Осторожнее с большими мальчиками, Хрюша. Подумаем об этом завтра, мисс Скарлетт. Бирнамский лес движется, леди Макбет.
Голос Ли вернул меня к действительности:
— С кем это ты разговариваешь, папочка?
— Со своими книжками, — ответил я. — Они все еще здесь, Ли. Я хочу все упаковать и забрать с собой в Рим, чтобы и ты смогла их прочесть.
Я спустился по лестнице в свою спальню и отворил окно, выходящее на крышу и в сад. Древесина покоробилась, и мне пришлось слегка повозиться с рамой. Я вылез на плоскую крышу, откуда открывался прекрасный вид на реку.
— Ты когда-нибудь лазала по деревьям? — спросил я Ли.
— Да, но только не по таким большим, — ответила она. — Это опасно?
— Когда я был ребенком, то как-то об этом не думал, — признался я. — Но сейчас стоит представить, что ты карабкаешься на такое дерево, то мне тут же становится дурно, словно у меня вот-вот случится сердечный приступ.
— Это ваше с мамой дерево? — спросила Ли.
— Оно самое, — ответил я. — Сейчас у него такие мощные ветви, что по ним можно даже ходить, но лучше ползти. Давай соблюдать осторожность.
— А вы с мамой соблюдали осторожность?
— Нет, мы были чокнутыми.
Я аккуратно поставил ногу на ветку, касавшуюся крыши, и перебрался на другую, широкую, словно тропа. Повернувшись, я помог Ли вылезти из окна, и мы медленно поползли по направлению к стволу. Дуб оказался единственным предметом, оставшимся таким же большим, как и в моих детских воспоминаниях. Мы потихоньку добрались до выемки в стволе, где все еще сохранились остатки домика, служившего прекрасным наблюдательным пунктом. Ли была потрясена.
Я указал на белый дом поменьше, там, где заканчивался наш сад. Пожилая женщина подметала крыльцо.
— Это мама Шайлы. Это твоя бабушка, дорогая.
— А могу я с ней поговорить? — прошептала Ли.
— Попробуй окликнуть ее, — предложил я. — Спроси, можем ли мы зайти.
— Как мне ее называть? — поинтересовалась Ли.
— Попробуй — бабуля, — посоветовал я.
— Бабуля! — звонко воскликнула Ли. — Бабуля!
Руфь Фокс удивленно подняла глаза и, отложив метлу, пошла на звук детского голоса.
— Я здесь, бабуля. Это я, Ли, — сказала дочка, помахав Руфь рукой.
— Ли. Ли. Моя Ли, — запинаясь, произнесла Руфь. — Ты с ума сошла! Слезай с дерева. Джек, ты что, своей глупостью хочешь убить мою единственную внучку?!
Мы спустились с дуба, и Ли прыгнула в объятия бабушки. Руфь явно растерялась, прижав к себе Ли, а я почувствовал себя соглядатаем, а потому поспешил отвернуться. И тут возле пруда, где в мое время водилась рыба, я увидел что-то, давным-давно позабытое. Я отошел в сторону и пригляделся к полустертой надписи на камне. Потерев надпись, я прочел: «Великая Собака Чиппи». А золотые рыбки в темной воде пруда были похожи на хризантемы.
Я решил, что покажу Ли могилу Чиппи как-нибудь в другой раз. Оглянувшись, я увидел, что Руфь что-то говорит Ли, а та прямо-таки светится от удовольствия. Интересно, знает ли Джордж Фокс, что его внучка вернулась домой?
Потом я услышал музыку, доносившуюся из дома Фоксов. Это была рапсодия Рахманинова на тему Паганини. То, что Джордж Фокс выбрал именно эту композицию, меня слегка удивило, так как я знал, что он всегда считал ее слишком банальной и сентиментальной. Но знал я и то, что это было любимым произведением Шайлы; Джордж исполнял его сейчас так страстно и так убедительно, что я понял: таким образом он выражает свою любовь к Шайле и благодарит меня за возвращение внучки.
Музыка смолкла. Джордж Фокс показался у окна, и мы посмотрели друг на друга, смерили друг друга взглядом, вновь почувствовав, что нас разделяет глухая стена ненависти.
— Дедуля! — закричала Ли, когда Руфь показала ей на своего мужа.
Общая любовь к Ли смягчила нас, пробудив в душе самое лучшее. Ли взлетела по ступеням в дом Фоксов, а мы с Джорджем кивнули друг другу.
Он беззвучно произнес «спасибо» и исчез из виду.
Назад: Глава двадцать первая
Дальше: Глава двадцать третья

