Глава пятнадцатая
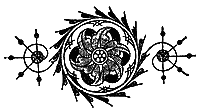
Не знаю отчего, но когда я думаю о местах, где бывал или хотел бы побывать, то чувствую себя счастливее, чем на данный момент. Мне трудно ощущать себя счастливым в настоящем времени. Долгими римскими вечерами, на званых обедах в окружении множества красивых женщин, в легком дыхании которых чувствуется «Пино Гриджио», я вдруг обнаруживал, что мысли уносят меня на запад, несмотря на клятву никогда не возвращаться в родной штат. Я носил на себе Уотерфорд, словно черепаха, вынужденная таскать на спине тяжелый панцирь. Закрывал глаза и, сделавшись невесомым, как это бывает во сне, шел по воздушным улицам Уотерфорда.
Сейчас, когда я действительно шагал по Блю-Херон-драйв к адвокатской конторе своего отца и брата, мне неожиданно захотелось многоголосицы и шума римских улиц. Я быстро поднялся по ступеням и направился к офисам на втором этаже, выглядевшим второразрядными и запущенными.
Даллас что-то деловито писал в блокноте и, только закончив предложение, поднял на меня глаза.
— Привет, Джек. Добро пожаловать к моей машине для печатания денег. Сейчас закончу — и я в твоем распоряжении. — Даллас еще что-то написал, а потом сказал: — Сегодня потерял еще двух клиентов. Они плохо реагируют, когда видят, что основатель фирмы блюет в канаве.
— Даллас, а твоя фирма приносит доход?
— Журнал «Деньги» берет у меня сегодня интервью, — усмехнулся Даллас, и в его голосе прозвучали циничные нотки. — Журнал «Форчун» собирается установить мне памятник перед этим зданием в знак признательности за мой вклад в поток наличности.
— Неужели все так плохо?
— Хорошего мало.
— Отец хоть как-то помогает?
— Когда трезвый. А просыхает он всего пару раз в году, — ответил Даллас. — Печально, потому что у него блестящий юридический ум. Он совсем сдал, когда мама заболела.
— Он сдал более тридцати лет назад, — уточнил я. — Господи, алкоголь не пошел ему на пользу.
— Отец до сих пор любит маму.
— А я думал, что ее новый муж позволил ему увидеть правду, — заметил я и, посмотрев на Далласа, такого представительного и красивого, добавил: — Почему ты не возьмешь дело в свои руки?
— Я ему нужен, Джек. Это все, что у него есть, — ответил Даллас. — Ему больше некуда пойти. Ты, возможно, не заметил, но у нашего отца трагическая судьба.
— А не сам ли он этому поспособствовал? — поинтересовался я.
— Он уважаемый судья, — отрезал Даллас, — а это уже немало. В суде он производит неизгладимое впечатление, когда его мозг не одурманен бурбоном.
— А как там дед? — спросил я. — Справляется, когда янки приезжают поохотиться на оленей?
— Он по-прежнему освежевывает оленя быстрее, чем ты завязываешь шнурки, — с гордостью произнес Даллас. — До того как уедешь, хорошо бы съездить к нему, чтобы отведать жареных устриц.
— Звучит неплохо. Но пусть сперва мама встанет на ноги, — ответил я.
— А что там в больнице? Есть что-нибудь новенькое?
— Я сегодня пока там еще не был. Меня угнетает семейная атмосфера. Дюпри и Ти уже в больнице, а я подойду попозже, — заметил я и добавил: — Мне нужно повидать Макса. Он мне постоянно передает приветы через знакомых.
— Он до сих пор клиент нашей фирмы, — сообщил Даллас. — Макс — кремень.
Я направился было к дверям, но остановился, оглянулся на брата и сказал:
— Если тебе нужны деньги, Даллас, дай мне знать.
— Нет, не нужны, Джек, — ответил Даллас. — Но спасибо за предложение.
Я пошел мимо знакомых магазинов, существованию которых угрожало открытие торговых центров и супермаркетов «Уолл-Март». Отстраненно здоровался с людьми, которых знал всю жизнь, и в ответ получал холодные приветствия. Меня не интересовали вчерашние новости. Маленькие городки тем хороши, что ты там всех знаешь. Но тем они и плохи.
Я перешел улицу к универмагу Макса Русоффа. Поднялся по ступеням в офис. Макс проверял счета с карандашом в руке. Карандаш в век компьютеров — вот вам и ключ к пониманию характера Макса Русоффа.
— Великий Еврей! — воскликнул я, и Макс поднялся поприветствовать меня.
Он стиснул меня в объятиях, и я почувствовал невероятную силу его рук и тела, хотя голова Макса едва доставала мне до груди.
— Ну, Джек, где ж ты был? Макс, как я погляжу, последний у тебя в списке. А должен бы значиться в первой строчке.
Я отступил на шаг и протянул ему руку:
— Пожми ее, старина. Проверим, есть ли еще порох в пороховницах.
— Руки у меня еще не старые, Джек. Только не руки, — улыбнулся Макс.
Передо мной стоял коренастый, крепкий мужчина, телосложением напоминающий пожарный гидрант. Судя по шее, на Максе еще можно было пахать. Он бросал моему деду мешки весом в сто фунтов так, словно это были диванные подушки. Макс казался мне деревом, глубоко вросшим в землю и пустившим мощные корни. Когда я был подростком, то обменяться рукопожатием с Максом было все равно что прищемить руку дверцей «бьюика».
Потом я немножко подрос и все пытался повалить Макса на пол, когда жал ему руку. Я считал, что смогу назвать себя мужчиной, когда Макс запросит пощады. Но этот день так и не пришел: я каждый раз вставал на колени и умолял Макса отпустить правую руку, так как боялся, что он ее сломает.
Мы взялись за руки, и уже через две секунды Макс, как и прежде, заставил меня бухнуться на колени и завопить. Я уселся в кресло, потирая руку. Посмотрел из окна на потрясающий вид на реку.
— Делаешь деньги? — спросил я, зная слабость Макса к примитивному языку американских торговцев.
— Плачу по счетам, — ответил Макс. — Дела хуже некуда.
— А я слышал, ты миллионами ворочаешь, — поддразнил его я.
— Если в следующем году у нас еще будет крыша над головой, я назову это чудом, — сказал Макс. — Как я понимаю, написание кулинарных книг тоже не сделало тебя врагом банкира.
— Да что ты! Мои книги так плохо расходятся, что мне не на что дочке туфли купить.
— Ты продал свыше девяноста тысяч экземпляров, и книги выдержали четырнадцать переизданий, — констатировал Макс. — Думаешь, я за тобой не слежу? Хотя ты и скрываешься, как бандит, в Италии. Вот уж, наверное, налоговики радуются, когда ты выписываешь им чек.
— Думаю, что, когда ты платишь налоги, налоговики тоже не слишком расстраиваются.
— Кстати, о деньгах, — начал Макс. — Майк говорил, что видел тебя. Голливуд просто осыпает моего внука деньгами. Майк сказал тебе, что женился в четвертый раз? И снова на христианской девушке. Снова на красотке. Но как думаешь, может, после четырех раз он наконец-то женится на еврейке и осчастливит своих родителей?
— Майк пытается осчастливить самого себя, — попытался защитить я друга.
— Тогда это самая большая неудача Майка, — покачал головой Макс. — Он водится с мешуганс. Работает только с сумасшедшими. И нанимает только сумасшедших. Или сводит их с ума. Либо одно, либо другое. Мы с женой посетили его в этом Тинселтауне. У всех его детей светлые волосы. Они даже не слышали о синагоге. Он живет в таком доме, какого ты в жизни не видел. Огромный, как наш город. Правда-правда. Жены у него с каждым разом становятся все моложе. Боюсь, в следующий раз он женится на двенадцатилетней. А в его бассейне можно разводить китов.
— Что ж, он молодец, — рассмеялся я.
— Ты лучше скажи: как там твоя мать? Как Люси?
— Лучше, чем мы думали, — ответил я.
— Мне вас всех очень жаль, — вздохнул Макс. — Хотя рад за тебя. Так бы ты в Уотерфорд ни за что не приехал бы. Почему Ли не привез?
— Ты знаешь почему, Макс, — сказал я и, отвернувшись, стал разглядывать рисунок на восточном ковре.
— Раз уж ты здесь, поговори с Руфь и Джорджем.
В ответ я лишь пожал плечами.
— И нечего пожимать плечами, когда с тобой Макс говорит. Скажи, кто дал тебе первую работу?
— Макс Русофф, — ответил я.
— А вторую?
— Макс.
— А третью, четвертую, пятую…
— Макс, Макс, Макс, — улыбнулся я, по достоинству оценив стратегию Макса.
— Макс хорошо относился к Джеку?
— Лучше всех.
— Тогда доставь Максу удовольствие: навести Руфь и Джорджа. Они достаточно настрадались. Они совершили ошибку и теперь это знают. Сам увидишь.
— Это действительно было большой ошибкой, Макс, — проронил я.
— Поговори с ними. Я все устрою. Я знаю, как лучше. Ты еще мальчик, а что могут знать мальчики?
— Я уже давно не мальчик.
— Для меня ты всегда останешься мальчиком, — грустно улыбнулся Макс.
Собираясь уходить, я сказал:
— Прощай, Макс. Я всем в Италии расскажу о Великом Еврее. Расскажу о казаках и погроме, о твоем приезде в Америку.
— Не называй меня больше Великим Евреем, — попросил Макс, и в его голосе послышались боль и замешательство. — Это имя. Оно меня смущает.
— Да ведь тебя все так называют, — удивился я.
— Это имя следует за мной, куда бы я ни направился, — вздохнул Макс. — Словно клещ, что впивается в лесу: подцепить легко, а избавиться трудно.
— Оно произошло от той истории на Украине.
— Да что ты знаешь об Украине и о том, что там было? — запротестовал Макс. — Все преувеличивают.
— И это связано с твоей жизнью в Уотерфорде, — настаивал я. — Дед мне рассказывал, а Сайлас не преувеличивает.
— Ты до сих пор не повидал деда, — пробурчал Макс. — Он обижен.
— Я носился за его женой по всему городу, — ответил я. — Джинни Пени вчера опять сбежала.
— И все же он хочет повидаться с тобой.
— У меня время ограничено, Макс, — сказал я и, увидев, что Макс покачал головой, решил сменить тему: — Покажи мне, чем ты пользовался, Макс. Покажи мне свое оружие.
— Это инструмент, а не оружие.
— Но один раз тебе пришлось использовать его как оружие, — напомнил я. — Я знаю эту историю.
— Да, так оно и есть. Только один раз.
— И это единственная вещь, которую ты привез с родины.
Макс прошел в угол кабинета и стал набирать цифры кодового замка сейфа. Я с детства помню этот сейф. Замок щелкнул, и Макс вынул из сейфа самодельную коробку. Снял крышку, развернул бархатную ткань и вытащил остро наточенный мясницкий нож. Свет упал на лезвие, и оно напомнило мне узкий рот.
— Я привез его из дома, из Киронички, — сказал Макс. — Я тогда был помощником мясника.
— Я хочу услышать эту историю, Макс. Расскажи ее еще раз, — попросил я.
— Никто не знает, куда заведет тебя любовь, — начал Макс свой рассказ, который я мальчиком слышал раз десять, не меньше. Макс родился на Украине в то время, когда все евреи, согласно изданному царем указу о черте оседлости, вынуждены были жить в нищете в двадцати пяти западных регионах, которые и составляли эту черту оседлости.
Родился он 31 марта 1903 года в городке Кироничка, став четвертым ребенком в семье. Каждый лишний рот был для семьи обузой. Так был устроен тогда мир. Бедность никого не украшает, но откладывает на всех свой отпечаток, и Макс не стал исключением. Для него это было особенно ужасно, потому что отец его был профессиональным нищим. Каждый день, кроме субботы, он просил милостыню на узких торговых улочках еврейского квартала. И встреча с Берлом Попрошайкой, оглашавшим улицу визгливыми криками и мольбами, мало кого радовала. В эти унизительные походы он нередко брал с собой детей и заставлял их просить деньги у людей, зарабатывавших себе на жизнь тяжким трудом. И хотя евреи относились к своим нищим лучше, чем представители других конфессий, трудно было пасть ниже, чем Берл.
Семья жила в лачуге в самой нищей части и без того нищего города, где голод был постоянным спутником многих семей. Мать Макса, Пешке, торговала яйцами на открытом рынке городской площади все дни в году и в любую погоду. И суровые зимы избороздили глубокими морщинами ее некрасивое лицо. Рано утром, еще до рассвета, она покупала у крестьян яйца и занимала место за прилавком на площади. У нее имелось разрешение на торговлю, и она платила налог, и это было единственной вещью, которая делалась по закону в их семье. Непросто было продать столько яиц, чтобы хватило на покупку еды на ужин, а потому Пешке приходилось скорбно наблюдать за тем, как ее муж вылезает на площадь и голосит что есть мочи. Ей казалось, что Берл родился на свет только ради того, чтобы позорить ее при всем честном народе.
Первые годы жизни Макса нянчила его сестра Сара. Когда он родился, ей было десять лет, и она должна была заботиться о Максе и семилетней сестренке Тейбл.
Когда Максу исполнилось три, Тейбл отправили работать на пуговичную фабрику, и отец стал брать Макса с собой, приучая его к попрошайничеству. Берл научил Макса подходить к богатым людям с маленькой коробочкой и просить подаяния. Берл только диву давался тому, как легко красивый мальчуган с помощью своей неотразимой улыбки вытягивал деньги у какого-нибудь торговца. Макс вдруг сделался чем-то вроде талисмана, приносящего семье удачу.
Пешке первой услыхала крики с улицы, ведущей к реке. Эти крики сопровождались топотом копыт казачьих лошадей и тревожными возгласами. Торговцы сгребли товар, сколько могли унести, и кинулись врассыпную. В это время казаки выскочили на площадь с шашками наголо. Шашки эти были уже окровавлены.
Берл наблюдал за всем этим с каменной стены, на которую забрался вместе с Максом. Он сгреб ребенка в охапку и спрятался под одним из прилавков. Воспользовавшись возможностью, прихватил с собой четыре апельсина, пять яблок и два спелых банана. Заметив, что на него не обращают внимания, взял и горшочек с медом, шесть свеклин и кочан цветной капусты. Все это распихал по бездонным карманам своей потрепанной, грязной одежды.
Он сидел под прилавком, пока стук копыт не затих вдали. Набравшись храбрости, Берл бросился к улице, ведущей к дому. Он не знал, что два казака занимаются тем же, что и он: тащат съестное, — но неожиданно заметил, как крупный светловолосый казак подбежал к своей лошади, вскочил на нее и, словно кентавр, поскакал прямо на него. Берл побежал, но шансов скрыться у него не было. Тогда он развернулся и поднял сынишку, надеясь, что казак пожалеет его из любви к детям. Макс отчаянно закричал, увидев налитые кровью глаза казака. Шашка прошла под голыми ступнями Макса. Казак мастерским ударом выпотрошил Берла Попрошайку, не причинив при этом вреда его маленькому сыну.
Макс упал прямо на отца, а тот прижал его к себе своими артритными пальцами.
«Прочти по мне каддиш», — сказал он и с этими словами умер.
Сын, залитый кровью отца, бился над ним в истерике. Казак с шашкой наголо стал самым ярким воспоминанием детства Макса Русоффа.
После унизительных похорон мужа в могиле для нищих в мозгу Пешке стало что-то проясняться. Смерть Берла уже не выглядела такой трагичной в глазах населения Киронички после того, как в карманах попрошайки обнаружили ворованные продукты. Одно дело — просить подаяние, и совсем другое — красть у торговцев, спасавшихся от погромщиков. Хотя мать не сказала ему ни слова, Макс понял, что стыд может принести человеку больше вреда, чем любой погром.
Максу исполнилось восемь, и его отправили в ученики к кузнецу Арелю-Силачу. Пять лет Макс помогал Арелю в кузнице: успокаивал лошадей, подносил инструменты, тяжелые ведра со стальными чушками и был на посылках у несчастной и требовательной жены Ареля Айшы. Арель был добрым, терпеливым человеком, помогавшим мальчику учить иврит и Тору.
В тринадцать Макс прошел бар-мицву в компании других мальчиков, таких же бедных, как он. Церемония была короткой, выразительной и простой. На следующий день во время утренней молитвы Макс впервые надел отцовский тфиллин.
В том же году Арель-Силач свалился замертво в своей кузне, и жена его Айша сказала Максу, что теперь он для нее лишний рот и, поскольку она стала вдовой, проблем у нее стало больше, чем зерен в гранате. Мясник Мотл-Нож нехотя взял Макса своим учеником. У Мотла характер был ужасный, зато бизнес приличный. В числе его клиентов были шайнер ид, или достойные евреи, и Мотл пользовался у них репутацией честного, хотя и вспыльчивого человека. Все знали, что Макс готов тяжко работать за маленькую денежку, но мало кто догадывался, что после нескольких лет работы в кузнице, а теперь и у мясника, где он перетаскивал и разделывал туши, Макс превратился в очень сильного молодого человека.
Спустя год, когда его сестра Сара и зять Хаим переехали в Варшаву, Макса позвали на базарную площадь и сообщили, что его мать помешалась, так как банда христианских головорезов напала на ее прилавок и разбила все яйца, которые у нее были для продажи.
Макс прибежал на площадь и услышал, как, перекрывая базарный шум, голосит мать. Макс отвел ее домой, но не мог утихомирить и утешить. Что-то в Пешке разбилось, как одно из ее яиц, и починить это не было никакой возможности.
На площадь Пешке больше не вернулась. Свет в ней погас, и Макс стал ее единственным опекуном. Целый год он все для нее делал: кормил, убирал за ней и, как только выдавалось свободное время, водил на долгие прогулки к реке.
Однажды посреди зимы он проснулся, потому что в лицо ему пахнуло холодным воздухом. Быстро вскочил, зажег свечу и увидел, что матери нет в постели. Одежда ее лежала на своем обычном месте. На пороге Макс окликнул ее и вдруг увидел на глубоком снегу следы босых ног. В тот день в город пришла метель. Макс быстро оделся, бормоча молитвы Богу, чтобы Тот сжалился над матерью. Выбежал, стал звать ее, но попал в молчаливый, замерзший, черно-белый мир. Макс пошел по материнским следам, пока они не исчезли в снегу. Заметался по городу, в отчаянии поминая имя Господа всуе, проклинал Его за то, что Он отнимает у людей надежду, прежде чем дать им спокойно умереть.
На площади Макс нашел свою мертвую нагую мать. Она сидела за прилавком, на том самом месте, где всю жизнь торговала яйцами. Он покрыл лицо Пешке поцелуями, поднял ее и понес по безмолвному городу. Максу каждый день приходилось таскать говяжьи туши, а потому мать показалась ему совсем легкой. Горе его было неизбывно. Он сидел шиву, а мясник Мотл-Нож и его семья заботились о нем. Клиенты Мотла всю неделю приносили Максу еду, пока он оплакивал несчастную мать. К этому моменту вся его родня уже уехала на запад, в Польшу.
Впервые за всю свою короткую жизнь Макс встречал рассветы и закаты, читая красивые поминальные молитвы.
Трудно пришлось евреям Киронички в годы Первой мировой войны, да и после заключения мирного договора легче не стало: царь отрекся от престола, вскоре и он, и его семья были расстреляны, а в России разразилась Гражданская война. Мотл сказал тогда: «Хорошие времена плохи для евреев. Плохие времена для евреев просто ужасны».
Когда город захватили белые, евреи страдали даже больше, чем при большевиках. Погромы участились, толпы анархистов убивали евреев. В еврейском квартале людям было не до сна, ангел смерти держал город на ладони, словно муху.
Но Мотл предупредил Макса и насчет большевиков: «Послушай, Макс, те, кто улыбается и называет тебя „товарищ“, те и есть настоящие убийцы, свиньи. Послушай меня, Макс. Я об этом подумал. Коммунизм — это способ, с помощью которого правительство всех обкрадывает. Капитализм? Коммунизм? Все одно и то же, никакой разницы. И не важно, у кого власть, евреям все равно плохо».
Не успел Мотл закончить свое поучение, как в лавку зашли Рахиль Зингер со своей шестнадцатилетней дочерью Анной. Они хотели подать ростбиф на Шаббат. Абрам Зингер был владельцем фабрики по изготовлению черепицы, на которой трудились семьсот рабочих, и он был самым богатым евреем в Кироничке. Мотл заметил, что его помощник Макс кинулся обслуживать Зингеров, хотя прекрасно знал, что Мотл-Нож лично занимается самыми уважаемыми клиентами.
«Ну-ка разделай ту тушу», — сказал Мотл, отпихнув Макса локтем в сторону.
И тут он увидел, что Макс смотрит на Анну как завороженный. Анна была самой красивой девушкой в еврейском квартале Киронички. Такой красотой славилась в прошлом веке дочь ребе Кушмана. Даже гои признавали, что Анна — самая красивая молодая девушка в городе. Ее лицо, словно магнитом, притягивало глаза мужчин и женщин. И фигура ее была прекрасна, и нрав хорош.
Когда Рахиль и Анна Зингер вышли из магазина, Макс выбежал на порог. Он смотрел, как Анна с матерью идут мимо восхищенной толпы. Мотл рассмеялся, заметив потрясение Макса. Его смешила наивность мальчика, не понимавшего строгих социальных устоев жизни евреев Киронички.
«Послушай, Макс, — сказал он. — Бог устроил мир так, что Анны Зингер никогда не посмотрят на бедных шлемазлов, таких как Макс Русофф. Так устроен мир. Есть яблоки и апельсины, русские и евреи, поляки и русские, кошерная пища и некошерная, свиньи и коровы, раввины и отступники и так далее. Всю жизнь Анна ступала по восточным коврам, пока ты валялся в грязи. К ней ходил учитель: кроме иврита он обучал ее французскому и русскому языкам, а еще математике. На пианино она играет как ангел. Она гордость всех евреев Киронички».
«Она похожа на цветок», — вздохнул Макс и вернулся к своей работе — разделке туш.
«Только нюхать ее будет кто-то другой», — сказал Мотл, правда себе под нос, потому что каждый мужчина испытывал к Анне те же чувства, что и юный Макс.
«Анна уже помолвлена?» — спросил Макс.
«Все шайнер ид приходили просить руки Анны Зингер. А ты давай работай. Думай о филейной части коров, а не женщин. Никому больше не повторяй своих глупостей об Анне Зингер. Над тобой будет смеяться вся рыночная площадь. Можешь говорить только Мотлу. Мотлу можешь доверять».
Четвертого мая 1919 года город проснулся в какой-то странной, неестественной тишине. Жители Киронички поняли, что большевики вот уже третий раз за Гражданскую войну покинули город. Два дня евреи не выходили из дома, прятались и ждали белых, или казаков, или других бандитов. Некоторое время спустя люди начали потихоньку выползать, и в городских кварталах появились признаки осторожного оптимизма.
Прошла неделя, вновь зашумела базарная площадь, торговцы снизили цены, слышался крик петухов и печальный гогот гусей. Девушки покупали красивые гребни, крестьяне, напившись водки, пошатываясь, бродили по улицам. Карманы их были набиты деньгами, вырученными от продажи птицы и скота. Пекарня распространяла по городу запах свежевыпеченного хлеба. Торговец рыбой выставил бак с живыми карпами, а человек, торгующий зонтами, молил Бога о дожде.
Потом неожиданно все примолкли: по мосту галопом проскакала сотня казаков с шашками наголо. Их задачей было сеять ужас и разрушение. Казачья сотня устремилась в погоню за красноармейцами, покинувшими город неделю назад. Кироничка должна была быть наказана за свое преступление — за то, что позволила оккупировать себя вражеским войскам.
Казаки вихрем ворвались на площадь. Восьмидесятилетнюю еврейку, торговавшую изюмом и виноградом, разрубили на месте два казака, скакавших в паре. Уложив на землю восемь бездыханных евреев и пять православных, казаки пустились в погоню за убегавшими от них горожанами. Еще десять евреев не успели добежать до Большой синагоги, где, как они надеялись, Бог должен был их защитить. Но Бог помалкивал, когда их повалили на землю, Бог молчал и когда казаки подожгли Большую синагогу. Сделав это, они галопом вылетели из города и догнали свой полк. Позади себя они оставили семь пылающих костров; двадцать шесть человек было убито, сотни ранены, казалось, даже камни корчились от боли. Со всех улиц слышался стон: отставшие казаки вершили неправедный суд над невинным народом.
Макс закрыл ставни магазина, как только услышал шум и крики. Научил его этому Мотл. С улицы доносились панические вопли соседей, и хотя Максу хотелось выбежать наружу и помочь собратьям-евреям, он помнил об огромном казаке, убившем его отца, и одна только мысль о суровых всадниках наполняла его ужасом.
Потом он услышал, что Мотл колотит в ставни. Макс отворил дверь, и Мотл упал на пол. На спине его была глубокая рана от удара шашкой. Макс втащил мясника в дом и поднял Мотла на прилавок, на который тот выкладывал покупателям мясо.
Тордес-Боб, цирюльник с противоположной стороны улицы, увидел, что Макс приволок Мотла в лавку, и пришел помочь. Хотя специальностью его была стрижка, Тордес умел тащить зубы, ставить пиявки и хорошо разбирался в лекарствах.
«Кровопийцы! Кровопийцы!» — стонал Мотл.
Тордес-Боб принес с собой банку спирта.
«Предупреждаю, Мотл, будет больно, зато рану продезинфицирую. Может, этот бандит вчера своей шашкой свинину резал».
Макс в жизни не слышал, чтобы кто-нибудь кричал так громко, как Мотл, когда спирт попал на открытую рану.
«Даже когда шашкой полоснул, так больно не было!» — вопил Мотл.
«Большая синагога вовсю полыхает, — сообщил Тордес. — Пусть их имена напишут на заднице у Сатаны».
Вдруг в ставни не слишком громко, но настойчиво постучали, и когда Макс отворил дверь, то увидел на пороге истекающую кровью Рахиль Зингер. Кровь капала на лицо с раны на голове.
«Мой муж, — простонала она. — Дочь моя, Анна. Пожалуйста, кто-нибудь… помогите».
И Макс Русофф, тот, что боялся казаков, тот, чья сумасшедшая мать голой замерзла в снегу, сын Берла Попрошайки, Макс, незначительный и незаметный среди евреев Киронички, Макс, тайно влюбленный в прекрасную и недоступную Анну, этот бедный и богобоязненный Макс кивнул несчастной женщине, схватил мясницкий нож и помчался к дому Анны Зингер.
Дом стоял в десяти кварталах от лавки. Макс бежал по узкой кривой улице и не встретил на своем пути ни одной живой души. Евреи Киронички попрятались, как только казаки начали стрелять возле реки. С каждым шагом Макс приближался к привилегированному миру шайнер ид — богатых евреев, которые жили в своих красивых домах и успехами которых гордилась еврейская община. Он несся во весь опор и не испытывал страха, думая только о том, что Анна Зингер может пострадать. У распахнутых ворот дома Зингера Макс помедлил, однако набрался храбрости и отдышался. Он молился Богу, создавшему Самсона и наделившему его силой в сражении с филистимлянами. И тут он услышал крики Анны и ринулся во двор.
На брусчатке лежал Абрам Зингер с простреленным сердцем, а подле него — двое убитых слуг. Один казак, сидя на коне, смотрел, как его товарищ насилует Анну Зингер сразу за открытой дверью дома. Казак на коне смеялся и не заметил приближения помощника мясника, пока Макс не остановился прямо под ним. Казак опустил глаза и произнес лишь одно слово: «Жид». Да, Макс был евреем и был мясником. Макс никогда не убивал человека, и все в его жизни и в его представлениях противилось этому, но, будучи мясником, об анатомии он знал все, и об артериях, и о мягких тканях. С казаками у евреев были давние счеты. Те сделали огромную ошибку, въехав в Кироничку и выбрав для насилия девушку, в которую Макс Русофф был тайно влюблен.
Казак посмотрел вниз со своей огромной лошади и увидел перед собой коренастого невысокого еврея. Он не знал, что Макс одним легким движением вешает на крюк тушу взрослого быка. Казак громко захохотал, удивившись тому, что набожный еврей осмелился выступить против него. Смеющийся казак не знал, что Макс славился среди мясников тем, что всегда держит острым лезвие своего ножа. Казак уже наполовину вытащил из ножен шашку, когда Макс нанес первый удар и отхватил казаку руку прямо по локоть. Смех умолк навсегда. Атака была такой быстрой и неожиданной, что молодой казак поднял кровавую культю и в сгустившихся сумерках недоверчиво, ошарашенно посмотрел на нее, при этом пропустив ужасный второй удар, когда, взявшись за седло, мясник подпрыгнул и вонзил нож ему в горло, прервав едва начавшийся крик.
Позднее свидетели этой сцены — двое слуг, прятавшихся в саду, — признали, что больше всего их напугала яростная атака мясника. Светловолосая голова казака упала на брусчатку, и их охватил ужас.
Анна Зингер снова закричала, и ее крик поразил сердце Макса. Он ворвался в дом. Лицо его было забрызгано русской кровью, а бешенство достигло наивысшей точки, когда он увидел, как второй казак со спущенными до щиколоток штанами с силой погружается в распростертое тело Анны, которая кричала и извивалась под ним.
Макс Русофф схватил казака за волосы и рванул на себя, чуть не сняв с того скальп. Русский заорал, но не успел ответить, так как мясницкий нож снова рассек украинскую темноту. Член казака упал под стул. Затем двумя руками единственным точным ударом Макс вогнал нож в мозг черноволосого казака, и на этом война Макса с казаками была закончена.
Рыдающая Анна Зингер повернулась к лестнице, чтобы скрыть наготу. Подобрав с пола обрывки ее одежды, Макс прикрыл ее как мог, а затем, сдернув со стола скатерть, набросил ее на Анну. Он хотел заговорить с ней, утешить обесчещенную красивую юную девушку, мертвый отец которой лежал за дверью. Однако не смог выдавить ни слова.
Он пошел к двери и увидел, что крестьянин оставил возле ворот дома Зингера телегу, на которой перевозил овощи. Макс подбежал к ней и загнал ее во двор. Казачьи лошади нервно раздували ноздри: они чуяли запах крови своих хозяев. Тут из укрытия, боязливо оглядываясь, вышли двое еврейских слуг. Макс окликнул их.
«Отведите этих лошадей к мясной лавке Мотла», — приказал он.
Макс поднял тела двух казаков и, словно мешки с картофелем, зашвырнул в телегу. Подобрал недостающие части тела — руку и голову, вытащил из-под стула член. Анна к тому времени уже скрылась наверху, и Макс сорвал с окна гостиной занавеску, вышел с ней во двор и накрыл тела казаков. Затем спокойно прошел по темному переулку, ведущему к улице мясников и к лавке Мотла.
Когда раввин Абрам Шор вошел в мясную лавку Мотла, то едва не упал в обморок, увидев в призрачном свете свечи тела двух казаков, сваленных друг на друга возле стены.
«Кто это сделал?» — спросил раввин.
«Я. Макс Русофф».
«Когда казаки узнают об этом, то приведут в наш город тысячу человек и отомстят за смерть своих товарищей».
«Ребе, — низко поклонился уважаемому посетителю Мотл. — Для меня большая честь приветствовать вас в моей скромной лавке. У Макса есть несколько вопросов, на которые ему может ответить только раввин».
«Он подставил всю еврейскую общину, — заявил раввин. — Теперь все в большой опасности. О чем ты хочешь спросить, мясник?»
«Если ребе будет угодно, — начал Макс. — Возможно ли на одну ночь нарушить закон кашрута?»
«Евреи не нарушают закон кашрута из-за какого-то погрома, — ответил раввин. — Сейчас мы с еще большим усердием должны его соблюдать. Бог допустил погром, потому что евреи отступили от законов».
«Но если только на одну ночь, ребе?» — спросил Макс.
«Это лошади казаков, — произнес раввин, поглядев на двух коней, занявших заднюю половину лавки. — Кто поверит, что это лошади евреев? Когда казаки их обнаружат, они перебьют всех евреев».
«Вы наш свидетель, ребе, — сказал Макс. — Не будет никакой жестокости в смерти этих лошадей».
«Я тебя не понимаю», — отозвался раввин.
В этот момент ноги ближайшей к раввину лошади подогнулись, и она отчаянно дернулась. Макс разрезал горло одной лошади, а Мотл — другой, и сделали они это так быстро и умело, что лошади практически ничего не почувствовали — их будто овод укусил, — хотя их яремные вены были разрезаны острыми лезвиями.
«Берегитесь, ребе», — спокойно бросил Макс.
Раввин отступил к двери, и лошади с предсмертным хрипом упали на пол.
«Зачем вы сделали это с бедными созданиями?» — спросил раввин, ибо он был великим ученым и учителем, никогда прежде не видевшим убийства столь больших животных.
«Чтобы казаки никогда не нашли этих лошадей, — ответил Макс. — Если раввин отменит на одну ночь законы, мы накормим кониной всех бедных евреев нашего города».
«Ни в коем случае. Лошадиное мясо трефное, и Левит запрещает евреям есть мясо животного, которое не жует жвачку».
«Только на одну ночь, ребе, — попросил Мотл. — Мы пошлем мясо в самые бедные дома».
«Ни на одну ночь. Ни на одну секунду. Нельзя отменять кашрут только потому, что мясник из Киронички сошел с ума. Вы думаете, что я слишком строг, но строг не я, а Тора».
«Еще один вопрос, ребе», — робко подал голос Макс.
«Спрашивай, — сказал раввин. — Надеюсь, ты не станешь просить моего разрешения съесть казаков».
«Мой вопрос действительно касается казаков, ребе, — сказал Макс. — Когда евреи завтра будут хоронить мертвых на еврейском кладбище, можем ли мы похоронить и казаков?»
«Вы хотите похоронить этих нечистых рядом с мучениками?! — возмутился раввин Абрам Шор. — Неужели вы осмелитесь оскорбить кости наших предков и похороните рядом такую нечисть? Об этом не может быть и речи».
«Как нам тогда поступить с казаками, ребе?» — спросил Мотл.
«Какое мне дело до казаков?!» — воскликнул раввин.
«Но ведь раввин сам сказал, что из-за этих казаков в наш город придет тысяча других».
«Я понял тебя, мясник. Пусть гробовщик Мачулат сделает им гроб. Как только гроб заколотят, они станут трупами, а не казаками. Ночью я подумаю над этим и приду к решению. Скажи мне, мясник, — взглянул на Макса раввин, — знал ли ты, что внутри тебя сидит такой зверь?»
«Нет, ребе», — со стыдом признался Макс.
«Ты такой же жестокий, как поляк или литовец, — кивнул раввин, поглядев на трупы. — Ты животное, как наихудший из гоев. Мне стыдно за всех евреев, когда я смотрю на эти трупы. Мы миролюбивый, добрый народ, и я содрогаюсь, когда думаю, что мы, евреи, произвели на свет такого злобного дикаря».
«Казак убил моего отца», — проронил Макс.
«Макс — набожный еврей, ребе», — вступился за помощника Мотл.
«Ты должен образумить этого еврея, — ответил раввин. — Что ты сказал этому воинственному еврею, когда он привез в твою лавку двух мертвых казаков? Я вижу, что он уважает тебя, Мотл. Что ты ему сказал? Как ты наказал его?»
Мотл оглянулся на Макса и снова перевел взгляд на раввина.
«Первое, что я сказал Максу, когда увидел казаков… Прости меня, ребе, но я сказал: „Мазл тов“».
Когда раввин Шор ушел, из соседних лавок явились пятеро других мясников, вооруженных длинными ножами и секачами. Все знали, какую задачу поставили перед собой Мотл и Макс на эту ночь, и они вступили в братство своей грязной и унылой профессии: это была молчаливая солидарность людей, зарабатывающих себе на жизнь разделыванием животных. Эти сильные, работящие люди в белых передниках понимали необходимость избавиться от всех следов пребывания в лавке тел казаков и их лошадей. Трое мужчин подошли к лошади, которую убил Макс, а двое других стали помогать Мотлу.
Красивые лошади постепенно исчезали, пока мясники невозмутимо занимались своим ремеслом. Они работали слаженно, разделывая конские туши с удивительной сноровкой и быстротой.
Макс заметил жалкую черную собаку, подобострастно глядевшую на них. Она часто ходила по рынку, выпрашивая подачку. Мотл тоже ее заметил и хотел отогнать тощее животное, но Макс остановил его.
«Сегодня мы можем ее накормить», — сказал он.
И вот так уличные собаки и кошки всласть полакомились кониной в эту ночь. Мясники Киронички надолго запомнили те часы: благодаря их высокому мастерству лошади покинули лавку в виде котлет и отбивных, а оставшейся требухой можно было неделю кормить домашних питомцев. Закончив работу, мясники тщательно отмыли лавку от лошадиной крови, и никто теперь не догадался бы, что в лавке Мотла были разделаны две кавалерийские лошади. Мясники могли по праву гордиться собой.
На следующий день скорбная процессия из сотен евреев направилась в сторону еврейского кладбища в двух милях от города. От рук казаков погибли двадцать шесть евреев, но на плечах еврейских мужчин лежали двадцать восемь гробов. Раввин Абрам Шор нашел решение проблемы утилизации тел двух убитых казаков, и решение это оказалось наиболее функциональным.
Мясники Киронички влились в скорбную толпу с двумя гробами на плечах, а потом, присоединившись к процессии, состоящей более чем из пятисот плакальщиков, перешли через мост и направились к полям цветущих маков.
Толпа хлынула в ворота кладбища, но народу было так много, что некоторым пришлось смотреть на погребение со стороны. Пока евреи хоронили своих мертвецов на кладбище, Макс и мясники зарыли в землю за стеной двух казаков и притоптали пыль над их могилами. Толпа плакальщиков в черных одеждах позволила скрыть их работу от посторонних глаз. По окончании церемонии на обратном пути все евреи прошли по могилам казаков, и каждый, проходя, плевал себе под ноги. Накануне казаки пролили еврейскую кровь, но отправились к Создателю, облитые еврейской слюной.
Через месяц Красная армия снова взяла Кироничку. В те времена многие люди канули без вести в результате пагубной неразберихи, которая возникает, когда брат идет на брата. Россия потеряла тысячи неизвестных солдат, в их число вошли и два безымянных казака.
Однако жизнь Макса Русоффа навсегда изменилась. Начиная с этого дня все евреи говорили о нем со страхом, смешанным с отвращением и священным ужасом. Никто из них не жалел казаков, однако евреев потряс способ их умерщвления. В их сознании Макс так и остался человеком, выбежавшим в ночь с мясницким ножом, чтобы вонзить его в горло казака.
Городские евреи стали сторониться Макса, и бизнес Мотла сильно пострадал. Рахиль Зингер больше уже ни разу не переступила порог лавки Мотла. Макс пытался навестить Анну через несколько недель после похорон ее отца: хотел справиться о ее здоровье, однако слуга грубо выставил его из дома, дав понять, что он здесь нежелательное лицо. Максу стало ясно, что в гости его не позовут. «А если и позовут, то только во время погромов», — сказал себе Макс, вернувшись в лавку. Через полгода объявили о помолвке Анны Зингер с богатым торговцем мехами из Одессы, и Анна Зингер навсегда исчезла из жизни Макса Русоффа.
Вскоре после свадьбы Анны раввин Абрам Шор пригласил к себе Макса.
«Я так понимаю, что ты разрушил бизнес Мотла», — начал разговор раввин.
«Верно, ребе, люди перестали ходить в лавку», — признался Макс.
«Макс, ты приносишь несчастье евреям Киронички, — сказал раввин. — Ты словно диббук, который вошел в тело евреев, ты словно злой дух, который поселился во всех нас. Недавно одна женщина увидела, как ее сыновья играют на улице. У одного из них был нож, и он делал вид, что хочет заколоть своего младшего брата. Она выпорола мальчика и спросила, что это за игра такая. Тот ответил, что изображает Макса, помощника мясника, а его брат выступает в роли казака».
«Я виноват, ребе», — потупился Макс.
«Даже детей коснулась эта зараза. И все же я хотел бы знать, Макс, откуда в тебе эта тяга к насилию?»
«Я был влюблен в Анну Зингер. Тайно», — признался Макс.
Смех раввина прогремел на всю синагогу.
«Помощник мясника влюбился в дочь Абрама Зингера?» — не поверил своим ушам раввин.
«Я не мечтал жениться на ней, ребе, — объяснил Макс. — Я просто любил ее. Мотл объяснил, что мне не на что надеяться».
«Абрам вышвырнул бы тебя из дома, если б ты осмелился посвататься», — заявил раввин.
«Во всяком случае, не в ночь погрома, — ответил Макс. — В ту ночь Абрам Зингер приветствовал бы меня как равного».
«Ты видел, как совершается насилие над его дочерью, — произнес раввин. — Абраму это не понравилось бы».
«Я убил насильника его дочери, — ответил Макс. — Абраму это очень понравилось бы».
«В ту ночь ты вел себя как дикарь», — упрекнул Макса раввин.
«В ту ночь я вел себя как еврей», — возразил Макс.
«Еврей, а жестокости больше, чем у гоя», — сказал раввин.
«Еврей, который не позволяет насиловать еврейскую девушку», — отрезал Макс.
«Тебе нельзя более оставаться в Кироничке, мясник. Ты смутил сердца местных евреев».
«Я поступлю так, как говорит раввин», — ответил Макс.
«Я хочу, чтобы ты навсегда оставил Кироничку. Поезжай в Польшу. Поезжай в Америку. Куда угодно».
«У меня нет денег на дорогу», — пожал плечами Макс.
«Ко мне приходила мать Анны Зингер, — сказал раввин. — Она даст тебе денег на дорогу. Семья Зингер нервничает из-за того, что ты до сих пор в городе. У Абрама много могущественных братьев. Они боятся, а вдруг ты расскажешь о том, что видел в ту ночь».
«Я никому не сказал ни слова», — обронил Макс.
«Братья Зингер не верят в то, что помощник мясника станет держать рот на замке. Все знают, что у бедняков длинные языки».
«Я не видел братьев Зингер в ночь погрома», — произнес Макс.
«Они были дома, молились за спасение наших людей, как и подобает правоверным евреям», — объяснил раввин.
«Я тоже молился, — потупился Макс. — Только мои молитвы приняли другую форму».
«Богохульник. Разве можно убийство назвать молитвой?!» — возмутился раввин.
«Прошу прощения, ребе. Я человек малограмотный».
Вот так Макс Русофф уехал из Киронички. Пустился в долгое и опасное путешествие к польской границе. Там он сел на грузовое судно, идущее в Америку. Во время путешествия в набитом людьми трюме Макс познакомился с учителем английского языка из Кракова. Мойше Цукерман дал Максу первые уроки, и, к удивлению их обоих, Макс проявил способности к языкам.
Ночью Макс стоял на палубе, смотрел на звезды и повторял новые слова чужого языка, на котором вскоре должен был заговорить. Некому было встретить Макса на острове Эллис, и это отличало его от большинства других евреев, ехавших вместе с ним на судне. Но Мойше Цукерман понимал, что Макс не может просто так высадиться в Америке, не зная, куда податься. И он сделал для него все: временно поселил его в доме двоюродного брата и наконец, на вокзале в Пенсильвании, посадил его на поезд, идущий в Южную Каролину, где, как он сказал Максу, красивая земля и нет гетто. Макс ехал ночью по Восточному побережью и старался обуздать свои страхи, поскольку знал, что обратной дороги нет. Чем дальше на юг шел поезд, тем хуже он понимал слова нового языка. К тому времени как поезд прибыл в Чарлстон, вокруг уже звучала южная речь, слова в которой были смягчены и словно бы вытянуты.
На вокзале его встретил Генри Риттенберг, безупречно одетый мужчина, немало удививший Макса тем, что обратился к нему на идиш. В глазах Макса элегантно одетый Генри с его учтивыми манерами выглядел как настоящий американец. Евреи Чарлстона оказались на редкость добры к попавшим в их среду странным евреям, а Генри Риттенберг обратился к своему другу Якову Поповски, у которого где-то на бескрайних просторах к югу от границы с Джорджией недавно затерялся коммивояжер.
Спустя неделю Макс вышел из Чарлстона, нагруженный как верблюд двумя тяжелыми мешками.
Первый год Макс ходил по пустынным дорогам и лесам. Для южан он был вроде экзотического, диковинного человека, который приходил без приглашения, когда они на мулах пахали поля или ухаживали за птицей, копошащейся на лишенных растительности дворах. Поначалу его английский был примитивным и смешным, и Максу приходилось выкладывать перед хозяйками свои товары, давая им пощупать побрякушки и щетки.
«Вам нравится. Вы покупать», — говорил он с сильным акцентом, пугая некоторых женщин, особенно чернокожих.
Однако в лице Макса было нечто, внушавшее доверие женщинам, обитавшим вдоль шоссе номер 17. Языком он стал владеть лучше и успел примелькаться в этих краях. Работящие одинокие люди постепенно стали с нетерпением ждать посещений Макса Русоффа и даже радоваться им, причем дети фермеров полюбили его с самого начала. Он всегда что-то приносил им в своем мешке и бесплатно раздавал детишкам. Кому ленточку, кому — конфетку.
В обмен на товар Макс получал ночлег в амбаре и яйца на завтрак. Домохозяйки начали называть его «яичным человеком», потому что он отказывался есть приготовленную ими пищу, за исключением сваренных вкрутую яиц, так как крутые яйца оставались единственной кошерной пищей, которую он, как правоверный еврей, мог себе позволить. Увидев, как он сильно выделяется на фоне горожан и даже евреев Чарлстона, Макс срезал пейсы и сбрил бороду. Но стать американцем на Юге оказалось гораздо более трудным делом, чем представлял себе Макс.
К концу первого года Макс купил лошадь и крытую повозку, и бизнес его стал больше, так же как и его амбиции.
Теперь, имея в своем распоряжении лошадь и повозку, он мог ездить все дальше и таким образом на следующий год попал в городок на реке Уотерфорд, рискнув пойти еще дальше и посетить морские острова. В Уотерфорде он медленно передвигался по городским улицам и брал на заметку, какие магазины есть в городе, а каких нет. Он расспрашивал горожан, которые отвечали ему вежливо, но отстраненно, поскольку южане всегда именно так разговаривают с чужаками. Иногда они смеялись над его акцентом, но Макс не обижался.
Однажды, на второй год жизни в Южной Каролине, Макс ехал на своей повозке по самой длинной дороге острова Святого Михаила, как вдруг какой-то человек окликнул его с другого берега соленого ручья.
«Эй! — крикнул ему молодой широкоплечий мужчина с приятным загорелым лицом. — Вы еврей?»
«Да», — крикнул в ответ Макс.
«Слыхал про вас. Мне кое-что нужно приобрести, — сказал молодой человек. — Подождите меня, я подгребу к вам через несколько минут».
«Будьте моим гостем, — произнес Макс, гордившийся тем, что с каждым днем расширял свой словарный запас. — Времени у меня хоть отбавляй».
Человек приплыл к нему на деревянной плоскодонке, вышел и пожал Максу руку.
«Меня зовут Макс Русофф».
«А меня — Сайлас Макколл. Моя жена — Джинни Пени. Оставайтесь у нас на ночь. Мы еще ни разу не видели евреев, людей Книги».
«Я вам не доставлю хлопот», — улыбнулся Макс.
«Джинни Пени уже сварила дюжину яиц, — сообщил Сайлас, взяв лошадь Макса под узцы. — Вам следует открыть лавку и осесть здесь, — добавил Сайлас. — Вам разве не надоело ходить по домам?»
«Есть немного», — сознался Макс.
Вот так Макс Русофф встретил в Новом Свете своего лучшего друга, и так судьба одной еврейской семьи сплелась с судьбой христианской четы. Неисповедимы пути Господни, и эта нечаянная встреча изменила их жизни. И тот и другой знали, что такое одиночество, и ждали друг друга всю свою жизнь. Не прошло и года, как Макс открыл в Уотерфорде свою первую лавку и привез в Америку невесту — Эсфирь, дочь мясника Мотла. Сайлас и Джинни Пени Макколл устроили им пышную свадьбу, где присутствовали лучшие люди Уотерфорда.
В 1968 году Макс и Эсфирь ездили в Израиль, в Яд ва-Шем, национальный мемориал холокоста. Среди имен замученных евреев Макс обнаружил и имя Анны Зингер по мужу. Она была среди евреев Киронички, которых эсэсовцы привели к огромной яме и расстреляли из автоматов. Целый час пробыл Макс в Яд ва-Шем, оплакивая свою невинную и несбыточную любовь к Анне Зингер. В этой чистой любви к прекрасной девушке была лучшая часть его души. Хотя ему тогда было уже шестьдесят пять, он все еще помнил себя шестнадцатилетним, сраженным наповал прелестью и очарованием красивой ясноглазой еврейской девушки. Ему нестерпима была одна мысль о том, что Анну, обнаженную и униженную, обесчещенную и неоплаканную, бросили в безымянную могилу. Он так и не сказал Эсфирь, что нашел имя Анны. В ту же ночь, когда Макс отыскал ее имя в списке мертвых, ему приснился сон.
Ему снилось, как Анну Зингер, ее мужа и их детей выгоняют из дома нацистские изверги. Он видел страх на лице Анны, тот же страх, который заметил в ту ночь, когда ее насиловали в собственном доме, а мертвый отец лежал во дворе. По ее лицу Макс понял: Анна знает, что ей придется умереть за свое преступление, за то, что она представительница богоизбранного народа. Волосы ее темным огнем спускались на плечи. Держа за руки детей, она прошла сквозь строй ухмылявшихся солдат и приблизилась к краю ямы.
В его сне Анна внезапно начала танцевать, но танца этого не видели ни солдаты, ни другие осужденные на смерть евреи. Максу понадобилось несколько секунд немого удивления, чтобы понять, что Анна Зингер танцует для него, через годы и воспоминания признавая этого одинокого, оболганного еврейского мальчика, который любил ее издалека, но так страстно, что пронес эту любовь через всю жизнь. Она танцевала, и птицы запели, в воздухе запахло мятой и клевером, а тем временем евреев подтолкнули к краю ямы, поставили на колени и расстреляли.
Неожиданно Макс увидел, что вдохновило на танец Анну Зингер. Рядом с ямой, на узкой улице Киронички, стояла мясная лавка, и на пороге появился сильный шестнадцатилетний мясник, чтобы проверить, что происходит. Он вышел на солнце, мускулистый и застенчивый. Увидев танцующую Анну, юный Макс остановился и низко поклонился. Он тоже охотно станцевал бы, только у него была очень важная работа.
Он посмотрел на нее и увидел, что Анна превратилась в девочку, которая когда-то вместе с матерью вошла в лавку. Она знала, что Макс влюблен в нее, и, имея широкий выбор, на сей раз сделала правильный. Стоя на краю ямы, она крикнула ему: «Да-да, Макс, да, навсегда, Макс, мой мститель, мой защитник, моя любовь!»
Макс Русофф подошел к двум трусливым и безжалостным немцам, расстреливавшим беспомощных женщин, детей и раввинов, и стал резать им головы, как овцам, двумя мощными ударами. Затем двинулся вдоль плотной шеренги нацистов со своим мясницким ножом, последовательно врубаясь в фашистские мозги, до самых глазных яблок, и прокладывая кровавую дорогу к своей любви. Его сильные руки уже были по локоть в крови немцев, когда он встал перед ней, склонил голову и, как свадебный дар, сложил к ее ногам батальон убитых нацистов.
Затем кровь исчезла, остался только солнечный свет, и Анна нежно поцеловала Макса, пригласив на последний танец. Вальсируя, они прошлись до мясной лавки и устремились вперед, по ту сторону времени. И так, держа друг друга в объятиях, они достигли райских полей, где звезды сияли, словно любовное письмо от милосердного Бога.
Макса разбудили звуки автоматной очереди и зрелище прошитого пулей тела Анны Зингер, падавшей вместе с детьми в глубокую яму.
Вернувшись в Уотерфорд, Макс пошел в синагогу, которую собственноручно помогал строить, и прочел каддиш по Анне Зингер.
Он молился о ее душе на американском Юге. К этому времени горожане стали называть его Великим Евреем не за то, что он сделал для мира, а за то, что он сделал для города. Когда он впервые отправился в Израиль, то поехал туда уже в качестве мэра Уотерфорда.
Назад: Глава четырнадцатая
Дальше: Глава шестнадцатая

