Глава четырнадцатая
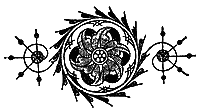
На следующий день чудесным солнечным утром я ехал по двухполосной дороге, проложенной через болота и леса по берегам убегающих к Атлантическому океану рек. Чернокожий мужчина забрасывал с моста сеть на креветок. Сеть закрутилась, словно юбка балерины, безупречный веревочный круг ударил по воде и быстро ушел на глубину. Я представил себе, как сеть опускается на илистое дно, захватывая в ловушку попадавшихся на пути кефаль, моллюсков и крабов. Интересно, сохранилась ли моя сеть и хватит ли мне терпения набить переносной холодильник для пива крупными и юркими весенними креветками?
На мостике, перекинутом через Бейзмор-крик, я вспомнил о карте, висевшей в кабинете отцовского дома. Это была проекция Меркатора, на нее был нанесен Гастон-Саунд, включавший реку Уотерфорд и сам Уотерфорд. На карте были обозначены морские границы и прилегающая территория. Здесь я впервые узнал о том, что в подборе полезной информации есть своя красота. Город расположен на широте 32°15′, средняя высота подъема воды в реке Уотерфорд составляет 7, 5 фута. Мелкие, но важные числа накрыли каналы и реки педантично выстроенным графическим изображением. Каждая цифра сообщала глубину канала при низком подъеме воды. Мне нравилось изучать карту, потому что она объясняла мне мое место на земле. Это была пропетая малой родине серенада, выраженный в цифрах хвалебный псалом. Я переезжал с острова на остров, двигался мимо соленых озер, меняющих представление человека о зеленом цвете, мимо салонов красоты и неработающих автозаправок. Я видел каждую деталь той карты и ощущал резкий запах болота.
На острове Орион я остановился возле ворот и сообщил сторожихе свое имя. Она окинула меня свирепым взглядом, словно я приехал ограбить остров и увезти все серебро и фарфор. Ворча, выдала мне временный пропуск и объяснила, как проехать к дому Эллиотов.
— Не вздумайте кормить аллигаторов, — предупредила она.
— А что мне делать с дохлой собакой в багажнике? — спросил я и быстро отъехал от ворот.
Эллиоты жили в красивом двухэтажном доме на берегу океана. Я постучал в дверь, подождал несколько минут. Дверь мне открыла Селестина Эллиот и кинулась в мои объятия.
— Ты все такой же большой, — сказала она.
— А вы все такая же красивая, — ответил я.
— Неправда. В следующем месяце мне исполнится шестьдесят восемь, — заявила Селестина и была не права, так как ее лицо сохранило естественную миловидность, над которой не властно время.
Селестину Эллиот всегда считали образцовой женой военного. Она помогла своему мужу сделать головокружительную карьеру в Корпусе морской пехоты. Она была блестящей женщиной, причем не прикладывая к этому особых усилий, и ее муж выглядел гораздо значительнее, чем на самом деле, а все потому, что рядом с ним была такая необыкновенная спутница жизни. Селестина обладала даром привлекать всеобщее внимание, особенно когда говорила с мужчинами, способными продвинуть мужа по службе.
Многие люди, включая саму Селестину, считали, что генерал Ремберт Эллиот обязательно стал бы командующим Корпусом морской пехоты, если бы у него не было детей. Его единственный ребенок Джордан причинил его карьере больше ущерба, чем японская пуля, едва не убившая генерала в сражении при Тараве.
Селестина провела меня в гостиную и налила кофе, а я смотрел на океан и корабль, прокладывающий себе путь на север, к Чарлстону.
Мы уселись, обменялись любезностями, после чего я подал ей элегантную сумку от Фенди, в которой лежали два письма и подарки от ее сына.
— Селестина, возникли проблемы, — тихо произнес я.
Прежде чем она успела ответить, за моей спиной послышался глубокий мужской голос:
— И ты даже не представляешь себе какие, дорогая.
Ремберт Эллиот — генерал с головы до ног — посмотрел на жену голубыми глазами, чистыми и ясными, как морской воздух. Он стоял на пороге у заднего входа в дом. Селестина страшно побледнела, а я спокойно взял из ее рук письма.
— Дай мне эти письма, Джек, — приказал генерал.
— Они мои. Это я их написал, — отрезал я, вставая из-за стола.
— Ты лжец. И ты, и моя жена, вы оба лжецы, — вспыхнул генерал, не в силах скрыть свой гнев и явно потеряв лицо. — Ты предательница, Селестина. Моя собственная жена — предательница.
— Вы же должны играть в гольф в Хилтон-Хед, генерал. Что случилось? — спросил я, неприятно удивленный его возвращению в неурочное время.
— Хотел застукать вас на месте преступления, — заявил генерал.
— Стало быть, вы солгали. Вступайте в наш клуб лжецов.
— Кэйперс Миддлтон дал мне фотографии, сделанные в Риме, — сказал генерал.
Он хотел передать снимки жене, но, передумав, швырнул их на пол. Селестина молча подняла фотографии. Аккуратность была ее второй натурой, даже во время самых яростных вспышек мужа. Она задержала взгляд на одной фотографии с запечатленным на ней сыном — бледным и аскетичным.
И тут Ремберт Эллиот сделал то, что удивило не только его жену, но и меня. Он отступил на шаг и застыл в нерешительности, пока Селестина поднимала разбросанные по полу снимки, не зная, чего еще ожидать от мужа. Генерал не боялся брать штурмом любое береговое укрепление, но укрепление, оказавшееся сейчас перед ним, было слишком опасным, чтобы атаковать. Здесь требовалась тонкая стратегия, а в военной академии не учили тонкостям борьбы с собственной семьей. Даже его жена, смотревшая на него сейчас с вызовом, казалась врагом, проникшим в его дом, несмотря на колючую проволоку, натянутую на кухне.
Поскольку этот человек действия продемонстрировал свою полную неспособность к действию, я не преминул воспользоваться нехарактерным для него замешательством. Оставив его стоять столбом, я прошел в ванную на первом этаже, разорвал письма Джордана на мелкие кусочки и спустил в унитаз. Когда я вернулся, Селестина и генерал сидели на стульях, обмениваясь подозрительными взглядами.
— Ты заставила меня сидеть на торжественном богослужении, посвященном памяти опозорившего меня сына, при этом прекрасно зная, что он жив?! — возмутился генерал.
— Я считала, что он умер, — проронила Селестина.
— Почему ты не сказала мне, когда узнала?
— Потому что вы его ненавидели, генерал, — ответил я за нее. — Вы всегда его ненавидели, и Джордан это знал, и Селестина это знала, и я это знал, и вы это знали. Вот поэтому-то она вам и не сказала.
— Я имел право знать! — рассердился генерал. — Ты была просто обязана сообщить мне.
— Я же не служу в Корпусе морской пехоты, дорогой. Ты как-то все время об этом забываешь.
— Это был твой долг как жены, — уточнил генерал.
— Давай лучше поговорим о твоем долге отца, — вспыхнула Селестина. — Поговорим о том, как ты относился к сыну с первого дня его рождения. Как ты на моих глазах обижал и мучил нашего чудесного, золотого мальчика.
— Он был слишком изнежен, — заявил генерал. — Ты знаешь, я все могу стерпеть, но только не это.
— Он не был изнежен, — возразила она. — У него просто мягкий характер, а ты этого не понял.
— Он вырос бы одним из них, если бы я позволил тебе его воспитывать, — отозвался ее муж с презрением в голосе.
— Одним из них? — не понял я.
— Гомосексуалистом, — объяснила Селестина.
— А-а! Ужас-ужас, — подхватил я. — Лучше уж умереть.
— Вот-вот, — поддержала меня Селестина.
— Я не стал бы так давить на Джордана, — сказал генерал, — если б ты родила еще детей.
— Конечно, как всегда, я виновата.
— Из одинокого волка никогда не выйдет хорошего солдата, — заметил генерал. — Такие люди опасны для армии. Они не могут подавить свое эго на благо коллектива.
— Совсем как ты, дорогой, — бросила Селестина. — Когда разговор заходит о семье.
— Ты никогда не понимала военных.
— Я слишком хорошо их понимала, — рассмеялась Селестина.
— Четырнадцать лет я считал, что мой сын мертв, — произнес генерал и, повернувшись ко мне, добавил: — И что, по-твоему, я должен был чувствовать?
— Радость, — предположил я.
— Я уже оповестил соответствующие органы, — заявил генерал.
— Что ты им сказал? — осведомилась Селестина.
— Я сообщил им название церкви, в которой были сделаны снимки. И дал понять, что, возможно, он совершил преступление. У меня к тебе много вопросов, Джек.
— Вот только ответов у меня мало, генерал, — отозвался я.
— Насколько я понимаю, ты уничтожил эти письма? — спросил он.
— Лишь мои записки к Ледар Энсли, — сказал я.
— Передай ей, что я хотела бы с ней увидеться, — вмешалась в разговор Селестина. — Слышала, что она сейчас в городе.
— Джек, — обратился ко мне генерал, — я мог бы приказать арестовать тебя за укрывательство беглого преступника.
— Разумеется, могли бы, — ответил я. — Правда, в преступлении никого не обвиняли. А преступник, которого вы подозреваете, похоже, мертв.
— Так ты отрицаешь, что на этих фотографиях мой сын? — спросил генерал.
— В Италии я общаюсь только с теми исповедниками, которые говорят по-английски, — ответил я.
— Но это же Джордан? — продолжал настаивать на своем генерал, но голос его предательски дрожал.
— Ничего не могу сказать, — пожал я плечами.
— Или просто не хочешь, — нахмурился он. — Селестина?
— Дорогой, я понятия не имею, о чем ты толкуешь! — воскликнула она.
— Все эти поездки в Италию. Я думал, ты моталась туда из любви к искусству, — произнес генерал.
— Искусство — всегда одна из целей поездки, — отозвалась Селестина.
— Ненавижу музеи, — повернулся ко мне генерал Эллиот. — Там-то она и встречалась с Джорданом. Теперь мне все ясно.
Я вгляделся в лицо генерала и на мгновение даже пожалел этого эмоционально ограниченного, натянутого как струна человека. Рот тонкий, словно лезвие ножа. Коренастый, крепко сбитый. Глаза почти семидесятилетнего человека горели голубым пламенем, приводящим в ужас мужчин и чарующим женщин. Люди всегда боялись Ремберта Эллиота, и генерал был этим весьма доволен. В военное время Америка остро нуждается именно в таких людях, но, подписав мирный договор, не знает, куда их девать.
Как и другие мужчины, посвятившие себя искусству уничтожения вражеских солдат, Ремберт Эллиот оказался отвратительным мужем и отцом. К жене он относился как к адъютанту, пришедшему с плохим известием. Джордан воспитывался на поцелуях матери и тумаках отца.
Генерал тяжело поднялся и снова взял в руки фотографии.
— Этот священник… Он что же, мой сын? — поинтересовался он у меня.
— Откуда мне знать? — ответил я. — Это мой исповедник. Вам следовало бы почаще ходить в церковь, генерал. Тогда увидели бы маленький экран, отделяющий священника от несчастного грешника. Эта преграда не дает им ясно увидеть друг друга.
— Так ты утверждаешь, что это не мой сын? — настаивал генерал.
— Это мой исповедник, — повторил я. — Ни один суд не сможет заставить исповедника свидетельствовать против меня, и наоборот.
— Думаю, что это все же мой сын.
— Замечательно! Примите мои поздравления. Наконец-то вы вместе. Разве вам не нравится такой счастливый конец?
Селестина подошла к мужу и заглянула ему в глаза:
— Это Джордан. Каждый раз, когда мы ездили в Рим, я встречалась с ним, а тебе говорила, что хожу по магазинам.
— Лгунья, лгунья, — прошептал генерал.
— Нет, дорогой, — тихо произнесла Селестина. — Мать, мать.
— А ты, стало быть, выступал в роли курьера, — повернулся ко мне генерал.
— Можно и так сказать, — ответил я.
— Я растил из него морского пехотинца, — с горечью обронил генерал.
— По мне, такое воспитание больше смахивает на Архипелаг ГУЛАГ, — заметил я.
— Джордан достиг совершеннолетия в шестидесятые, — произнес он. — И это его погубило. Откуда вам знать о верности и патриотизме или о моральных ценностях и этике!
— Спросите лучше, что мы знаем о насилии над детьми, — возмутился я.
— Ваше поколение — поколение лжецов и трусов. Вы пренебрегли своим долгом перед отечеством, когда Америка в вас нуждалась.
— Вчера у меня был такой же глупый разговор с Кэйперсом Миддлтоном, — сказал я. — Позвольте мне подвести итог: плохая война, развязанная плохими политиками, под руководством плохих генералов. Жизни пятидесяти тысяч человек спущены в сортир просто так.
— Свобода — достаточная причина для того, чтобы умереть.
— Вьетнама или Америки? — поинтересовался я.
— Обеих стран, — ответил он.
Я подошел к Селестине и обнял ее.
— Он теперь в другом монастыре, в другой части Рима. Он в безопасности, — шепнул я ей. — Мне очень жаль, что пришлось уничтожить его письма. — И с этими словами я покинул их дом.
Я уже садился в материнский автомобиль, когда в дверях появился генерал Эллиот и окликнул меня.
— Да, генерал.
— Я хочу увидеть своего сына, — произнес он.
— Я передам ему, генерал. Ведь раньше у него не было отца. Возможно, он обрадуется.
— Ты поможешь мне устроить встречу? — спросил генерал.
— Нет.
— Могу я узнать почему?
— Я вам не доверяю, генерал.
— Что, по-твоему, я должен делать? — поинтересовался он.
— Ждать, — ответил я.
— А ты не думаешь, что человек может измениться? — спросил он.
Я взглянул на этого вояку с прямой спиной и сказал:
— Нет, не думаю.
— Замечательно! — воскликнул генерал. — И я тоже.
На крыльцо выбежала Селестина:
— Джек, быстро езжай в больницу. Звонил Ти. Твоя мать вышла из комы.
Все мои братья, за исключением Джона Хардина, ждали меня на улице, возле главного входа в больницу. Я выпрыгнул из автомобиля и сразу же попал в их объятия.
— Мама! — заорал Ти. — Она сделала это!
— Она что, такая крутая или как? — спросил Дюпри.
— Чтобы свалить нашу старушку, нужно что-то посильнее рака, — отозвался Даллас.
— Мне все кажется, что она притворялась, — заметил Ти. — Наверное, хотела, чтобы я почувствовал себя виноватым.
— У мамы куда более важные задачи. Очень ей нужно тебя наказывать! — шутливо похлопал брата по плечу Дюпри.
— Ага, какие же? — удивленно поднял брови Ти.
— Ага, и какие же? — поддержал его Даллас.
— Ее видел пока только доктор Питтс. Он решил, что лучше всего, если первым пойдешь к ней ты, Джек, — сказал Дюпри.
— Мама. Мама, — повторил я.
Мы опять заорали, а Ти ухватил меня за руку, как когда-то, когда был малышом, а я для него — самым большим и добрым братом во всем мире.
Сестры уже перевели Люси из палаты интенсивной терапии, и семья собралась в другой, более радостной комнате для посетителей.
Все мы находились в состоянии эйфории, и даже у обычно сдержанного отца Джуда на лице было написано облегчение. Мы окружили доктора Питтса и просили повторить то, что сказал ему врач. Температура у мамы понизилась, давление стабилизировалось, и она постепенно приходила в себя. При этом сообщении мы почувствовали себя как заключенные, узнавшие об амнистии. Мы так долго находились в состоянии нервного напряжения, что теперешний восторг казался нам каким-то странным, диким чувством.
— Джек, почему вы не идете к вашей матери? — спросил меня доктор Питтс.
— Расскажи ей пару шуток, — посоветовал Ти. — Смех от души — вот что ей сейчас нужно.
— Сомневаюсь, — отрезал доктор Питтс.
— Наш Ти никогда особо не отличался умом и сообразительностью, — заметил Даллас.
Они все еще продолжали болтать, когда я оставил их и пошел в палату матери.
Глаза ее были закрыты, но лицо по-прежнему удивительно красиво для пятидесятивосьмилетней женщины. Я с ней пять лет не говорил, и мысль об этом больно отозвалась в сердце, когда я приблизился к ее кровати. В Рим я уехал, спасая свою жизнь, и даже не задумывался о жестокости своего поступка по отношению к другим людям. Мать открыла глаза, и меня снова поразило, какие они же невероятно голубые. Люси, бесспорно, была самой обворожительной, противоречивой и опасной женщиной, которую я когда-либо встречал. Она утверждала, что знает о мужчинах все, и я ей верил. У нее были удивительные способности к описаниям — живым и тонким, а еще потрясающее воображение, не знающее границ. Она от природы была лгуньей, да и не считала честность особой добродетелью. Она могла войти в комнату, полную мужчин, и расшевелить их быстрее, чем если бы туда бросили гремучую змею. Такой сексуальной женщины я в жизни не встречал. Нам с братьями выпала нелегкая участь быть сыновьями самой сексапильной и кокетливой женщины в городе. Мать никогда не считала брак чем-то незыблемым. И хвасталась, что таких, как она, единицы.
Я ждал, когда она заговорит.
— Подай мне косметичку, — попросила Люси.
— Здравствуй, Джек, — ухмыльнулся я. — Как замечательно видеть тебя снова, сынок. Ведь мы так давно не виделись.
— Должно быть, я выгляжу настоящей страхолюдиной, — сказала она. — Похожа я на страхолюдину?
— Ты очень красивая.
— Ненавижу, когда ты лукавишь.
— Ну ладно, ты просто страхолюдина, — согласился я.
— Вот почему мне и нужна косметичка, — отозвалась Люси.
— Ты, должно быть, устала, — заметил я, пытаясь перейти на нейтральные темы.
— Устала? — переспросила она. — Ты, наверное, шутишь. Я была в коме. В жизни так долго не отдыхала.
— Значит, ты хорошо себя чувствуешь? — спросил я.
— Хорошо?! — возмутилась она. — Никогда не чувствовала себя хуже. Они накачали меня своей химией.
— Теперь понял. Чувствуешь ты себя погано, зато хорошо отдохнула, — уточнил я.
— Ты привез с собой Ли? — поинтересовалась она.
— Нет, но она посылает тебе привет.
— Этого недостаточно. Я хочу обнять эту девочку и кое-что ей рассказать, — нахмурилась Люси. — Тебе тоже. Хочу объяснить тебе свою жизнь.
— Ты не должна мне ничего объяснять, — возразил я. — Ты и так уже разрушила мою жизнь. Здесь ни прибавить, ни убавить.
— А немного юмора? — спросила она.
— Да.
— Я просто проверяю. Странное чувство — выход из комы. Все равно что выкапывать себя из могилы. Я все еще ничего?
— Ты куколка. Я тебе уже говорил.
— Позови сюда жену Дюпри. Скажи, что мне нужна косметика. Много косметики. Она знает, какую я люблю.
— Кома, похоже, не слишком влияет на тщеславие, — поддразнил я ее.
— Зато определенно помогает похудеть, — заметила она. — Я точно потеряла фунтов пять с тех пор, как сюда попала.
— Ты нас всех напугала.
— Лейкемия убьет меня, Джек, — грустно улыбнулась она. — Она не лечится у женщин моего возраста. Рано или поздно болезнь вернется и убьет меня. Врач считает, что мне осталось чуть больше года.
— Ты меня пугаешь!
— Я просто должна была хоть кому-то об этом сказать. Остальным совру, — вздохнула Люси, и я увидел, что она начинает терять силы. — Я хочу навестить вас с Ли в Риме.
— Мы будем только рады.
— Мне нужно повидать вас там. Я в Риме еще не была. Хочу, чтобы вы снова меня полюбили. Хочу больше всего на свете.
Я не смотрел на мать, но слова ее меня поразили. Она притихла, а когда я поднял на нее глаза, то увидел, что она уснула. Так, значит, Люси Макколл-Питтс приедет в Рим, но раз уж Италия смогла пережить нашествие гуннов, то переживет и обычный визит моей бесстрашной и коварной матери. Она крепко спала, а я, ее старший сын, думал о том, что она кажется бессмертной, вечной, центром Земли. Вошел Даллас и сделал знак, что пора уходить.
— Что она сказала? — спросил меня в коридоре Даллас.
— Не слишком много. Сказала, что любит меня больше всех и наверняка перевязала бы трубы, если бы знала, что другие сыновья станут для нее таким горьким разочарованием.
— Ну снова здорово, — протянул он. — А что еще?
— Попросила принести ей косметику.
— Она вернулась, — взволнованно выдохнул Даллас. — Она и вправду вернулась.
Ти и Дюпри встретили нас в холле.
— Хорошая новость, — прошептал Ти так, чтобы не слышали остальные. — У нас опять проблемы. — И, не обращая внимания на стон Далласа, продолжил: — Только что звонил дед. Джинни Пени сбежала из частной лечебницы.
— Что? Опять?! — воскликнул Даллас.
— Пустяки, — отмахнулся как всегда прагматичный Дюпри. — Она же в инвалидной коляске. Далеко не уедет.
— Ее третий побег, — констатировал Ти. — Похоже, ей там никак не прижиться.
— Деду ее не поднять, — заметил Даллас. — Мы ведь только на время ее поместили. Пока бедро не заживет.
— Она думает, что мы ее бросили, — сказал Дюпри.
Мы вышли из больницы и уселись в материнский автомобиль. Пока я быстро катил по городу, Даллас размышлял вслух:
— Здесь только три дороги. Какую бы она ни выбрала, все равно далеко уехать не могла. Похоже, частная лечебница пришлась ей не по вкусу.
— Я говорил с ней по телефону, — сообщил я. — Ей там все осточертело.
Через десять минут я повернул налево и выехал на длинную дорогу, ведущую к реке и к дому. Мы тут же увидели нашу бабушку. Она с мрачной решимостью крутила колеса своей инвалидной коляски. Я проехал мимо, развернул автомобиль и притормозил.
Джинни Пени не обратила на машину никакого внимания, а продолжала себе крутить колеса, словно лодочник, взявший курс на другой берег реки. Хотя она вся взмокла и раскраснелась, видно было: она в восторге от своего побега и от того, что сумела отъехать от лечебницы дальше, чем можно было предположить. Она повернула голову и, увидев нас, медленно ползущих рядом, разрыдалась. Потом она снова на нас посмотрела, напряглась, плечи ее задрожали. Остановилась, закрыла лицо стертыми в кровь руками.
— Тебя подвезти, Джинни Пенн? — тихо спросил Даллас.
— Отстаньте от меня, — пробурчала она сквозь слезы.
— Звонил твой доктор, — сказал Даллас. — Он очень за тебя волнуется.
— Я уволила этого старого придурка. Спасите меня, мальчики. Кто-то должен помочь мне — или я там умру. Стариков никто не слушает. Всем на них наплевать.
— Мы постараемся помочь тебе, — пообещал я, высунувшись из окна водителя.
— Тогда идите прямо в лечебницу и скажите: «Мы хотим спасти нашу бабушку, вызволить ее из этой чертовой дыры». Заберите мои вещи. А если и правда хотите помочь старикам нашего города, то пристрелите повариху. Она даже сырую морковь умудряется испортить.
— Мы хотим найти более дипломатичный подход, — пожал плечами Даллас, взглянув на меня.
— Оставьте меня, мальчики, — взвыла Джинни Пенн. — Я еду к другу. Хочу нанести визит.
— К какому еще другу? — поинтересовался Даллас.
— Пока не решила. У меня полно друзей, и все они сочтут за честь развлечь такую даму, как я. Я не такая рвань, как ваш дед. Мои родители были солидными людьми.
— Ну давай, бабуля, садись в машину, и мы тебя развлечем, — предложил я.
— Ты, — сказала она, окинув меня подозрительным взглядом. — Тебя воспитали как плебея. Твоя несчастная мать вышла из грязи, отцу тоже особо нечем похвастаться.
— Ты ведь сама его воспитала, — уточнил Даллас. — Так что ты тоже за него в ответе.
— Я принимаю на себя всю полноту ответственности, — заявила бабушка. — За вашего деда я пошла с открытыми глазами. Знала, во что ввязываюсь. Вышла, руководствуясь ложными резонами.
— Назови хоть один, — попросил я.
— Он был красив! Бог мой, меня в жар бросало, когда я на него смотрела.
— Хватит ерунду молоть, Джинни Пенн, — отрезал Дюпри.
Он открыл дверь автомобиля и подошел к бабушке. Мы с Ти осторожно вынули ее из кресла и поместили на заднее сиденье. Будто клетку с птичками подняли. Бабушка, как овощ, лежала на сиденье — так она ослабла.
— Давай договоримся, Джинни Пенн, — предложил я. — Мы попытаемся вытащить тебя из лечебницы, но сейчас ты должна туда вернуться. Надо все делать по закону.
Но Джинни Пенн уже спала и не слышала моих слов. Мы отвезли ее назад и передали медсестрам. Те ее разбудили, пожурив за плохое поведение.
— Предатели, — прошипела она, когда медсестра повезла ее в палату, бывшую для нее хуже тюрьмы.
Пока я вез Далласа обратно в его юридическую контору, все задумчиво молчали.
— Как ужасно, должно быть, стареть, — нарушил молчание Даллас. — А вдруг Джинни Пенн каждое утро просыпается с мыслью, что это ее последний день?
— Думаю, она просыпается в надежде, что это ее последний день, — заметил я.
— Мы ведь не сказали ей, что мама вышла из комы, — вспомнил Ти.
— Ей и так плохо, так зачем делать еще хуже! — воскликнул Дюпри, и все рассмеялись.
— Она жизнь положила на то, чтобы считаться аристократкой.
— Давайте будем каждый раз падать перед ней на колени, и тогда она прекратит маяться дурью, — предложил Дюпри.
— Она ведь голубых кровей, а мы просто шавки подзаборные, — заметил Ти.
— Помните, как она рассказывала о плантации, на которой выросла? — спросил Дюпри. — Мы еще думали, что она заливает, так как никогда нас туда не возила.
— Бернсайд, — произнес я. — Знаменитая плантация Бернсайд.
— А она ведь не врала, — сказал Дюпри. — Такая плантация действительно была, и там-то наша Джинни Пенн и выросла.
— Тогда где сейчас эта плантация?
— Под водой, — ответил Даллас.
— Под водой? — удивился я.
— Она находится под Чарлстоном, возле Пайнополиса. Когда запрудили реку и сделали озеро Маултри, Бернсайд ушел под воду. Джинни Пенн со стороны матери — Синклер, а Бернсайд принадлежал Синклерам.
— Теперь усек, — отозвался я. — Джинни Пенн так расстроилась из-за потери дома предков, что вышла замуж за пуэрториканца, нашего деда.
— Она так и не рассказала, чем кончилась эта история, — заметил Дюпри. — Должно быть, бабуля считает затопление дома карой небесной. Своего рода знамением.
— Откуда ты все это узнал? — спросил Ти.
— Моя жена Джин дважды в неделю ездит в Чарлстон. Работает над дипломом магистра истории. Она корпела в библиотеке на Кинг-стрит. Там она и наткнулась на мемуары Синклеров. Джинни Пенн дважды их упоминала. Дом и в самом деле был красивым.
— Приятно слышать, что в ее натруженных венах течет голубая кровь, — заметил я.
— А мне нравится быть деревенщиной, — ухмыльнулся Ти. — Мне идет.
— И в самом деле идет, — заметил Даллас, пристально посмотрев на младшего брата.
— Ты не должен был так быстро соглашаться, — обиделся Ти.
— А все эти дружки Ти. Вот из-за чего стоит волноваться, — сказал мне Дюпри.
— Что есть, то есть, — поддакнул Даллас.
— Эй! Я люблю своих друзей. Замечательные парни. И девчонки тоже, — набычился Ти.
— Ловец креветок садится к нему в автомобиль, точно Рокфеллер, — ухмыльнулся Даллас.
— У него нездоровая тяга к низам общества, — произнес Дюпри. — А я хочу, чтобы он был все же разборчивее в выборе друзей.
— Все, что мне нужно, так это братья получше, — заявил Ти. — Ха! Неплохо сказано! Вы, парни, всегда надо мной измывались. Но теперь Ти вырос. И больше он такого не потерпит!
Приехав домой, мы просто сидели и смотрели на закат с верхней веранды, где когда-то играли еще мальчиками. Помню, как больше двадцати лет назад сидел в этом же плетеном кресле и кормил Ти из бутылочки, а мама, на девятом месяце беременности, носящая под сердцем Джона Хардина, готовила ужин. Отец работал в офисе допоздна. На передней лужайке Дюпри учил Далласа обращаться с футбольным мячом. Если б не воспоминания, время словно бы остановилось. Мы сидели там, где было светлее всего, и смотрели на угасающее солнце. Мы и раньше прощались здесь с загорелыми, смуглыми днями, раскрашивавшими реку, а она, страдающая вечной бессонницей, убегала от них вдаль.
Я покопался в скудных отцовских припасах. Принес холодного пива — его мы купили по дороге вместе с орешками. Достал маринованные огурчики и прямоугольник острого сыра чеддер. Сыр я нарезал и положил на соленые крекеры вместе с колечками красного лука. Братья ели не ради удовольствия, а чтобы восстановить энергию. Сейчас они могли съесть все, что угодно. Где-то в доме зазвонил телефон, и Даллас пошел взять трубку. Потом вернулся и объявил:
— Мама поела немного твердой пищи.
Мы обрадовались и провозгласили тост за реку и за нашу мать, которая могла смотреть на ту же воду из окна больничной палаты в миле от нас.
— Ну сильна, — сказал Дюпри, глотнув пива.
— Недостаточно сильна для лейкемии, — возразил Даллас. — В следующий раз та ее доконает.
— Как у тебя только язык поворачивается?! — возмутился Ти.
Он вскочил и направился к ограде, стараясь на нас не смотреть.
— Извини, — произнес Даллас. — Действительность помогает мне пережить плохие времена… и хорошие.
Я заметил, что Ти украдкой утирает слезы. Его эмоции так на всех подействовали, что я сказал:
— Это моя любовь помогла ей преодолеть кризис. Мой героический перелет через Атлантику, чтобы быть с матерью, когда я ей потребовался.
— Нет, ей помогла тихая любовь всеми пренебрегаемого и осмеиваемого третьего сына, Далласа, который вытащил ее из склепа, — улыбнулся Даллас.
— Склеп, — отозвался Ти. — У нашей семьи нет никакого чертова склепа.
— Я взял на себя смелость изъясняться литературно. Это была метафора, — пояснил Даллас.
— А я и не знал, что у тебя склонность к литературе, — заметил я.
— Нет, конечно, — признался Даллас, — но я ведь вправе хоть на что-то претендовать?
— Хоть на что-то? — переспросил брата Дюпри. — Еще несколько таких претензий — и даже СРА для этого не хватит.
— Кончай реветь, Ти, — сказал Даллас. — А то у меня может возникнуть комплекс, что недостаточно люблю маму.
— Так и есть, — всхлипнул Ти. — И никогда не любил.
— Неправда, — ответил Даллас. — Когда я был маленьким, то думал, что нет на свете человека лучше ее. Потом подрос и узнал ее поближе. Естественно, пришел в ужас. В жизни не встречался с такими силами лжи. Этого я перенести уже не мог. Потому-то и перестал обращать на нее внимание. Здесь нет большого греха.
— А я люблю ее такой, какая она есть, — заявил Ти. — Хотя она изговняла всю мою жизнь и расшугала всех моих девушек.
— Все правильно, — отозвался Дюпри. — Твои девушки были просто атас!
— Но ты ведь их совсем не знал.
— И слава тебе господи, — в унисон отозвались Даллас и Дюпри.
— Тебе повезло, что еще можешь плакать, — улыбнулся я Ти. — Такое не часто бывает.
— Ты плакал с тех пор, как мама заболела? — спросил Даллас у Дюпри.
— Нет. И не собираюсь, — отрезал Дюпри.
— Почему? — спросил я.
— А кому надо, как Ти, нюни распускать?
Стало темно, на небе одна за другой зажглись звезды. Я подумал о собственных слезах и о тех, что не пролил по Шайле. После ее смерти я думал, что буду рыдать не переставая. Но нет. Ее смерть высушила меня, душа превратилась в пустыню. Неспособность плакать сначала тревожила, а потом стала всерьез пугать меня.
Я начал наблюдать за другими людьми и слегка успокоился, заметив, что здесь я не один такой. У меня даже появилась теория, объяснявшая подобный стоицизм перед лицом смерти жены. Каждое объяснение становилось оправданием, поскольку Шайла Фокс-Макколл заслуживала моих слез больше, чем кто-либо на земле. Эти слезы скопились внутри меня, как во внутреннем море, но навсегда так там и остались. Я считал, что американские мужчины рождаются наделенными такой же склонностью к слезам, как и американские женщины. Но поскольку нам запрещено проливать их, мы и живем намного меньше женщин. У нас разрывается сердце, поднимается давление, алкоголь разъедает нам печень, а все потому, что озеро слез внутри нас не находит выхода. Мы, мужчины, умираем, потому что наши лица недостаточно увлажнены.
— Выпей еще пива, Ти, — улыбнулся Даллас. — Это поможет.
— Мне не нужна помощь, брат, — ответил Ти. — Я плачу от счастья.
— Нет, — сказал я. — Плачешь, потому что еще не утратил способности плакать.
— Давайте еще раз позвоним Ли, — предложил Даллас.
— Замечательная мысль, — одобрил я и направился к двери.
— Что-то случилось, — услышал я голос Дюпри.
— А что такое? — спросил Даллас.
— Куда-то запропастился Джон Хардин, — объяснил Дюпри. — Дед ходил к нему домой, но его нигде не видно.
— Еще объявится, — успокоил брата Ти.
— Этого-то я и боюсь, — отозвался Дюпри, всматриваясь в темноту.
Там внизу, у реки, светились окна больницы.
Назад: Глава тринадцатая
Дальше: Глава пятнадцатая

