II
Максим вышел от Шугачевых поздно. Пошел пешком, чтоб прогуляться. Распогодилось. Высыпали звезды. Ветер утих. Подмораживало. Асфальт подсох. Шаги редких прохожих щелкали, как выстрелы, особенно женские каблучки. Днем они никогда не щелкают, только ночью, на сухом асфальте и к морозу.
Он думал о Вере. Не о самой Вере — о том, как завтра он поговорит с этим каштановым спортсменом. С Вадимом-то разговор будет короткий и простой — он же не против. А вот с его родителями... Смоделировал несколько вариантов разговора с ними — в зависимости от места и от того, как они поведут себя. Если они начнут рассуждать как обыватели... Обосновывая свои удары и контрудары, он воодушевился, начал вслух на безлюдной улице подавать реплики в этом диалоге втроем... Нет, вчетвером. Вадим будет на его стороне, вместе поведут наступление на его родителей.
«Ничего, Верочка, пробьем, спи спокойно. Не таких твердолобых пробивали. Нашлись домостроевцы! Старосветские помещики. Наследства лишите сынка, что ли? От всех ваших аргументов только пух полетит...».
Занятый Верой, Максим уже не думал о собственном гордиевом узле, который вряд ли удастся развязать, придется рубить. Первую подготовку к этому решительному шагу он сделал сегодня. Меньше будет упреков, и не столь высокая партийная инстанция займется его персональным делом, если оно все-таки возникнет.
По ту сторону улицы ярко светились окна его квартиры. Подумал зло, раздраженно: «Устроила иллюминацию среди ночи». И тут увидел Дашу. Фигура ее вырисовывалась в окне спальни. Она стояла перед зеркалом, подняв руки, поправляя бигуди на голове.
Раздражение росло. Только что мысленно боролся с мещанством, пока еще с воображаемыми носителями его. А сам должен опять окунуться в такое же обывательское болото, внешне красивое, стилизованное, но от этого еще более опасное. Чувствовал, что, заведенный сегодняшними событиями, подогретый коньяком, снова не сдержится, скажет что-нибудь, и опять будет ссора. А к чему это теперь, после почти год длящейся отчужденности, холодности, взаимной вежливости, как между субквартирантами, которым волей обстоятельств приходится терпеть друг друга? Показалось: идти сейчас домой — все равно что в такую осеннюю ночь лезть в трясину, где, кроме сырости и холода, тебя может поджидать и беда. Хотя какая беда угрожает ему? Он уже ко всему готов. А вот она... Он может сказать о своем решении. Интересно посмотреть, что отразится на ее раскрашенной физиономии.
Нет, не сегодня. И не из мести, не из желания полюбоваться ее растерянностью, горем или гневом надо это сделать. Нужно сдержанно, рассудительно, достойно.
Поправив бигуди, Даша стала накладывать крем, старательно массируя лицо, с таким видом, будто от этого зависела судьба человечества. Кто-кто, а Карнач умел распознавать и принимать новое — в архитектуре, в искусстве, в одежде. Не боялся слова «мода». Случалось, ошибался, но никогда не был ханжой. Любил женщин хорошо одетых, с умело наложенной косметикой, с красивой прической. Но Дашино внимание к своей особе перешло все границы. Ее размалевывание перед зеркалом давно уже возмущало, хотя в начале их совместной жизни он сам приучил бывшую деревенскую девушку следовать моде.
Прошел какой-то тип, хмыкнул:
— Подглядываешь за голыми бабами?
Максим сорвался с места, зашагал дальше. Когда миновал свой дом, почувствовал, что вернуться не может. Не может подняться в собственную квартиру, которую когда-то так любил, куда знакомые приходили, как в музей. А теперь все опротивело. До горечи. До сердечной боли. Когда в доме нелюбимый человек, все становится нелюбимым, даже то, что сделано твоими руками, по твоему замыслу.
Вышел на площадь. Город засыпает, а на стоянке такси очередь больше, чем днем. Стоять пришлось долго. Пустые машины проходили мимо, должно быть, шоферы знали, что тут не самые выгодные пассажиры, на вокзале народ более денежный.
Наконец Максим дождался своей очереди. Назвал адрес:
— Волчий Лог.
Шофер посмотрел на него как на пьяного.
— Деревня Волчий Лог. За Рудней. По шоссе на...
— Знаю. Только я туда не поеду.
— Боитесь? — нарочито язвительно спросил Карнач, чтоб задеть самолюбие шофера.
— Не боюсь, товарищ архитектор, — дал понять, что знает, с кем говорит. — Но кто мне оплатит обратный пробег?
— Я. Хорошо заплачу. Не пожалеете.
Шофер засмеялся. Машина сорвалась с места.
— А вы напрасно бросили со смешком: «Боитесь?» Скажу вам, что и храбриться нечего. Слышали, в Минске таксиста убили? А у меня летом была история...
Максим слушал шофера краем уха, а сам думал о своем.
Когда все началось? С чего?
Была ведь любовь. И было счастье. Как он влюбился когда-то в застенчивую беленькую девушку — студентку университета! Познакомил их Игнатович, Даша — сестра его жены. Игнатович еще учился на последнем курсе механического, но уже два года был женат, Карнач считал себя убежденным холостяком, ему шел двадцать седьмой год. Участник войны, офицер, он только что окончил архитектурный факультет. Почти весь выпуск оставили в столице — строить новый Минск. Тогда уже был утвержден первый генеральный план. Романтически настроенный, горячий, полный энергии и сил, он с утра до вечера, а часто и ночью, часов до трех (тогда это было в моде), торчал в мастерской. Иногда встречался с девушками. Но о женитьбе не думал.
И вдруг она, Даша, Дашенька, солнце, песня, радость. На некоторое время он даже забыл о своем первом самостоятельном проекте. С нетерпением ждал конца рабочего дня (коллеги видели, как он ежеминутно поглядывал на часы, и подсмеивались), чтоб поскорее встретиться с ней. Водил ее по городу, реже — по застроенной уже и освещенной части проспекта, чаще — по боковым улицам, где так много еще оставалось следов войны, развалин, и рассказывал о будущем города, в котором им жить да жить. Это и вправду была песня, черт возьми, те встречи и его рассказы. Такого города, какой он представлял себе, не построили, хотя совершили, можно сказать, подвиг. Самое удивительное, что тот город, о котором он тогда, два десятилетия назад, рассказывал ей, живет и теперь в его воображении, не постарел от смены стилей, направлений, мод, материалов. Если бы ему предоставили возможность построить совсем новый город, на новом месте, как Светлогорск или Новополоцк, он построил бы тот город — ее город, который он тогда подарил ей. Да, он подарил ей город.
Мелькали новые дома микрорайона, из-за которого он немало попортил крови.
«А Шугачев дарил Поле города?»
С чего же началось?
Первые пять лет их жизни действительно были песней. Он, Карнач, жил, был счастлив любовью, работой, верил в свое призвание и в свои возможности. И Даша верила. Она не очень увлекалась своим преподаванием, она жила его архитектурой. Он покорил ее, заразил своей профессией. Скоро Даша научилась рассуждать о зодчестве так, что даже старые архитектурные зубры не сразу угадывали в ней дилетантку; московский академик весь долгий вечер, проведенный у них в гостях, считал ее коллегой, расточал комплименты. Очень может быть, на какой-то стадии она сама поверила, что стала знатоком архитектуры и искусства. Должно быть, здесь была его основная ошибка. Надо было научить жену любить ее собственную профессию, любить детей, которых она учила. Надо было воспротивиться ее переходу из школы в мастерские художественного фонда. Но когда это случилось? В конце второго пятилетия, пятилетия нормальной, установившейся жизни, когда окончилась песня и началась рассудительная, чуть скучноватая проза. Даша все свое время отдавала воспитанию дочки. Кстати, первая запомнившаяся ему стычка произошла как раз из-за дочки. Он хотел назвать дочку Татьяной, дать имя своей матери. Даша решительно запротестовала: только Виолетта. В конце концов, это ерунда. Виолетта так Виолетта. Он не стал долго спорить, согласился. Однако поразила недоброжелательность по отношению к имени, которое он предложил, показалось тогда, что даже не к имени — к человеку, к его матери. Но и это он простил: после нелегких родов у женщины могут быть самые неожиданные фантазии, капризы и просто беспричинная раздражительность. Из-за имени она разозлилась еще раз вскоре после того, как девочку записали уже в загсе. Даша услышала, что отец называет дочку не Вилей, как она, а Ветой, и это ей почему-то очень не понравилось. Но тут впервые — странно, что это было в расцвете их счастья — он заупрямился и продолжал называть дочку по-своему. Так она и росла: Виля — для матери, Вета — для отца. Пока была маленькая, во дворе и в детском саду, — Виля, в средних классах школы — Вета, сама так выбрала. Выходит, он победил. Но к этому привыкли и даже в шутку никогда не упоминали, кто тут победил, а кто потерпел поражение. Нет, с Веты не могло начаться, Вета — их счастье. Правда, спорили из-за нее нередко. Сперва спорили, потом ссорились. Девочка не хотела учиться музыке. Мать упорно и настойчиво заставляла ее «развивать музыкальные способности», даже сама научилась читать ноты и — для любителя — очень недурно играть. К ориентированности в вопросах архитектуры прибавились некоторые сведения в области музыки, что дало ей возможность проникнуть и в музыкальный мир. Максиму поначалу до слез жалко было глядеть, как мучилась за роялем маленькая болезненная Ветка. Казалось, Даша не по-матерински жестоко терзает дочку. Разговоры их на эту тему подчас напоминали ссору. Но, в конце концов, это была обыкновенная семейная жизнь — во втором пятилетии. Даша добилась своего. Во всяком случае, считает, что тут одержала полную победу — Виолетта поступила в консерваторию. Даша хвастает результатами своего воспитания. Гордится. Однажды он имел неосторожность сказать: поступление еще ничего не доказывает, он по-прежнему не очень уверен, что Ветино призвание — музыка. О, что тут поднялось! Какими эпитетами он был награжден! Волосы краснели за нее, женщину, считающую себя всесторонне образованной и интеллигентной. Но это произошло два года назад, когда было уже немало трещин.
Нет, все-таки началось не из-за Веты. Из-за чего же?
Пожалуй, из-за того ребенка, который не появился на свет.
Он очень хотел второго ребенка. Уговаривал Дашу. Обычно разговор этот происходил в постели, в моменты нежности, и Даша смеялась, целовала его и отговаривалась по-своему: «Почему тебе хочется поскорее закабалить меня? Я хочу еще немножко пожить так. Когда же и жить, если не сейчас — Виля подросла, мы устроились, живем в достатке?» О беременности, неожиданной для нее, сообщила ему с гневом, с обвинениями: «Ты это нарочно. Но знай, его не будет», — и решительно объявила о своем намерении сделать аборт. Максим ужаснулся. Просил, умолял Дашу сохранить дитя. «А вдруг это будет сын? Наш сын! Мы возьмем няню. Хочешь, я привезу свою мать?» Нет, никакие уговоры не действовали. Слушать не хотела. Без его согласия, даже не предупредив, пошла в больницу.
Ее поступок перевернул ему всю душу. Он, правда, ходил в больницу (ее не сразу выписали), радовался, когда она выглядывала из окна, побледневшая, виновато улыбающаяся.
Когда забирал ее, Даша по дороге к машине с благодарностью сжала ему руку, шепнула: «Прости меня». Она стала добрая-добрая и тихая, покорная, прямо как в первый год после замужества. Но доброта ее была какая-то другая, не такая, как раньше. Она на сближала, наоборот, отчуждала как-то. Во всяком случае, Максим почувствовал это в первый же миг, когда в вестибюле больницы почему-то смущенно и неловко поцеловал ее в белую напудренную щеку. Это был совсем иной поцелуй, не тот, каким восемь лет назад он тут же, только с другого, более парадного, торжественного, подъезда встретил ее с дочкой — маленьким свертком, перевязанным розовой лентой, который протягивала ему сестра. В том поцелуе была теплота его любви, нежности, признательности. В этом — обязательная учтивость.
Очевидно, Даша почувствовала его вежливую, тихую отчужденность и ответила на нее неожиданно и довольно странно: удвоенным, утроенным вниманием к своей внешности, нарядам и таким же непомерным, почти оскорбительным требованием его внимания к себе.
Раньше все покупалось как-то само собой, без особых расчетов. Чаще всего он сам делал покупки, особенно когда ездил в Москву, в Вильнюс, в заграничные командировки. Было приятно привозить подарки ей, Бете. Знал женскую психологию и не осуждал ее. Их радость — его радость.
Вскоре после аборта Даша начала требовать у него деньги на обновки, тратя как бы между прочим весь свой заработок. И тогда ему расхотелось привозить ей из командировок подарки. Он явно становился скупее. Одно вело за собой другое. Возникала некая цепная реакция отчужденности.
Начала раздражать ее косметика. Столько времени тратится на ерунду. Налепив на лицо идиотскую маску из смеси сметаны, яиц, кремов и еще черт знает чего, она может час и два сидеть перед зеркалом. Но он, верно, тоже виноват: у него не хватало прежнего такта, деликатности, мягкости. Он стел разговаривать с ней другим языком.
«Тебе не противно смотреть на себя в таком виде?»
«А тебе противно?»
«Более того».
Ссора.
«Послушай. Для кого ты так мажешься? Если для меня, то говорю тебе совершенно серьезно: мне это не нужно! Ты мне нужна настоящая, а не выпотрошенная и размалеванная».
По-видимому, он ударил по больному месту. Не надо было говорить этих безжалостных слов! Впервые сна рыдала до истерики. И он искренне просил прощения. Простила. Целовались. Взаимное тяготение и та короткая радость, которую давала физическая близость, — единственное, пожалуй, на чем держалось их супружество. Тогда они еще могли запылать страстью через час после ссоры. Существовали какие-то не открытые и не объясненные наукой душевные токи, биотоки, импульсы, которые связывали их. Потом, очевидно, и они оборвались...
...Шофер мешал думать — все время разговаривал. Хорошо еще, что он не вынуждал говорить собеседника, задавал вопросы и сам на них отвечал, видно, был из той категории людей, которые с наибольшим удовольствием слушают самих себя.
— Когда мы перестанем строить конурки? Разве это квартира? Я не говорю уже, что гроб нельзя вынести...
— Сейчас габариты увеличены.
— Да, с гробом уже можно развернуться. Но ведь строим мы для живых... А мне дай простор. Я простор люблю. Чтоб пригласить гостей, потанцевать у себя дома...
— Танцевальный зал для каждого — дорогая роскошь. Сколько ваших товарищей не имеют квартиры?
— Да у меня самого нет квартиры. Четыре души на восемнадцати метрах. Потому и говорю. Стою в очереди на улучшение. А что мне дадут? Две комнаты, двадцать шесть метров? Нет, если я столько ждал, то дайте мне пожить просторно. Я простор люблю...
...Да, дальше начало рваться самое главное. Почему? Кто виноват? Были бы причины, как у других. Измена, например. В семье только измену нельзя простить. Но ему и в голову никогда не приходило, что Даша может изменить. У нее же, правда, и раньше, в безоблачные дни, прорывалась иногда беспочвенная ревность. Но она не раздражала, наоборот, может быть, даже тешила его, забавляла! В конце концов, это одно из проявлений ее любви. Жена, которая не ревнует, — скучная жена, будничная. Но, оказывается, это проявление любви начинает перерастать в нечто болезненное, уродливое, оскорбительное, что разъедает лучшие чувства, как коррозия металл.
Так случилось у них.
При явной душевной отчужденности Даша каждый раз находила повод, чтоб устроить сцену ревности. По любому случаю. Задержался на работе. Вышел из автобуса вместе с женщиной и разговаривал с ней, хотя она могла быть совершенно незнакомой. Звонил по телефону — она подходила и бесцеремонно прислушивалась, чтобы разобрать слова в трубке. Упаси боже, если женский голос был так слаб, что Даша не слышала его, стоя рядом с ним.
«Почему она шептала? Зачем так прижимал трубку к уху?»
Нет, ревность была более поздней стадией этой невидимой и опасной коррозии. Ревность, пожалуй, была тем последним, что оборвало нити их душевной и физической близости. Более ранняя стадия сразу после непомерного увлечения косметикой — требование чрезвычайного внимания к себе.
Однажды в гардеробе оперного театра он заговорился со знакомым и забыл помочь ей надеть шубку.
Не застегнув пуговицы, с пуховым платком в руках она бежала по лестнице, расталкивая людей. Он не сразу сообразил, что случилось, и догнал ее уже в сквере на безлюдной, слабо протоптанной в снегу дорожке. Попробовал пошутить:
«Дашок, идешь не в тот бок».
«Пошел прочь! Ты хам! Хам! Хам!»
О, сколько злобы и презрения было в этом слове!
Он набрал в туфли снегу и, однако, должен был часа два ходить по скверу, чтобы утихомирить ее. Ему не хотелось ссориться, более того, казалось низким и оскорбительным поднимать шум из-за такой мелочи. Скажи, пожалуйста, трагедия — не помог одеться! Но в ту ночь его поразило другое. Даша высказала ему все обиды, которые он якобы причинил ей за десять лет жизни. Обид было сотни. Он не помнил и десятой доли, а если что и помнил, то не придавал им такого значения — чего не бывает в семейной жизни! Она помнила все до мелочей, смеху подобных. Она словно регистрировала свои обиды, вела им бухгалтерский учет.
Слушая длинный перечень своих недостатков, какой он эгоист, мерзавец, хамло, Максим впервые тогда подумал, что женщина эта никогда не любила его так же самоотверженно и самозабвенно, как любил он, она играла в любовь, потому и сохранила в памяти всю житейскую шелуху, пену, мусор, потому и занималась бухгалтерией его проступков и семейных неурядиц.
Даша создавала проблемы там, где ни одна жена, не только такая, как Поля Шугачева, но самая обыкновенная, молодая, глупенькая, не вздумала бы становиться на дыбы.
Так было с его назначением сюда на должность главного архитектора. Пригласил его Игнатович, выбранный здесь председателем исполкома горсовета. В архитектурных кругах должность главного архитектора города и до сих пор иногда невысоко ценится, потому что сидят на этом месте чаще всего нетворческие люди. Он решил доказать, что дело не в должности. Кроме того, он почему-то любил этот город, видел в нем больше, чем где-либо, возможностей для интересных архитектурных решений и в центре, и в новых районах. Он верил в Игнатовича: с таким руководителем можно что-то сделать. А Даша вдруг уперлась: не уеду из Минска. Причина — Вета в музыкальной школе. Не помогали и уговоры ее сестры, жены Игнатовича. Он возмутился и впервые не уступил — уехал один. Как она проклинала его в письмах, угрожала разводом. Он перестал отвечать. Не выдержала, приехала, Но очень похоже, что стала мстить за свое поражение. А он тоже заупрямился и все реже и реже шел первым на примирение. Во всяком случае, не через час после ссоры. Она же подхватила эту тактику и довела ее до абсурда: ах, ты молчишь день — я буду молчать неделю. И молчала. Сначала по неделе, потом по две и по три. У него не укладывалось в голове, как можно, живя вместе, столько времени не разговаривать с близким человеком. Сила воли, черт возьми! Однако на что направлена эта сила воли? Для него, горячего, но отходчивого, ее молчанке было мукой. Читая книгу, ломая голову над новой композицией, он имел обыкновение в паузах высказывать свои мысли, делиться своими замыслами, сомнениями. Так он и делал сначала. Но Даша надувала накрашенные губы и выходила из комнаты.
Особенно его возмутил один случай. По какому-то поводу Игнатовичи собирали гостей. Зван был Сосновский. А у них как раз шла долгая молчанка. Максим думал, что Даша не пойдет. Но, к его удивлению, как только позвонила сестра, она сразу согласилась. В такую компанию она не могла не пойти. И в гостях она проявляла такое внимание к мужу, такую заботу, что, наверное, не один мужчина позавидовал: везет же архитектору! Красотой, нарядом — есть же у чертовой куклы вкус! — Даша, безусловно, затмила всех присутствовавших женщин. Максим сам невольно залюбовался ею и был рад, что неожиданный случай помирил их. Он танцевал с нею, нарочно — пускай завидуют! — целовал руку. За столом они так нежно ухаживали друг за другом, что, наверное, потом многие жены советовали своим мужьям поучиться у главного архитектора, а мужья, в свою очередь, указывали своим половинам на Дашу: вот идеальная жена!
Каково же было его удивление и возмущение, когда за дверью квартиры Игнатовича Даша снова замолчала — ни слова ему в ответ. Выдерживала срок! Такого лицемерия он стерпеть не мог и дома так разошелся, что она не только заговорила, даже заголосила по-бабьи.
После этого она уже не устраивала столь долгих сеансов молчания. А его отношение к ней перешло в следующую стадию отчужденности, более опасную: тогда оставалось физическое влечение, теперь уходило и оно.
Должно быть, она скоро почувствовала это. Стала приветливой, хотя приветливость эту, как перцем, приправляла подчас иронией. Тогда и он взял иронический тон, легкий и безразличный.
Раньше она восторгалась его новаторством. Теперь его поиски такого, что не повторяло бы построенного другими, она считала издевательством над людьми. Женщина теряла всякую объективность по отношению к своему мужу.
Однако и в это последнее, четвертое пятилетие их совместной жизни, казалось, безнадежно тягостное, бывали просветы: внезапно она тянулась к нему, полная прежнего огня. Он в таких случаях не отталкивал ее, каждый раз надеясь, что у них что-то изменится, бывают же чудеса.
Но кончалось это примерно так.
«Ты можешь всегда быть таким?» — спрашивала она с девичьим безрассудством.
«А ты?»
Слово за слово, начинался перечень обид, и все летело к дьяволу. А на душе — будто тебе дали конфетку, начиненную отравой. Сперва сладко, а потом гадко до тошноты.
...Ночью в фантастическом свете фар самые знакомые места и предметы не узнаешь. Ездил тут сотни раз и все равно пропустил поворот на Волчий Лог. Опомнился, когда выехали к мосту. Пришлось разворачиваться.
Дорога в лесу была разбитая и грязная. Шофер боялся застрять и три долгих километра плакался:
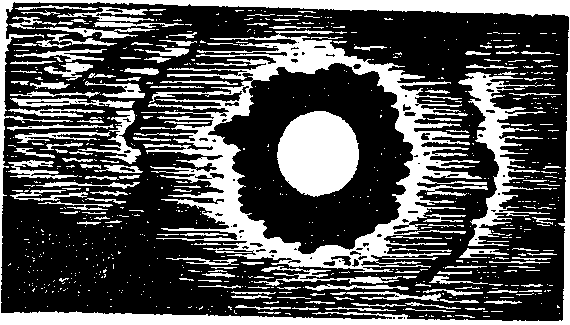

— Тут среди ночи сядешь — покукуешь. Знал бы, не поехал.
Набивал цену.
Максим отвалил ему плату, не жалея. Парень сразу помягчел. Вглядываясь сквозь белые березы в силуэт темного строения, спросил:
— Один будете ночевать? Не боитесь?
— А чего бояться?
— С доброй бабешкой было бы веселей.
— Да, кабы с доброй. Но где они есть, добрые?
Шофер захохотал:
— Это верно. Счастливо вам.

