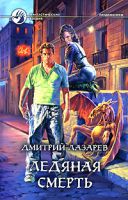IV
Присяжный поверенный Михаил Давыдович Эльяшев частенько ездил в 14-й номер — Виленскую политическую тюрьму — один или со своим помощником, записывавшим его беседы с подзащитными, но с братом арестанта, к тому же служащим в жандармском управлении, он направлялся сюда впервые.
Семен Ефремович терялся в догадках, что же побудило Эльяшева взять к защите дело Гирша, но ничего путного придумать не мог. Поди влезь в хитроумную голову Михаила Давыдовича!
— Надо беречь евреев, — отшучивался Эльяшев. — Нельзя допустить, чтобы из-за царапины на ноженьке его высокопревосходительства генерал-губернатора вашего брата вздернули на виселицу.
Как и все судейские, Михаил Давыдович имел склонность к краснобайству. Говорение доставляло ему ни с чем не сравнимое удовольствие, близкое к тому, какое испытывает от вина алкоголик. Только в отличие от алкоголика Эльяшев никогда не напивался словами, все время тянулся к новым, а когда их не находил, прибегал к высокородной, благозвучной латыни, поражая собеседника не только своей ученостью, но и некой недоступностью, долженствующей засвидетельствовать его исключительность.
Он был одет не по погоде — в клетчатое, свободного покроя пальто, сшитое из отменного английского сукна; на нем было пушистое, несколько легкомысленное кашне и мягкая фетровая шляпа, придававшая ему сходство с каким-нибудь романтическим героем, способным покорять самые черствые сердца.
— Нет свободы для всех, — запальчиво говорил он, косясь на извозчика, заученно нахлестывавшего конягу и мурлыкающего под нос какую-то польскую песенку. — В самой свободной державе всегда будет хоть одна тюрьма. Это только кажется, дорогой, что миром правят какие-то идеи. Вздор!.. Нонсенс! Им правят кишки! Потроха! Все кишки одной идеей не набьешь. У кого-нибудь она все равно вызовет рвоту. Вас рвет от моей идеи, меня — от его, — Михаил Давыдович ткнул пальцем в спину извозчика, — его — от нашей, и так пребудет до скончания века. Вы, конечно, вправе меня спросить, к чему я это говорю? Я это, дорогой, говорю к тому, что ваш Гирш, если он, конечно, хочет выйти сухим из воды, должен принять мои правила игры.
Эльяшев снял свои толстые, в роговой оправе очки, протер стекла и принялся близоруко глядеть по сторонам с таким вниманием, словно впервые попал в Вильно.
— Вряд ли мой брат откажется от своих убеждений, — печально сказал Семен Ефремович, прислушиваясь к незнакомой песне.
— Вы забываете, в какой стране мы живем, — искренне возмутился Михаил Давыдович. Без очков он был похож на откормленного хомяка.
— Разве убеждения зависят от страны обитания?
— Зависят! Еще как зависят! Франция, например, славится своей терпимостью… Германия — своей прусской разборчивостью… Но дело даже не в этом. Дело в том, что убеждения, если угодно, та же игра. У этой лошади, — Эльяшев наклонил вперед голову, — тоже есть убеждения. Тем не менее не она указывает кучеру, куда ехать… За долгие годы жизни я убедился в одной непреложной истине.
Семен Ефремович, видно, не проявил к его истине должного интереса, и Михаил Давыдович с нескрываемой обидой бросил:
— Почему вы не спрашиваете, в какой?
— В какой? — сдался Шахна.
— Стоит ли разрывать цепи на себе, чтобы тут же сковать ими других?
Слова Эльяшева казались какими-то книжными, ненастоящими, не имевшими к Гиршу никакого отношения. Настоящей была только песня извозчика, заунывная, с печальным, коротким, как вздох, припевом. Она правила кучером, который изредка сопровождал свое пенье щелканьем кнута и фельдмаршальским выкриком:
— Но! Холера ясна!
— Да, да, чтобы сковать других!.. Ведь ваш брат только к этому и стремился. Дай ему власть, и он из преследуемого превратится в преследователя, из гонимого в гонителя, из узника в тюремщика.
Семена Ефремовича уже злила проповедническая наставительность Эльяшева. Он, конечно, опытен и хитер. Но Гирша такими штучками не возьмешь. Латыни Гирш не знает. Во Франции не бывал. За свои убеждения готов и на костер, и на плаху.
— Гирш как-то сказал, что кто-то из нас должен быть первым евреем, не сгибающим спины, — пытался охладить пыл Михаила Давыдовича Шахна.
— И вы с ним согласны?
Семен Ефремович задумался. Песня мешала сосредоточиться, в голову упрямо лез припев, уводил куда-то с этих виленских улиц на привислянские луга, к стогам свежескошенного сена, к красивым польским молодкам, напоминающим обольстительную продавщицу из лавки Рытмана.
— Согласен! — выпалил он.
— Напрасно! Совершенно напрасно! Евреем, не сгибающим спины? Где? Здесь? В Российской империи?
— Да!
— Возблагодарим всевышнего, что нас здесь терпят с согнутыми спинами! Геройствовать можно у себя дома!
— А разве Россия — не наш дом?
— Не надо путать, дорогой, дом с приютом.
— Н-но! Холера ясна! — громче обычного вскрикнул извозчик.
— Будь я на месте государя, — быстро заговорил Эльяшев, — я бы давно все решил.
— Что?
— Открыл бы ворота и сказал: «Убирайтесь!» Не по душе вам моя держава, выбирайте себе другую. Хоть Америку, хоть Палестину! Но уж если вы выберете мою, то извольте слушаться, как все верноподданные, не стрелять в моих генерал-губернаторов, не терзать моих вельмож, не попрекать их пустяками, не поднимать гвалт из-за каждой царапины или ранки. От отеческого битья дырок не бывает!..
Михаил Давыдович продолжал жить в мире слов, он правил ими, как царь-самодержец; слова были его безропотными подданными, в верности которых он не сомневался; они трудились с утра до вечера без передышки, сбегались по первому его зову, как солдаты, готовые жертвовать собой ради его выгоды и блага.
Шахна слушал его и думал: как он с такими мыслями может защищать своих подопечных? На чьей же он, в конце концов, стороне? Суда или подсудимых? Закона или беззакония? Свободы или рабства? Но Эльяшев, видно, не морочил себе голову такими семинаристскими вопросами. На каждый случай у него был свой набор доказательств, свои тщательно продуманные доводы.
Семен Ефремович понимал, что господину присяжному поверенному предстоит тяжелейшая борьба, в которой его шансы на успех мизерны, если успехом считать не освобождение, а десять лет каторги. Желая чем-то помочь Михаилу Давыдовичу в его многотрудном деле, Шахна ненавязчиво, как бы вскользь, сказал:
— В Вильно приезжает отец.
— Чей отец?
Эльяшев не любил, когда с ним разговаривали намеками, не терпел туманных, обрубленных фраз, сам предпочитал выражаться ясно и недвусмысленно.
— Мой… И Гирша…
— Кстати… Очень кстати, — пропел Михаил Давыдович.
В его хитроумной голове созрел какой-то план, и он тут же поспешил поделиться им с Семеном Ефремовичем:
— Думаю, ему, отцу жандарма, вполне могут разрешить свидание с арестованным…
Эльяшев запнулся, но быстро нашел выход из положения:
— Вы уж на меня не обижайтесь. Говорю что думаю. Хотя, если честно признаться, мне одинаково отвратительны и революционеры, и жандармы.
— Но я, господин Эльяшев, не жандарм.
Семен Ефремович произнес это тихо и твердо, так, чтобы этот говорун, этот великодушный пройдоха не смел прекословить. Не ему, кормящемуся в прихожей у произвола и беззакония, судить, кто жандарм и кто ниспровергатель устоев.
— Н-но! Холера ясна! — понукал свою лошадь извозчик.
— Не обижайтесь, — пробормотал Михаил Давыдович. — Ради спасения человека я готов заключить союз даже с дьяволом.
Ради спасения человека? Нет, нет, подумал Шахна. Эльяшев согласился защищать Гирша не столько ради его спасения, сколько ради своего имени. Чем бы суд ни кончился, Михаил Давыдович внакладе не останется. Слава его станет еще громче: «Ах, Эльяшев! Тот самый Эльяшев, который защищает не только этого еврея-детоубийцу Ешуа Манделя, но и головореза Дудака!» А если он к тому же выиграет суд, к нему со всей России потянутся толпы обиженных. Чего-чего, а обиженных, жаждущих справедливости всегда больше, чем самой справедливости!
— Приехали! — объявил извозчик.
Эльяшев и Шахна поднялись на второй этаж тюрьмы и зашагали по длинному, плохо освещенному коридору с множеством одинаковых, окованных железом дверей.
Митрич узнал Семена Ефремовича, плутовато подмигнул ему и радушно сказал:
— Милости просим.
На первый взгляд в камере Гирша ничего не изменилось: тускло светилось забранное в решетку окно, серела арестантская койка с вывороченным матрасом, набитым прелой соломой, стояла прикрытая рогожей тлетворная параша.
И все же камера чем-то отличалась от той, прежней, в которой Семен Ефремович провел две страшные, две незабываемые ночи. Шахна и сам не мог понять, в чем состоит это отличие, но он чувствовал его своим взбудораженным нутром, радуясь тому, что больше — он почему-то был в этом уверен — с ним этот ужас не повторится. Теперь он был не соузник, а брат, даже гость, которого не запрут на засов (по первому же его требованию выпустят отсюда) и на которого силком не напялят арестантскую куртку.
Новизну камере придавало не только это новое ощущение, но и невесть откуда залетевшая сюда бабочка, которая то садилась на железный переплет окна, то взмывала вверх и, расправив крылышки, вольно кружилась в тюремном поднебесье.
Гирш с развороченной, незастеленной койки следил за гостями и тихо насвистывал.
— Здравствуй, Гирш, — промолвил Семен Ефремович. — Знакомься. Михаил Давыдович Эльяшев, твой защитник.
— Господин Дудак, — с какой-то печальной торжественностью, без всякого вступления начал присяжный поверенный, — следствие по вашему делу подошло к концу и передано в суд. Как вам, наверно, известно, вы предстанете не перед гражданским судом, а перед военным… Надеюсь, разницу вам объяснять не надо.
— Не надо, — послушно ответил Гирш и снова стал насвистывать.
— Скажу только, что если вы не проявите благоразумия, то за последствия я не поручусь.
Михаил Давыдович вынул из кармана носовой платок с вензелем, высморкался, прислушался к свисту.
— Благоразумие и еще раз благоразумие!
— Гирш! — пристыдил брата Семен Ефремович.
— Я слушаю, — пробормотал тот, все еще насвистывая.
Свист, видно, успокаивал, возвращал к другой, беспечальной поре, к другой жизни, где не надо было отвечать ни на какие вопросы, потому что ни деревья, ни птицы, ни текущий мимо местечка Неман их не задавали, а если и задавали, то не требовали ответа; ответом было само его существование, его волосы, его ноги, его глаза.
— Поверьте моему опыту: нет такого положения, из которого нельзя было бы найти выхода, — спокойно и весомо продолжал Михаил Давыдович. — От вас требуется совсем немного… Попросите прощения… Обещайте, например, уехать из России.
— Куда? — спросил Гирш.
— Мало ли куда! — Эльяшев отметил про себя его заинтересованность. — В Америку!.. В Палестину!.. В далекую Австралию. Лучше туда, чем на кладбище. Ваш брат — Семен Ефремович — купит вам шифскарту. Не упорствуйте!
Гирш заливался пуще прежнего.
Семен Ефремович вдруг подумал, что во всем виновата эта бабочка-самоубийца, которая отвлекает Гирша, напоминает, видно, мишкинские рощи и заставляет его то щелкать дроздом, то заливаться соловьем, и принялся выгонять ее.
Он размахивал руками, но бабочка и не собиралась улетать, садилась на стены одиночки, на потолок, на косяк железной двери и, когда Шахна уставал от взмахов, ярко-желтым пятном зависала в воздухе.
— Перестань, — не то к Гиршу, не то к бабочке обратился Семен Ефремович.
— Свистите, господин Дудак, свистите, — промолвил Эльяшев. — На суде у вас такой возможности не будет. Но я хочу знать: вы принимаете мое предложение или нет?
— Я отсюда никуда не уеду… Здесь родился, здесь и умру.
— Похвально, господин Дудак. Но позвольте у вас спросить: что лучше — в двадцать четыре года умереть в России героем или до ста дожить в Австралии сапожником? — сказал Михаил Давыдович и как бы в поисках поддержки глянул на Шахну. — Вы можете считать меня ретроградом… реакционером, но я вам вот что скажу: Россия больше нуждается в сапожниках, чем в героях! Подумайте, пока еще есть время. Или вам позарез хочется стрелять в генерал-губернаторов?
Гирш ничего не ответил.
Дав своему подопечному еще несколько полезных советов, как надо вести себя на суде, Эльяшев попрощался с братьями и в сопровождении ухмыляющегося Митрича вышел в коридор.
— Двух похорон отец не выдержит, — промолвил Семен Ефремович, когда они остались вдвоем.
— Двух похорон? — Гирш перестал свистеть.
— Эзра при смерти…
— Что с ним?
Бабочка села на щербатый стол, и Шахна мог отчетливо разглядеть выспренный рисунок на ее крылышках. Пестрые точки и запятые, смахивающие на древнееврейские письмена, сливались в один таинственный узор.
Неужели она отсюда никуда не вылетит?
— Отец приезжает, — сказал Шахна. — Он, конечно, захочет тебя увидеть.
— А ты ему что-нибудь соври.
— Отец все знает.
— Все?
— Все.
— Тогда он ко мне не придет.
— Почему?
— Сам знаешь.
— Но ты же не убийца… Рана оказалась пустяковой. Пуля прошла только щиколотку. Генерал-губернатор уже приступил к исполнению своих обязанностей.
— Уже приступил?
— В военном госпитале… Бумаги подписывает… посетителей принимает…
— Все равно я убийца, — сказал Гирш. — Я хотел его убить, а не ранить. Убить.
— Ты не должен так говорить. Ни отцу, ни судьям, ни себе. Никому.
— Мне и сейчас его хочется убить, — твердо произнес Гирш.
— Гирш! Брат мой! — у Семена Ефремовича перехватило дыхание; ноздри у него раздулись, он жадно, почти отчаянно задышал. — А меня гложет жажда любви… Хочется всех любить. Всех… и тебя, и его…
— Генерал-губернатора?
— Да… И этого Митрича, не понимающего своего несчастья… Всех, всех… Только боязно: не успею…
— Неужели тебе, Шахна, никогда… никого не хотелось придушить, зарезать…
— Хотелось, — неожиданно ответил тот.
— Вот видишь, — странно обрадовался Гирш.
— Мне хотелось самого себя… — сказал Семен Ефремович. — За то, что такой ничтожный… грешный… алчный…
Он попытался отыскать взглядом бабочку, но той нигде не было видно.
Улетела, подумал он с сожалением.
А может, ее и вовсе не было?
Конечно, не было. Откуда же ей было взяться здесь, в этом пресловутом 14-м номере, в этой неприступной каменной клоаке? Камера смертника не зеленая лужайка, не березовая роща на берегу Немана.
— Во всем, Гирш, виноват не генерал-губернатор. И не царь. А мы, — сказал он, озираясь.
— Мы?
— Пока мы будем во всем винить других, наша вина будет с каждым днем расти… Пора принять ее на себя… за все… за все грехи, собственные и чужие. Это я виноват, что ты здесь.
— Ты?
— Я.
Семен Ефремович снова оглянулся, но, кроме некрашеных стен, параши, покрытой рогожей, и выщербленного земляного пола, ничего не увидел.
— Я не очень любил тебя… там… на свободе…
— Не любил, и ладно.
— Нет, нет… Любить надо живых, а не…
Шахна осекся.
— Мертвых? Так ты хотел сказать?
— Жалеть надо не погибающих, не приговоренных… не сосланных, а тех, кто с тобой рядом… — Семен Ефремович заглатывал слова, то и дело откашливался. — Послушай, — понизил он голос, — только что здесь летала бабочка.
— Тебе померещилось, — промямлил Гирш.
— Нет, нет… Она летала.
Арестант оглядел одиночку и пожал плечами.
— Я видел ее собственными глазами, — горячо возразил Семей Ефремович, как будто его уличили во лжи. — Ты щелкал дроздом, а она порхала… Только не смейся надо мной: двадцать пять лет тому назад я уже видел ее… в березовой роще над Неманом, куда Алоизас телят пригонял… Это была та же бабочка. Клянусь.
— Бабочки живут всего один день. От силы два, — сочувственно произнес Гирш. — Ты, брат, переутомился.
Ржаво щелкнул засов.
— Митрич обед несет, — сказал Гирш.
— Давай его спросим.
— О чем?
— О бабочке.
— Далась тебе эта бабочка. Ну летала, летала!
В коридоре запахло едой.
— Иди, — сказал Гирш. — Иди… Если увидишь отца, попроси у него прощения за сапоги.
— За какие сапоги?
— За юфтовые… Когда я уходил в Вильно сапожничать, я обещал сшить ему юфтовые сапоги… Так вот передай: если помилуют, будут не юфтовые, а хромовые, как у Маркуса Фрадкина.
В камеру вошел Митрич, поставил на стол миску с бурдой, положил краюху хлеба, луковицу.
— Так и передай, — буркнул Гирш.
— И больше ничего?
— Ничего.
Гирш принялся хлебать бурду.
Митрич подождал, пока он справится с едой, вылил остатки в парашу и направился к двери.
— Постойте! — крикнул Семен Ефремович.
— Чего тебе?
Надзиратель уставился на бледного толмача, но тот только покусывал губы.
Господи! Да Митрич поднимет его на смех! Какая еще бабочка? Бабочка в 14-м номере? Хо-хо-хо!
— Я скоро… не закрывайте… я сейчас выйду, — пролепетал Семен Ефремович и вдруг почувствовал, как его осыпало узорчатой, похожей на древнееврейские письмена пыльцой, как он весь уменьшился, ссохся и превратился в махаона.
— Дай отцу адрес Миры. Пусть позаботится о ней, когда она родит, — попросил Гирш.
— О Мире я сам позабочусь.
— Сам?
— Если… если с тобой что-нибудь случится, я женюсь на ней. По нашему обычаю брат берет в жены вдову брата.
Гирш расхохотался:
— По нашему обычаю брат берет в жены вдову брата? А о том, что Мира никогда за тебя не пойдет, ты подумал?
— Но почему?
— Потому что гордая… потому что ты, как и всякий жандарм, будешь напоминать ей в постели виселицу.
У Семена Ефремовича потемнело в глазах. Он хотел было броситься к Гиршу, схватить его за ворот арестантской куртки, повалить на пол и топтать, топтать, но ноги его не слушались. Махаон! Махаон, умеющий ползать, но не летать.
— Да, — произнес он тихо, — я служу в жандармерии. Но я, Гирш, лучше тебя… я еще ничью кровь не пролил, а с тебя… а на тебе…
Семен Ефремович сгорбился, втянул голову в плечи, но голова была слишком тяжелая, и она никла на тонкой шее.
— Чужая кровь не высыхает, — прохрипел он.
И вдруг добавил:
— Прости! Прости!..
В самом деле, какое право он имеет обвинять его, вступившегося за свою честь и за честь своих поруганных товарищей? Разве он, Шахна, только что не распространялся о любви ко всем и каждому? Почему же для своего брата делает исключение? Ведь ожидающего казни Гирша надо любить больше всех. Любить, а не унижать правдой, ничем тебе не грозящей.
— Я пошутил, — сказал Гирш. — Может, Мира согласится и будет с тобой счастлива.
— Мне пора, — косясь на дверь, произнес Семен Ефремович. — Советую тебе не горячиться. Я лично не во всем согласен с присяжным поверенным Эльяшевым… И я говорил бы правду даже на костре, сколько бы поленьев под меня не подкладывали, но ради отца… ради беременной жены я бы подумал.
— Я подумаю, — пообещал Гирш. — Думаешь, Шахна, мне не хочется жить? Думаешь, я из железа?
— Тогда в чем же дело?
— Ты этого не поймешь… Иногда, брат, я этого и сам не понимаю… Я тебя только об одном прошу: не приводи сюда отца.
В коридоре Семен Ефремович замедлил шаг, остановился возле Митрича и, превозмогая смертельную усталость, спросил:
— Скажи, служивый, ты здесь не видел такой маленькой… такой цветистой бабочки?
Надзиратель обалдело вытаращился на Шахну.
— Никак нет, — ответил он растерянно, словно упустил по службе что-то важное. — А зачем она вам?
— Зачем? — Семен Ефремович уже был не рад, что спросил. — Я хотел… хотел ее выпустить.
— Чтобы отсюда выпустить, надо сперва посадить, — резонно заметил Митрич. — А бабочек, кажись, еще не сажают…
Когда до Вильно оставалось верст двадцать-тридцать, Шмуле-Сендер и Эфраим решили больше не останавливаться на ночлег, а ехать и ночью — благо ночь выдалась тихой и светлой, такой, какой она бывает не в начале мая, а в середине лета, в самую косовицу ржи.
Звезды горели ярко, не затухая, как будто кто-то наверху все время подкручивал фитиль, и свет их, благостный, звонкий, лился на голову лошади, спокойно и чинно ступавшей в еловой тишине, на возницу, на растравленную душу Эфраима.
Смерть Авнера опустошила их, унизила их замысел, лишила какой-то невидимой, но прочной опоры, безвозвратно унесла то, чему они не могли подыскать названия.
Казалось, за смертью Авнера последует что-то страшное, ибо цепь, из которой вынули звено, не может не рассыпаться. Старик Эфраим и Шмуле-Сендер (правда, в меньшей мере) относились к смерти, как к работе, — не выполнить ее нельзя. Их потрясло только то, что Авнер справился с этой работой раньше, чем они, и получил за нее ничтожное вознаграждение — желтый песчаный холмик на чужом кладбище, не орошенный родственной слезой.
— Самое страшное на свете, Эфраим, когда некому тебя оплакать, — сказал Шмуле-Сендер. — У тебя, слава богу, дети… У меня Фейга…
— Самое страшное, Шмуле-Сендер, когда оплакиваешь своих детей, — ответил Эфраим, вглядываясь в дорогу.
После встречи с Данутой его угнетало какое-то колючее, застилавшее глаза предчувствие. Как он ни гнал его от себя, оно подкрадывалось, захватывало его ум, обжигало сердце. Вглядываясь в спокойный литовский пейзаж с ленивыми, словно только что созданными всевышним коровами, с редкими ветряками, размахивавшими деревянными крыльями, с голубыми подковами озер, разбросанными по обе стороны большака, Эфраим испытывал не столько радость, сколько тревогу. Ему казалось, что вон за тем поворотом вся эта благодать кончится и начнется то, чего он больше всего боялся, — тюрьмы, суды, присутственные места, содом и гоморра, царство дьявола, заманившего его, Эфраима, детей, чтобы надругаться над их чувствами, рассорить, погубить, подчинить какой-то слепой, не знающей пощады силе — силе отречения и отщепенства.
Шмуле-Сендер глубокомысленно морщил лоб и укоризненно поглядывал на Эфраима. Снова заладил: оплакивать детей! Как будто по дороге в Вильно не о чем поговорить. Да знает ли Эфраим, что Вильно — вовсе не царство дьявола, не содом и гоморра, а благословенный город с сорока пятью синагогами и десятью базарами — мясным, рыбным, вещевым, скотным, что живут там люди в высоченных домах, словно птицы на деревьях, что он, Шмуле-Сендер, был тут в молодости, ему даже одну барышню сватали, но он вернулся на родину, в Мишкине. Зачем ему столько синагог — у него грехов и для одной не наберется. Зачем ему десять базаров — что на деньги водовоза купишь? Другое дело — Берл! Тому город подавай. И не абы какой, а громадный, всем городам город, Нью-Йорк! Он в этом своем Нью-Йорке как рыба в воде плавает и еще от удовольствия пузыри пускает. Недаром пишет: «Наступит день, когда все евреи — из Мишкине ли, из Сморгони ли, из Вильно ли, из Бердичева ли — приедут в Нью-Йорк. И все там будут плавать, как рыбы. До евреев-рыб ни городовой, ни пьяный мужик не доберется!»
Шмуле-Сендер приедет в Вильно и перво-наперво спросит у Шахны, что такое «ол райт»… Шахна — человек ученый, Шахна умеет говорить по-всякому, должен знать, что такое «ол райт». Почему там, у них, этого «ол райта» полно, а у нас о нем никто слыхом не слыхивал.
— Знаешь, Эфраим, — протянул Шмуле-Сендер. — Иногда мне в голову лезут глупые мысли.
— Только иногда?
— Я вдруг подумал: что бы я сделал, будь я царем?
— Ну и что бы ты такое сделал?
— Что бы я сделал?.. Я бы, во-первых, всех сделал евреями.
— А во-вторых?
— Тебе мало во-первых?
Шмуле-Сендер никак не мог придумать, что бы он сделал во-вторых. Может, закупил бы в Америке этот «ол райт», чтобы его и здесь на всех хватило.
Вокруг чернели молодые ельники, от которых веяло прохладой и мшистой прелью. В придорожных кустарниках по-щучьи, гоняясь за прошлогодней листвой, метался ветер. Кое-где, на пригорках, переламываясь в звездном сиянии, дрожал силуэт крестьянской избы.
Где-то в бору ухал одышливый филин.
Шмуле-Сендер молчал и в уме переделывал мир: превращал в рыб евреев и литовцев, русских и татар, грузил на пароходы этот диковинный американский «ол райт», сжигал все виселицы, выпускал из тюрем всех узников, разгонял всех судей, менял панталоны и штиблеты, носил на обеих руках часы фирмы «Бернар Лазарек и сын», покупал впрок для своей лошади овес, открывал в Вильно одиннадцатый базар и сорок шестую синагогу.
— Я загадал желание, — сказал он Эфраиму.
— Какое желание? — снизошел каменотес.
— Если мы въедем в Вильно утром… на рассвете… до того, как погаснет последняя звезда… твоего Гирша помилуют.
Лошадь шла бодро, и с каждым ее шагом от ночи, как от черной льдины, отламывался кусок, который таял на глазах, оседал и погружался в светающую пучину.

Когда они въехали в Вильно, день только занимался, и оттого, что желание Шмуле-Сендера сбылось, его и Эфраима охватило какое-то радостное волнение.
— Ерушалаим де Лита! — воскликнул Шмуле-Сендер. — Литовский Иерусалим! Здравствуй!
И он поклонился.
— Поздоровайся с городом, Эфраим!
Тот склонил голову.
— Что за красота! Только ради этого стоило родиться! Смотри!
Шмуле-Сендер поворачивал голову то вправо, то влево, что-то восторженно бормотал не то городу, не то лошади, не то своему сыну Берлу, и все они — и лошадь, и город, и Берл — как бы шептали ему в ответ долгожданные, сокровенные слова, над которыми со всех сторон плыл могучий звон колоколов, зовущих прохожих к заутрене.
Эфраим слышал, что на свете есть большие города, но чтобы на земле были такие большие, как Вильно, он представить себе не мог.
Все поражало его: и беззаботные прохожие, сновавшие туда-сюда, словно никогда не были обучены ремеслам, и их странные, невиданные дотоле одежды — монашеские рясы, роскошные военные мундиры, шляпы, похожие на перевернутые миски; и городовые со спесивыми бляхами, и пролетки с поднятыми верхами, и длинные, бесконечные улицы, втекавшие одна в другую, как речки в половодье в Неман; и бесчисленные костелы и церкви, состязавшиеся в своем великолепии, но особенно будоражили воображение многоэтажные каменные дома, как бы громоздившиеся друг на друга и надменно рвавшиеся в небо.
Как же люди ухитряются на такой высоте жить? Как хорошо, что на кладбище нет этажей.
Неужели и Шахна живет в таком доме?
Эфраим войдет к нему, а у Шахны — крест на шее, и икона в углу, и жена-иноверка.
Хватит с него, Эфраима, Эзры!
— Ты хоть знаешь, где эта улица — Большая? — спросил он у Шмуле-Сендера.
— Нет. В Вильно все улицы большие. И эта, и та, — ответил возница.
На углу телега остановилась.
— Не скажете ли, добрый человек, как нам проехать на Большую улицу, — обратился Шмуле-Сендер к уличному торговцу, торговавшему нитками, пуговицами, иголками и прочей мелочью.
— Что за люди! — воскликнул торговец. — Целый день стоишь и ждешь, когда кто-нибудь к тебе подойдет и спросит: «Почем?» А они спрашивают, как проехать на Большую улицу! Наверно, думают, что меня кормят ответы.
Шмуле-Сендер охотно купил бы у него и ответ, и моток ниток — хоть их из Вильно Фейге привезет, — но в кармане не было ни гроша.
— Поедете сперва направо, потом налево, потом снова налево, потом направо… — затараторил торговец. — Потом вниз до Трокской. А оттуда до Большой один шаг.
— Спасибо, — сказал старик Эфраим и про себя решил, что, когда разживется деньгами, обязательно придет на этот угол, к этому желчному терпеливому торговцу, и купит у него на полтинник всякой всячины. А если повезет и Гирша помилуют или сошлют на каторжные работы, он, Эфраим, расщедрится на целый рубль!
Лошадь громко цокала копытами по мостовой. Шмуле-Сендер долго плутал по городу, пока наконец через горловину Трокской улицы не въехал на Большую.
Старик Эфраим нашарил за пазухой кисет, достал смятый листок с адресом, поднес к глазам и, волнуясь, облизывая пересохшие губы, неумело и виновато, как в хедере, прочел:
— Восемь…
— Что восемь? — осведомился Шмуле-Сендер.
— Дом восемь…
— Ты иди один, — промолвил Шмуле-Сендер. — А я пока лошадь пристрою.
Ему не хотелось мешать Эфраиму. Пусть побудет наедине со своей радостью. Долгожданная, нечаянная радость похожа на невесту — она застенчива и целомудренна, не терпит посторонних глаз, ищет себе укромный уголок и там, не стесненная ничем, царствует и зачинает другую, новую радость. До этого порога, до этой Большой улицы в этом большом городе Вильно все было просто. Все они: и Шмуле-Сендер, и Авнер, и старик Эфраим — составляли как бы одно целое, были одной плотью и одной кровью. Только смерть могла их разлучить. Смерть или такая разлучница, как радость.
Он, Шмуле-Сендер, на Эфраима не в обиде. Будь на месте Шахны белый счастливый Берл, он тоже уединился бы с ним. Жаль только — одному придется до Мишкине добираться. На дорогах неспокойно: разбойники рыщут, беглые солдаты; можно и не доехать. А тут, в Вильно, ему больше делать нечего — во все сорок пять синагог не сходишь, на всех десяти базарах не побываешь. Шмуле-Сендер отдохнет немного и, уповая на господа бога, двинется восвояси.
— Погоди, — сказал ему старик Эфраим. — Шахна даст тебе немного денег. Купишь своей гнедой овса.
— Иди, иди, — отнекивался возница. — Нет лучшей лошади, чем радость. Радость не то что в телегу — в поезд может впрячь, и потащишь, припеваючи…
— Какая тут, Шмуле-Сендер, радость! — вздохнул Эфраим.
И он, не оборачиваясь, зашагал к дому.
Шмуле-Сендер с какой-то виноватой завистью смотрел ему вслед, почесывая себя кнутом за ухом, где, видно, была затканная паутиной полупустая кладовая его мыслей.
Никогда еще белый счастливый Берл не казался таким далеким, как в эту минуту. К горлу подступила теплая пасхальная галушка, которую он никак не мог проглотить, глаза предательски заблестели, но Шмуле-Сендер до хруста сжал кнут и снова уставился на дом номер восемь.
Никуда он, конечно, без Эфраима не уедет. И не потому, что боится разбойников или беглых солдат, а потому, что иначе и быть не может. Всю жизнь — даже на русско-турецкой войне — вместе и вдруг врозь?
Эфраим встретится с сыновьями, насытится любовью или печалью и повернет оглобли обратно.
Шахна даст отцу на дорогу рубль-другой, и они, попрощавшись с литовским Иерусалимом, покатят назад в Мишкине, в свой Иерусалим.
Не спуская глаз с дома Шахны, Шмуле-Сендер вдруг ни с того ни с сего принялся думать о смерти. Когда он умрет, думал он, никто в его яму не бросит ни горстки корицы, ни пригоршни изюма, никто не завернет в его саван ни шила, ни рубанка. Может, Эфраим — если переживет его! — зачерпнет в Немане кувшин чистой прозрачной воды и плеснет в могилу.
Долго думать о смерти Шмуле-Сендер не умел, и потому, наверно, его мысли, задев Эфраима и Шахну, как куры на ячменное зерно, сбежались к счастливому белому Берлу. Это, конечно, замечательно, что его часы показывают самое точное время в мире. Но почему они показывают самое точное время не в России, а в Америке? Чем она, эта Америка, лучше?
Шмуле-Сендер посмотрел на окна и попытался угадать, за каким из них живет старший сын Эфраима Шахна.
Окна были одинаковые, как и жильцы, и эта одинаковость повергла Шмуле-Сендера в горестное изумление.
— Шмуле-Сендер! — услышал он чей-то голос.
Поначалу ему показалось, будто он ослышался. Будто обращаются не к нему, а к другому Шмуле-Сендеру. В Вильно их, небось, столько, сколько одинаковых окон. На каждом углу — Шмуле-Сендер, возле каждой лавки — Шмуле-Сендер, синагоги кишат Шмуле-Сендерами, на базаре не продохнуть от Шмуле-Сендеров, городовой с бляхой, и тот, наверно, бывший Шмуле-Сендер.
Когда он обернулся, то увидел рыжеволосого малого в опрятном пальто с широкими, как тротуарные плитки, карманами, в причудливой — или, как ее называли противники модной одежды, немецкой — шляпе со стеганым верхом и кожаным козырьком, в высоких, аккуратно зашнурованных ботинках, с гладко выбритыми щеками.
— Шахна! Шахнеле! — простонал Шмуле-Сендер. — Как же ты меня узнал?
— А я не вас узнал, — признался Шахна.
— Не меня?
— Лошадь. Ведь я же с вашим Берлом на бочке катался.
— Катался, катался! — пританцовывая на месте, повторял польщенный вниманием Шмуле-Сендер. Он тыкал в старшего сына Эфраима кнутом, желая убедиться, что перед ним не привидение, а живой человек.
— Помнишь, как ты у меня допытывался: «Ты всю реку вычерпаешь?» Всю не всю, а пол-Немана вычерпал, — ответил Шмуле-Сендер и просиял, завидев Эфраима. — А вот и твой отец!
— Помню.
— А как ты затычку вытащил — помнишь?
— Помню… Ну как — весь Неман вычерпал?
Старик Эфраим узнал сына еще издали, замедлил шаг, как бы свыкаясь со своей радостью и давая успокоиться сердцу. Побежишь, и оно, чего доброго, лопнет.
Не спеши, не спеши, уговаривал он себя, чувствуя, как в груди вместо одного сердца забилось два, одно другого громче и больней.
Застыл и Шахна.
Вид отца огорошил его. Старик Эфраим держался прямей, чем прежде; кудлатая его голова заросла еще больше; молодые дикие космы выбивались из-под шапки; он не горбился, не сутулился, и глаза его — насколько Шахна разглядел издали — тлели по-прежнему тихо и белесо, как головешки; только брови гуще присыпал иней, но и он был какой-то молодой, почти праздничный, словно выпал только вчера ночью.
— Дай-ка мне, Шмуле-Сендер, кнут, — попросил он, подойдя.
— Зачем? — испугался возница.
— Дай-ка! Дай!
Шмуле-Сендер протянул ему кнут, старик Эфраим расплел его, шутливо щелкнул им над немецкой шапкой Шахны.
— Что ты делаешь? — выпучился Шмуле-Сендер.
— Вытяну его за то, что приезжал редко… что тратился на меня…
Шахна не выдержал, бросился к отцу, обнял за плечи, поцеловал в можжевеловую бороду быстро, истово, виновато, уткнулся в стариковскую грудь, в которой, перебивая друг друга, продолжали биться два сердца, одно — радости, другое — тревоги.
— Ладно, — приговаривал довольный Эфраим. — В другой раз высеку… Завтра, завтра…
Он машинально повторял это «завтра, завтра», вкладывая в это слово какой-то непонятный постороннему смысл, важность которого должна была обнаружиться позже.
— Что ж мы стоим! Пойдем ко мне, — предложил Шахна.
— У меня, Шахнеле, дело, — отнекивался Шмуле-Сендер.
— Вилию решили вычерпать? Она и так обмелела.
— Посланец из Нью-Йорка приехал… Подарок от Береле привез… Золотые часы со звоном…
— Со звоном? — спросил Шахна и глянул на отца.
— Ага… — пробормотал Шмуле-Сендер. — Идите, идите… Вам надо вдвоем…
Старику Эфраиму не хотелось в такую минуту уличать Шмуле-Сендера во лжи.
— Шахна! Лошадь в пути проголодалась. Дай Шмуле-Сендеру на овес!
Семен Ефремович достал бумажник — ни Эфраим, ни Шмуле-Сендер никогда не видели такого кошелька с застежками, большими и малыми отделениями — и протянул водовозу деньги.
— Приходи к вечерней молитве, — промолвил Эфраим.
Шмуле-Сендер радостно замурлыкал; лошадь замотала головой. Она всегда знала, когда хозяин возвращается с деньгами, а когда и с пустыми руками. В этом гнедая Шмуле-Сендера была куда прозорливей, чем его жена — Фейга.
Жилье Шахны не обрадовало Эфраима. Оно поражало бедностью, даже убогостью. Единственное богатство — книги. Книг было много, больше, чем у рабби Авиэзера, и все толстые, в каких-то почерневших переплетах, от которых пахло клейстером и табачным листом. В углу стояла скромная односпальная кровать, застеленная недорогим серым покрывалом, с большой, взбитой, как взъерошенная наседка, подушкой.
— Да-да, — неопределенно протянул Эфраим. При таком жалованье Шахна мог жить намного лучше — купить мебель, шкаф, двуспальную кровать. Неужто он собирается ходить в холостяках целый век? — снять комнату попросторней, а может, даже не одну. Не придумал ли Шахна свою службу, как Шмуле-Сендер часы со звоном?
— Ты, наверно, есть хочешь? — спросил Шахна без всякой связи.
— Нет. Вижу, пейсы состриг. Одет по-немецки. Может, говорю, крестился?
— Бог миловал, — откашлялся Шахна.
— Но и раввином не стал. Почему?
Эфраим настойчиво, не давая Шахне передышки, подбирался к главному: что же он, его сын, делает в славном городе Вильно, где сорок пять синагог и десять базаров. Чем и на каком базаре торгует?
— Ты на меня не обижайся, — сказал Эфраим.
— За что?
— За вопросы. Что поделаешь, если старость — не вопрос, а ответ.
Эфраим поднял глаза, снова оглядел келью Шахны, задержался взглядом на давно не мытом окне, на золотом муравейнике лучей, потом — на сыне.
— Один живешь?
— Один. Господь бог тоже холостяк.
— Ишь, куда хватил!.. У господа бога есть ангелы… херувимы… мы, его дети…
— Мы — дети дьявола, — серьезно сказал Шахна.
Наступило тягостное молчание. Слышно было, как по Большой улице с лихой песней вышагивают солдаты.
Эфраим приехал в Вильно не для того, чтобы спорить со старшим сыном. Эфраим вообще не любит спорить. Шахна знает, зачем он пустился в эту далекую, в эту изматывающую дорогу. Почему чужой человек — Юдл Крапивников — ему про Гирша уши прожужжал, а родной сын об этом ни слова?
— Как ты думаешь, — вырвалось у него внезапно, — отдадут мне Гирша?
— Если суд его признает виновным, то вряд ли…
— А зачем он им мертвый?
— Его еще могут помиловать… Ради жизни можно поступиться своими убеждениями. Жизнь выше убеждений.
Эфраим насупился, выглянул в окно, за которым по-прежнему сокрушала булыжник тяжелая поступь солдат.
— Убеждения до тех пор хороши, — сказал Шахна, — пока не становятся предубеждениями. У Гирша жена… не сегодня-завтра родится ребенок… ты… — Он вдруг спохватился, что говорит с отцом, как с Ратмиром Павловичем.
— Для тебя я, выходит, не существую?
— Существуешь… Гирша защищает лучший присяжный поверенный в Вильно — Михаил Давыдович Эльяшев, — зачастил Шахна. — Будем, отец, надеяться, верить.
— Я, сын мой, со дня рождения верю… В бога… в вас, моих детей… Кроме веры, у меня никаких убеждений не было. И что?
Эфраим замолк.
— И что? — продолжил за него Шахна.
Раньше ему никогда не приходилось видеть отца таким открытым, смятенным, алчущим правды и понимания.
— Как был один, так один и остался.
— Ты не один, отец, — утешил его Шахна.
— Один. Один.
— А мы?
— Ты же сам сказал: «Мы — дети дьявола…»
— Я имел в виду совсем другое, — принялся оправдываться Шахна, с каждой минутой лишаясь не столько доводов, сколько уравновешенности.
— Верить можно только мертвым, — твоей матери Гинде, твоим мачехам Двойре и Лее… нищему Авнеру, да будет ему пухом земля, твоему деду Иакову… А вы — живые.
— Но мы, отец, в этом не виноваты.
— Да. И все же только мертвые не изменяют.
— А бог?
— Бог, — старик Эфраим запустил руку в космы. — Он такой же несчастный отец, как я… как Шмуле-Сендер… Он ждет от каждого из нас, что ему подарят часы со звоном… Но каждый из нас знает, что часов, показывающих веру, как время, нигде, даже в хваленой Америке, нет.
— Ать-два! Ать-два! — раздавалось за окном.
— Послушай, Шахна, где их хоронят?
Шахна понял, о ком спрашивает отец, и нахмурился.
— На военном поле.
— А что такое военное поле?
— Обыкновенный пустырь. Но Гирш еще жив! — возмутился Шахна.
Как отец может об этом так просто говорить? Как будто речь идет не о живом человеке, а о каком-нибудь кладе — мешке с золотыми монетами, зарытом, как гласит молва, солдатами Наполеона на том же военном поле. Господи, что будет, когда отец узнает, что он, Шахна, почти причастен к казни Гирша? — подумал Семен Ефремович.
— Ты мне, Шахна, растолкуй старому, за что он его… этого генерал-губернатора?..
— Он велел их прилюдно выпороть. Всех до единого. За поркой наблюдало полгорода: дамы… господа… все приставы Вильно… восемь пожарных с брандмейстером во главе. Хохот, визг, улюлюканье!
— Меня в детстве еще и не так пороли. Задница на то и задница, чтобы нет-нет да огреть ее. Стоит ли из-за своей, пусть и в волдырях, задницы лишать другого жизни? Разве ты, Шахна, стрелял бы? Разве я стрелял бы? А Эзра?..
— Нет. Но исполосовали не задницу, а его душу, — заступился за Гирша Шахна.
— А ей порка полезна, — спокойно ответил Эфраим. — Мою душу вы вон сколько лет порете… А она к вам все равно тянется…
Шахна был готов говорить о чем угодно, рассказывать о Гирше или Эзре, смакуя подробности, только бы старик не спрашивал о его житье-бытье.
Да и о чем, собственно, его можно спрашивать? Он, Шахна, ни в кого не стрелял, в тюрьме не сидел, фокусы на площадях не показывал. Жизнь его (если посмотреть на нее глазами отца) течет ровно и беспечально. Ведь единственное, на что старик обратил внимание и что его, похоже, встревожило, это одиночество Шахны, отсутствие жены. Но это ж не беда. Чего-чего, а жен у Дудаков, как шутили в местечке, всегда было в два раза больше, чем надо.
Эфраим то ли от усталости, то ли от обилия обрушившихся на него впечатлений угрюмо помалкивал, и в этой угрюмости Семену Ефремовичу мнилась какая-то непредсказуемая угроза.
— Отец, — сказал он. — У меня есть один хороший знакомый… мы когда-то вместе с ним учились в раввинской семинарии… Сейчас он какой-то чин… в жандармерии… кажется, толмач… Он попросит своего начальника, чтобы тебе разрешили свидание.
— А зачем мне свидание с начальником?
— С Гиршем, — поправил его Семен Ефремович.
— Еврей в жандармерии? — удивился старик Эфраим.
Всей правды Семен Ефремович сказать отцу так и не посмел. А вдруг Ратмир Павлович откажет в просьбе? Вдруг он, Шахна, не выхлопочет для отца разрешения? Что тогда? Пусть отец вернется в Мишкине, ничего о нем, Шахне, не узнав. Если же Князев поможет и отец до суда попадет в 14-й номер, то Гирш ему все равно все расскажет.
— Если ты ничего есть не будешь, то я тебе постелю, — сказал Шахна и, подойдя к кровати, взбил подушку.
— А ты?
— Я — на полу.
— У евреев на полу только мертвые спят, — промолвил старик Эфраим, не отказываясь. Усталость давала себя знать. Голова висла; в глаза словно накрошили луку; ноги отяжелели и вросли в пол, как надгробия.
— Может, я и есть самый мертвый из твоих сыновей… — печально произнес Семен Ефремович.
Мысль его работала с лихорадочной быстротой. Может, лучше самому признаться, чем ждать, когда кто-нибудь — тот же Гирш или какой-нибудь завсегдатай синагоги ломовых извозчиков — откроет старику глаза. В конце концов, он, Шахна, ничем себя не запятнал. Совесть его чиста. Во всем, что происходит в жандармском управлении, не он виноват. Не он допрашивает, не он судит, не он отправляет на виселицу или в Сибирь.
— Что-то я не слышал, чтобы евреев брали в жандармерию, — снова усомнился Эфраим.
— Есть даже евреи, пьющие чай с государем.
— Такой еврей с каждым глотком становится православным, Шахна, — пробасил Эфраим, — всю жизнь я учил вас говорить правду.
— Учил.
— Если Гирш действительно хотел умертвить генерал-губернатора, то я не могу от своего сына требовать, чтобы он на суде лгал. Я могу только просить его, чтобы он не говорил правды.
— По-твоему, лучше отречься от жизни ради правды, чем от правды ради жизни?
— Каждый, Шахна, выбирает сам… Я не могу выбирать за Гирша… Или за тебя…
Эфраим помолчал, снова вперил взгляд в Шахну, как будто желая что-то выжечь, и добавил:
— Ведь и ты, сын, спустился в ад, не спросив меня.
Он сел за стол, положил на него свои руки и принялся разглядывать набухшие, голубоватые жилы; и каждая жила, как ручеек или стежка, убегала, уплывала от его старости к его истоку, к его детству, в зеленый принеманский край.
— Вернусь в Мишкине, и рабби Авиэзер, или жена этого несчастного корчмаря Ешуа Манделя Морта, или сам Маркус Фрадкин, у которого ты служил писцом, спросят меня: «Ну как там в Вильно твои дети?» И что я им, Шахна, отвечу?
Семен Ефремович сидел неподвижно за столом, и от этой неподвижности казался еще угрюмее.
— Что я им отвечу? Сын Шахна, гордость моя и сила моя, спустился в ад, чтобы спасать грешников, и сам грешником стал.
— Отец!
— А Гирш, смутьян и бунтовщик, вместо того чтобы народить нашему народу сто сапожников и сто швей, кончил свои дни на виселице…
Семен Ефремович зажмурился, снова открыл глаза, снова зажмурился: над подушкой порхала пятнистая, усыпанная пыльцой бабочка. Она то возникала, то исчезала. Шахна таращил глаза и думал не столько о словах отца, сколько о своем странном, болезненном состоянии, которое, начавшись в раввинской семинарии с гибели Беньямина Иткеса, все больше усугублялось.
До недавних пор Семен Ефремович еще надеялся справиться с болезнью без посторонней помощи, но чем дальше, тем больше убеждался, что ему без нее не обойтись. Он уже не раз порывался посетить доктора, даже выбрал в путеводителе по Вильно адрес: «Д-р. Хаим Брукман, душевные болезни. Александровский бульвар, двадцать. Прием больных с 10-ти до 15-ти», подходил к докторскому дому, прочитывал затуманенными глазами невеселую надпись на медной табличке и, понурив голову, плелся назад, на Большую, к мыши Нехаме, к Беньямину Иткесу, полуовну-получеловеку, к своему одиночеству.
После суда, думал Семен Ефремович, он обязательно сходит к этому Брукману, попросит какое-нибудь лекарство, а если оно не поможет, то он бросит все и уйдет куда глаза глядят.
— А Эзра, поскребыш, бражничает в придорожных шинках, — продолжал Эфраим, — и выкобенивается на базарах.
Семену Ефремовичу не хотелось вконец огорчать отца: пусть он об Эзре узнает попозже. А теперь — спать, спать, спать!
— У него есть дети? — спросил Эфраим.
— Нет, — ответил Шахна, догадываясь, о ком отец говорит.
— Одно счастье, — вздохнул старик.
— Жена его — Мира — ждет ребенка.
— Весной все беременны: и птицы, и деревья, и женщины, — сказал Эфраим.
Он стянул башмаки, поставил их под кровать, разделся, почесал лохматую грудь и лег.
Через минуту рядом лег и Шахна, и легкий, без видений, сон сковал его веки.
Эфраим смотрел на его седые волосы, и соблазн дотронуться до них не давал ему до утра уснуть…
На службу Семен Ефремович ходил мимо Вилейки, через Ботанический сад, вкушая прозрачный, как слеза, воздух, прислушиваясь к шуму быстрой, норовистой речки и следя за кружением крикливых ворон над Крестовой горой, где, по преданию, были похоронены три стойки», несгибаемых в своей вере монаха. И кресты, возвышавшиеся над грешным, торгующим, прелюбодействующим, погрязшим в гордыне городом, и безымянные монахи, противостоявшие вероотступникам, волновали душу и внушали ему, изгою, некую зависть, навевали необыденные мысли о бренности и скоротечности жизни.
Но сегодня Семен Ефремович пошел напрямик, через город. Не терпелось прийти на службу пораньше, чтобы не расплескать свою решимость, не разменять ее на пустопорожние, хоть и возвышенные, разговоры.
Допросы тяготили Ратмира Павловича Князева, утомляли, делали крайне раздражительным, а беседы с Семеном Ефремовичем, с которым он в последнее время еще больше сблизился, доставляли ни с чем не сравнимое удовольствие. На чем только полковник и толмач не схлестывались!
— Почему в Англии живут одни англичане? — наступал, бывало, Князев.
Шахна начинал что-то объяснять, но его объяснения не удовлетворяли Ратмира Павловича, и он от Англии переходил к Франции или Германии.
— А почему в Германии одни немцы?.. Почему? Ответь мне, если ты такой умный.
Семен Ефремович осторожно, чтобы не распалить полковника, отвечал, избегал острых сшибок, кое о чем осмотрительно помалкивая, но Князева только бесила его осмотрительность.
— Только мы и Америка — проходной двор! Терпим у себя дома несметное множество народов и народцев! Отсюда и все наши беды.
— По-вашему, во всем виноваты инородцы? — тихо, почти льстиво вставлял Семен Ефремович.
— С русским человеком всегда легко договориться, — настаивал полковник. — Куда легче, чем, например, с вами или с литвинами. Я уже не говорю о поляках.
— Договориться можно со всеми. Все зависит от того, кого считать волком, кого — овцой.
— По-твоему, мы волки? Да добрее русских людей на всем белом свете нет. Их и бьют, и унижают больше вашего, а они терпят… землю пашут… лес сплавляют… шахты роют… Чтобы покончить со всеми распрями, есть только один выход — перевести всю жизнь на русские начала.
Ратмир Павлович принимался расхаживать по кабинету, заложив руки за спину; иногда он переходил на мелкую рысь, словно гнался за кем-то; Семен Ефремович послушно поворачивал голову то влево, то вправо, чтобы не пропустить какое-нибудь движение начальника, заменяющее слово, а главное, чтобы ни на минуту не позволить себе забыться, подумать о чем-то своем, не о народах и народцах, а о том же докторе Хаиме Брукмане с Александровского бульвара.
— Моя идея, — разглагольствовал, бывало, Ратмир Павлович, — чрезвычайно проста. Возьмем, например, евреев. Будь моя воля, я бы вас всех с первого января будущего года превратил в русских. Поголовно! И живите где хотите, и учитесь где вам заблагорассудится. Никакой черты оседлости, никаких ограничений! И точка! То же самое проделать с прочими: литвинами, караимами, поляками, татарами, якутами, бурятами. И покончено с проходным двором! Ну, что ты на это, Семен Ефремович, скажешь?
— Что я на это скажу?
Идея Ратмира Павловича поставила Шахну в тупик. Согласиться с ней он не мог, но и не принять ее было страшновато.
— Боюсь, ваше благородие, инородцы все равно начнут роптать. Литвины потребуют, чтобы все были литвинами, и вы… и Антонина Сергеевна, и ваш Петя… Татары — чтобы все были татарами…
— Никогда!
— Но почему? — осмелел толмач.
— Почему? А вот почему! — заранее предчувствуя свое торжество, повторял Князев. — У малых нет будущего. Будущее, ласковый ты мой, только за большими. Речки высыхают, море плещется вечно. Ему никакие засухи не страшны. Малость обмелеет, но останется. А речки? Сам посуди: зачем тебе, речке, Шахне Дудаку, — полковник вспомнил его старое имя, — быть маленьким, если ты в мгновение ока можешь стать большим? Я все продумал, все подсчитал. Море! Огромное, могучее море. Как в Англии или в Германии.
Шахна малодушно кивал головой — маленькая речка покорно текла в море.
Такие беседы порой затягивались до глубокой ночи; Князев вызывал своего опричника, топтуна — Крюкова, посылал в ресторан Млынарчика за едой; Крюков приносил лососину, жареных цыплят в соусе, пльзенское пиво, и споры продолжались.
Но сегодня Семен Ефремович не собирался задерживаться на службе, тем более что никакого допроса не предвиделось; дело Гирша было передано в суд, а нового недопрошенного преступника-еврея в 14-м номере не содержали. Не намерен был Шахна и до ночи лясы точить, обсуждать замечательные идеи своего начальника — пусть под лососину, пусть под жареных цыплят в оливковом соусе.
Воспользовавшись перерывом, Семен Ефремович решил попросить у Князева за отца: так, мол, и так, уважьте, ваше благородие, последнюю просьбу старика, разрешите свидание с сыном. (О том, чтобы в случае чего ему, Эфраиму, отдали тело Гирша, и заикнуться нельзя было!)
Князев обладал добрым сердцем. Прослужив более двадцати лет в жандармах, он испытывал к некоторым арестантам презрительную, брезгливую жалость, умел ценить чужое благородство и стойкость.
В каком-то ночном споре с Шахной он вспомнил этого юнца Кримера или Кремера и со свойственной ему задумчивой, русской распевностью сказал:
— Вот если бы мой Петя был таким, как он.
— Но он же государственный преступник!..
— Ну и что? Пете бы его твердость!
Утешало Шахну и то, что все прожекты Ратмира Павловича, его сногсшибательные идеи проистекали не от злобы, слепой вражды или предубежденности, а от неверного понимания племенных нужд, которыми он волей судеб вынужден был заниматься в этом чужом, разношерстном и, как ему казалось, неблагодарном крае.
Как назло, Князев долго не приходил — на костельных часах давно пробило десять, — и Семен Ефремович, зная пунктуальность Ратмира Павловича, уже стал беспокоиться. А вдруг он совсем не придет? В жандармском управлении ходили слухи о том, что жене Князева якобы противопоказан сырой литовский климат, другие говорили, что дело вовсе не в климате, что генерал-губернатор не доволен шефом жандармов и что в ближайшее время следует ждать его перевода в другой город.
Стараясь держаться в стороне от этих слухов и пересудов, Семен Ефремович тем не менее живо переживал каждую новость и меньше всего хотел, чтобы на место Ратмира Павловича назначили какого-нибудь другого служаку.
Когда в коридоре раздались тяжелые шаги Князева, Шахна почти просиял. Странно, но в эту минуту он готов был простить Ратмиру Павловичу все: и свое двухдневное пребывание в 14-м номере, и шутку (хороша шутка!) с наручниками, и ежедневное подтрунивание над его набожностью.
— Какие новости? — с порога осведомился полковник.
Семен Ефремович не понял, о каких новостях говорит Князев.
— Как там у вашего мудреца сказано: благая весть утучняет кости, — пророкотал Ратмир Павлович. — Что-то не вижу, чтобы они у тебя утучнились.
— Ваше благородие! Я никогда вас ни о чем не просил. И не попросил бы, если бы не отец, который неожиданно приехал.
— Бедный, бедный!..
Нельзя было понять, к кому относятся его слова, то ли к Семену Ефремовичу, то ли к его отцу.
Князев снял китель, повесил его на спинку стула, сел, размял волосатые руки.
— Помог бы я тебе, — полковник добродушно улыбнулся. — Да не знаю, останусь ли в Вильно… Поедешь со мной?
— Зачем я вам? Может, там, куда вы поедете, евреев не будет.
— Может быть. Но один головастый еврей русскому человеку не помеха.
Полковник снова улыбнулся. Он был в хорошем расположении духа, и Семен Ефремович терялся в догадках, не зная, чему это приписать — то ли удивительному, пронизанному щедрым майским солнцем утру, то ли тайному решению Ратмира Павловича уехать отсюда, то ли тому, что не надо было начинать день с осточертевших, въевшихся в печенки, допросов.
— Я знаю, Семен Ефремович, о чем ты собираешься меня просить, но… — полковник развел борцовские руки. — Рад бы… Да ваш Гирш в карцере. А карцеру не положены свидания.
— Как же вы, ваше благородие, догадались о моей просьбе? — удивился Шахна.
— Сам — отец. Когда сыну грозит смерть, у отца одно желание: увидеть его, приласкать… Плохи его дела. Плохи…
— Отца?
— Гирша.
— Но ведь приговор еще не оглашен.
— Приговор не оглашен, а форма уже готова. На всякий случай.
— Какая форма?
— О приведении приговора в исполнение. В ней только до поры до времени имеются пропуски.
— Пропуски?
— Фамилия осужденного и время казни проставляются в последнюю минуту. А место? Место известно — военное поле, — сказал Ратмир Павлович и погладил погоны на кителе. Семен Ефремович проследил за движением его руки, и снова, как в 14-м номере, в воздух взмыла бабочка, очень похожая на золотое шитье погона.
— Что с вами? — заметив, как Семен Ефремович покачнулся, спросил Князев.
— Ничего… Ничего… Сейчас пройдет.
Он затравленно оглянулся, покосился на полковничий китель, и большая слеза облегчения выкатилась у него из правого глаза, когда он увидел на кителе не насекомое, а высокий знак жандармского отличия.
Отправлю отца и — к доктору, подумал он. К доктору. На Александровский бульвар.
— Может, удастся по пути в суд, в карете? — сказал Князев.
— В карете?
— Посадим твоего батьку в карету, пусть потолкует с сыночком.
Семен Ефремович вздрогнул. Ему показалось, что Князев решил это сделать неспроста, что он все знает: его осведомители, филеры, доносчики донесли про этого Арона Вайнштейна и этого Федора, которые грозились отбить у жандармов Гирша; Ратмир Павлович придумал эту карету вовсе не из благородства, а из корысти. При отце Гирш себя будет вести совсем иначе, чем в его отсутствие. В его отсутствие он может еще выкинуть черт-те что, а с отцом… Отца он не станет подвергать опасности. Присутствие Эфраима Дудака оградит карету от нападения.
— Ну, как? — кокетливо, унижая Шахну своей властью и добротой, спросил Князев.
— Ваше благородие! Разве это возможно?
— Возможно, возможно.
Семен Ефремович не сомневался, что, когда кончится суд над Гиршем, Ратмир Павлович взыщет с него за это свидание, учинит ему допрос, вытянет из него, кто такой этот Арон Вайнштейн и этот Федор? Зачем, мол, к тебе приходили, ласковый ты мой?
Он снова глянул на полковничьи погоны. Господи, что они, юнцы, могут сделать с одним пистолетом и Марксом за пазухой?
— Я дам распоряжение, — продолжал Ратмир Павлович. — Возле Георгиевского проспекта отца высадят. Конечно, десяти минут для разговора с сыном маловато. Но я и так нарушаю все установления.
— Десяти минут хватит, — успокоил его Семен Ефремович.
Теперь ему и эти десять минут казались лишними. Что может произойти за десять минут? Ничего, ровным счетом ничего. Гирш не пойдет на попятную. Не пожалеет отца… А отец только душу разбередит.
Но Шахна не чувствовал себя вправе отказать отцу в этой милости, дарованной сердобольным, хитроумным жандармом.
Он никак не мог представить себе отца рядом с Гиршем в наручниках, бок о бок с молчаливыми солдатами. Да они при солдатах рта не раскроют!
Может, не говорить отцу про эту карету, соврать что-нибудь, сказать, что суд продлится еще год-полтора, что должны еще найти сообщников Гирша. Отец не станет дожидаться в Вильно полтора года, разыщет в какой-нибудь синагоге Шмуле-Сендера и, помолившись, отправится назад, в Мишкине. Тем более что Гирш и не желает его видеть.
Кому, кому, а родителям сыновья неправда продлевает жизнь.
— Ваше благородие! То, о чем я у вас спрошу, покажется вам неслыханной наглостью. Но я… но мне все-таки трудно удержаться.
— Что ж, наглецы иногда побивают скромников.
— Скажите, Ратмир Павлович, — Шахна впервые за долгие годы совместной службы обратился к своему начальнику по имени-отчеству, вложив в свое обращение и свою надежду, и свое уважительное отношение к Князеву, не подорванное даже его склонностью к издевательствам и пакостям, — скажите, Ратмир Павлович, — повторил он, — если бы мой брат пожелал перед судом креститься, это облегчило бы его участь?
— А он что, выразил такое пожелание?
— Вы не ответили на мой вопрос.
— Но и ты на мой не ответил. — Князев подошел к двери, распахнул ее и громко, как восточный глашатай, воззвал: — Иван!
В кабинет влетел Крюков.
— Чаю нам!.. И кренделей! С марципанами!..
— Бегу!
И Крюков исчез.
— Допустим, он выразил такое желание, — промолвил Семен Ефремович. — Мог бы он рассчитывать на большее снисхождение судей?
— Перед русским судом, по-моему, все равны. Но, думаю, такой поступок произвел бы на судей самое благоприятное впечатление. Если он изъявит такое желание, я могу председателю суда шепнуть. Новообращенного, надеюсь, не казнят, как бы он ни провинился. Нельзя же казнить примеры, когда их можно отправить на каторжные работы…
— Жалко его, — сказал Семен Ефремович.
— Кого жалеть — выбирают судьи. Гирша или Россию?
— Разве судьи — это Россия?
— Нет, — неожиданно повеселев, сказал Ратмир Павлович. — Но твой Гирш к ней имеет еще меньше отношения.
Крюков принес самовар, потом чашки, потом крендели с марципанами.
Дома, на Большой, старик Эфраим мыл окна. Он откуда-то раздобыл тряпку, ведерко, сходил к колодцу во дворе, набрал воды и, взгромоздившись на табурет, принялся драить засиженное мухами стекло.
— Хозяйничаю тут без тебя.
— Хозяйничай, хозяйничай.
— Мой отец… твой дед Иаков, говорил: две вещи на свете надо содержать в чистоте.
— Окна?
— И совесть, — буркнул Эфраим. — Ибо через них человек смотрит на мир.
— А я принес тебе гостинец, — сказал Шахна и протянул отцу завернутый в бумагу крендель с марципанами.
Старик Эфраим слез с табурета, вытер о домотканые штаны руки, потрогал крендель, обнюхал его, но не взял.
— Авнером пахнет.
Помолчал и добавил:
— Да будет ему земля пухом.
Семен Ефремович удивлялся его отчужденности. Поначалу он думал, что отец стесняется, чувствует себя скованно в чужой квартире, среди чужой, непривычной для него мебели, недоступных книг, необжитости, но вскоре поймал себя на мысли, что большей близости между ними не будет, и не знал, кого в этом винить — себя или его.
Наверно, себя.
Старик Эфраим — так, во всяком случае, казалось Шахне — каким-то нестарческим, присущим покинутым родителям чутьем уловил странное, враз опечалившее его несоответствие между внешним дружелюбием сына, даже нежностью и чем-то скрытым, тщательно оберегаемым от него и, стало быть, постыдным. Эфраим ни о чем его не спрашивал, ждал, когда сам Шахна, усадив его за стол, расскажет о том, что делал, чего добился в этой немалой, бог весть чем заполненной поутру разлуке, о Гирше, сбившемся с пути; даже о сестре Церте, живущей в Киеве, — может, Шахна ездил к ней? Что ему, холостому, стоит? Как ни странно, подозрения Эфраима по приезде в Вильно не рассеялись, а еще больше обострились, и теперь он сам не знал, кто же из его детей — Шахна ли, Гирш ли, Эзра ли — более несчастен.
Пожалуй, самым поразительным открытием было то, что они все несчастны и что их несчастье какое-то особое, городское, что ли, в котором ему, приехавшему из жмудской глухомани, до конца не разобраться, в котором кто-кто, а он, Эфраим, бессилен помочь.
— Ты увидишь Гирша, — сказал Семен Ефремович. — Я обо всем договорился.
— Когда?
Отец, казалось, совсем не обрадовался этой вести. Да и чего тут радоваться? Большое счастье — встретиться с сыном-арестантом. Ни одному отцу не пожелаешь! Но ведь он отмахал почти триста верст, чтобы увидеться с ним — счастливым ли, несчастным ли, живым ли, мертвым ли. Хорошо еще — пока жив! Но что за жизнь в тюрьме?
— В день суда, — ответил Шахна.
Старик Эфраим поднял голову, посмотрел на Шахну, опустил глаза. Он как бы торопил его признание, но Семен Ефремович делал вид, будто ему не в чем признаваться, — вся его жизнь с немытыми окнами, холостяцкой кроватью, горками недочитанных книг словно на ладони. Что тут, мол, скроешь?
— Шахна, — выдавил старик. — Когда я в колодце брал воду, ко мне подошла одна женщина… с бородавкой на верхней губе… в плисовом жакете.
— Гита.
— Она спросила, кем я тебе прихожусь.
Эфраим замолчал, снова поднял голову на Шахну.
— Я сказал: отец.
— И что было дальше? — дрогнул Семен Ефремович.
— Дальше эта Гита сказала, что видели, как ты выходишь из жандармского управления… Я только посмеялся над ее словами. Ведь, правда, смешно?
Эфраим тихо захихикал.
— Смешно.
— Мой сын, говорю я ей, может служить где угодно, только не там, где вы думаете… Вот ведьма, — вздохнул старик Эфраим.
— Это правда, — сказал Шахна.
— Что?
— Гита — ведьма, — Семен Ефремович дрогнул второй раз.
Если весь город, все Гиты и все Шмиты будут в один голос твердить, что он, Шахна Дудак, служит в жандармерии, в этом логове погромщиков, злейших врагов Израиля, он все равно никогда с этим не согласится. Ложь! Грязная, поганая, как засиженное мухами окно, ложь! То место, куда он каждое утро приходит на службу, так зовется для других, а не для него! Шахна Дудак — служитель добра. К добру зло не пристает ни в аду, ни в вонючем притоне воров, ни в залитом огнями светильников суде, где от имени добра вершится подлость и несправедливость.
— Стоит ли слушать глупую бабу, — пришел он в себя от неожиданности.
За дверью послышались сперва шаги, а потом поскребывание.
— Шмуле-Сендер, — безошибочно определил Эфраим. — Он никогда не стучится. Всегда скребется, как кошка.
Шмуле-Сендер, бог весть где пропадавший со вчерашнего вечера, был необыкновенно оживлен. Его худое, изможденное лицо было подсвечено каким-то зыбким внутренним светом, как будто он держал в руке керосиновую лампу.
Его глаза, обычно бесцветные, приобрели влажный зеленоватый цвет, каким обычно окрашивается заболоченное озерцо или первая весенняя лужа.
— Где ты столько пропадал? — поинтересовался Эфраим.
Шмуле-Сендер счастливо засопел носом, лицо его расплылось в широкой улыбке; он взял Эфраима за руку, подвел к надраенному окну и голосом счастливца, желающего, чтобы о его счастье знали все вокруг, бросил:
— Смотри!
Эфраим, только что закончивший мыть окно и насмотревшийся вдоволь на Большую улицу, на солдат, вышагивавших вдоль и поперек с нескончаемой, как и их служба, песней, на прытких, словно заведенных, евреев в черных лапсердаках и высоких, не по сезону теплых шапках, на крест церкви святого Николая, сверкавший, как вонзенный в небо божий штык, бросил взгляд через равнодушное стекло и, не заметив ничего особенного, тут же перевел его на Шмуле-Сендера.
— Неужели ты ничего не видишь? — сник водовоз.
От его приподнятого, синагогального настроения не осталось и следа.
— Совсем слепым стал, — обиделся он на Эфраима. — А ну-ка, Шахнеле, ты подойди!
У Семена Ефремовича не было никакого желания глядеть в окно. Он и в лучшие дни не глядел. А теперь? Теперь ему хотелось, чтобы в комнате было темно, чтобы они не видели друг друга; хотелось, чтобы не было ни окоп, ни дверей и не надо было никуда отсюда уходить — ни к 14-му номеру, откуда начнет свой путь жандармская карета, ни в Еврейскую больницу, где харкает кровью младший брат, поскребыш Эзра. Приход Шмуле-Сендера, с одной стороны, был спасением, заставлял заниматься обыденными, не требующими ни правды, ни лжи заботами, но, с другой стороны, еще больше накалял обстановку. Глаза старика Эфраима немо продолжали свой допрос; видно, рассказ ведьмы Гиты глубоко запал ему в сердце. Нет, нет, старость отца не ответ, а вопрос, лохматый, отвергающий ложь, непримиримый.
Семен Ефремович неохотно подошел к окну.
— Ну?
— Что «ну»?
— Видишь? — с надеждой произнес Шмуле-Сендер.
— Вижу вывеску: «Здесь приставляются пиявки и банки».
— Какие пиявки? — возмутился Шмуле-Сендер. — Какие банки?
Он вдруг оттер Семена Ефремовича от окна, приник к стеклу, как к роднику, и, словно напившись, радостно воскликнул:
— Стоит!
Старик Эфраим подошел к окну и посмотрел поверх седой, по-прежнему кучерявой головы друга.
— Ты купил бочку? — удивился Эфраим.
— По дешевке… Еще и на овес хватило… И на хлеб с селедкой…
— Хват! Хват! — похвалил Шмуле-Сендера Эфраим. — Ты что, может, возвращаться не собираешься?
— Собираюсь, — сказал водовоз. — Но пока ты с Гиршем встретишься… пока суд кончится… пока с Шахной нарадуетесь…
— Но в Вильно тысячи водовозов! — напомнил Эфраим.
— Ну и что? Шмуле-Сендер Лазарек и среди тысячи не затеряется! Шмуле-Сендер до сих пор знает секрет! Знает, где брать воду. Иной думает: воду брать просто… Нет, голубчики… Воду надо выбирать, как невесту… А не бросаться на первую попавшуюся.
Шмуле-Сендер входил в раж. Приобретение бочки вытеснило из его памяти даже белого счастливого Берла. Еврейской больнице, по словам Шмуле-Сендера, воды требуется несметное количество: и пищу приготовить, и больных поить, и мертвых обмывать. Вот он с ней и договорился: полдня возит, полдня спит. Тут же, в больнице.
— Хват! Хват! — приговаривал восхищенный Эфраим. — Скоро ты своему Берлу будешь деньги посылать, а не он тебе.
Старик Эфраим сразу понял, почему Шмуле-Сендер подрядился возить воду в Еврейскую больницу — хочет заработать Фейге на подарок; золотых часов со звоном, конечно, ей не видать, а вот какую-нибудь мелочь привезет: платок или теплые рейтузы. Рейтузы не вызванивают колыбельную. А жаль, хотя Фейга и ими будет довольна. Шмуле-Сендер попросит, чтобы их красиво упаковали, всякими ленточками перевязали, как это делают там, в Нью-Йорке, в магазине счастливого Берла. Шмуле-Сендер протянет своей Фейге сверток и скажет:
— Дорогая Фейгеле!.. Он предложил мне на выбор: часы со звоном или рейтузы? Я думал, думал и решил все-таки взять рейтузы. Зачем нам время со звоном?.. Зачем нам вообще время?.. Время, Фейгеле, нужно тем, у кого полный кошелек, тому, кто счастлив. А нам, старым и несчастным, зачем оно? Лучше рейтузы — тепло и ни о чем не напоминают: ни об утре, ни о вечере, ни о ночи.
— Эзру ты там не видел? — вдруг спросил Шахна.
Он подумал, что сейчас самый подходящий момент рассказать отцу о младшеньком, поскребыше. Чем больше он будет знать о других, тем меньше будет спрашивать о нем, Шахне.
— Эзру? — насторожился отец. — Разве он в больнице?
— Да, — ответил Семен Ефремович.
— Что с ним? — Старик Эфраим отошел от окна и сел за стол.
— Пока его доктора только осматривают, — неопределенно промолвил Семен Ефремович.
Весть о том, что у Эзры, его любимого сына, поскребыша Эзры чахотка, совсем прибьет отца. После такого удара он не справится. Лучше пока держать его в неведении. Надо и Гаркави подготовить, чтобы не проговорился. Отнять у старика двоих — это слишком жестоко. Почему двоих? Почему не троих?.. Почему не всех?
— Я еду с тобой, Шмуле-Сендер, — сказал Эфраим.
Виленская Еврейская больница была расположена на противоположном от Георгиевского проспекта берегу Вилии. В самом здании не было ничего примечательного, если не считать обилия башенок, смахивающих на ласточкины гнезда, и такого же обилия маленьких монастырских оконцев, из которых больные видели ровную, по-княжески неторопливую гладь реки и неприступные купеческие дома с тяжелыми, украшенными лепкой, дверями. Украшения, видно, делали не мастера, а люди случайные, и потому в лепнине угадывалось что-то от кренделей и окороков.
В каменной ограде, которой была огорожена Еврейская больница, зияли большие дыры, и приходилось только удивляться, как больные проломили их, чтобы изредка убегать на волю — в соседнюю лавку или синагогу.
Гаркави Семен Ефремович не нашел, и ему пришлось обратиться к сухопарому человеку, видно, санитару или парикмахеру, который все время двигал челюстью, как будто ради собственного спокойствия проверял, имеются у него передние зубы или нет.
Убедившись в том, что зубы у него имеются, он охотно, с некоторой даже спесью, отвечал на вопросы посетителей, входивших во двор больницы без всякой опаски.
— Дудак? — переспросил он.
— Да.
— Мужчина?
— До больницы был мужчиной, — съязвил Семен Ефремович, следя за движением бдительной челюсти.
— Лежачий?.. Ходячий?..
— Ходячий и лежачий, — переборол свое отвращение Шахна.
— Что у него? Сердце? — щелк челюстью. — Печень? — другой щелк челюстью. — Мочевой пузырь? — третий щелк челюстью. — Ноги? Руки? Позвоночник?
— Легкие, — сказал Семен Ефремович.
— Позавчера… — щелк челюстью, — двое легочных тю-тю… Вчера — трое… Сегодня — полтора.
— Полтора? — ужаснулся Эфраим.
— Один — тю-тю… а другой только тю… Может, к вечеру и он тю-тю… Пошли за мной! — скомандовал сухопарый санитар, который зарабатывал на жизнь в покойницкой.
Старик Эфраим и Шахна переглянулись. Шмуле-Сендер, опавший, как дрожжевое тесто, постукивал себя по голенищу кнутом. Все больней и больней.
Все, кроме Шмуле-Сендера, вошли в темный, служивший покойницкой амбар.
Провожатый подошел к широкому настилу, на котором лежали прикрытые больничными простынями трупы, и стал откидывать одну простыню за другой.
— Ваш?
— Нет.
— Это женщина. Пошли дальше! Ваш?
— Нет.
— Сколько ему было лет?
— Тридцать… с лишним, — промолвил старик Эфраим и почувствовал, как что-то хлынуло в горло из помойного ведра.
— Этот совсем молоденький… — сказал человек со щелкающей челюстью и приподнял еще одно покрывало.
Старик Эфраим до боли сжимал рот, но помои продолжали хлестать в горло, заливали его лицо, руки, холщовую рубаху, домотканые штаны, и он бросился бежать от них — на свет, на волю, к застывшему Шмуле-Сендеру, упал на него всей своей тяжестью, всем своим отчаянием, всей своей, обрызганной помоями, радостью — ведь ни под одной простыней его Эзры, его поскребыша не было! — и Шмуле-Сендер обнял его так, как никогда никого не обнимал — ни свою жену Фейгу, ни своего счастливого белого Берла.
— Бог нас любит, Эфраим, — шептал он. — Любит!.. Кого же ему любить, если не нас?.. Когда мы остаемся совсем голые, он вдруг посылает нам теплые рейтузы… Да что с тобой, Эфраим? Неужели ты плачешь?
И оттого, что каменотес прижался к нему, Шмуле-Сендер тоже обронил слезу.
Пока старики обнимались, приходили в себя после покойницкой (хотя отцу и не внове было видеть синюшные тела и лица мертвых), Семен Ефремович разыскал где-то в коридоре доктора Гаркави. Самуил Яковлевич, как всегда, был в раздоре с российской действительностью; рассеянно слушал Шахну, отдавал на ходу какие-то непонятные распоряжения, метал громы и молнии на больничные порядки: мол, солнца нет, медсестер нет, денег нет, а все хотят быть здоровыми. Выздороветь можно где угодно — в Карлсбаде, в Баден-Бадене, в Ницце и даже Алуште, только не в этом бардаке, не в этой клоаке, не в этих Авгиевых конюшнях. На вопрос об Эзре доктор Гаркави ответил, что все идет, как и должно идти, спросил у Семена Ефремовича, знает ли он, что такое открытый процесс в легких, и, когда тот признался, что не имеет об этом ни малейшего представления, Самуил Яковлевич с мрачной торжественностью сказал:
— И мы, представьте, не имеем.
Скорее для приличия, чем для пользы дела Самуил Яковлевич поинтересовался у Семена Ефремовича, нет ли у него родственников за границей. Там, за границей, как будто изобрели новое, весьма действенное средство против скоротечной чахотки; стоит оно, правда, дорого. Но если есть богатые родичи…
— Нет. За границей у меня никого нет. Только товарищ… друг детства… Торгует там лучшими часами в мире.
Гаркави выслушал его и сказал, что ему лично не нужны ни лучшие, ни худшие часы в мире: все равно все они показывают время, то есть то, что ему не хочется знать.
— Вы только отцу ничего не говорите, — попросил Шахна.
Самуил Яковлевич насупился, сдвинул брови на переносице, проворчал, что за этим надо обращаться к другому доктору. Он, Гаркави, за всю свою практику родственникам своих пациентов ни одного хорошего слова не сказал. Скажешь, а все обернется по-другому, тогда лезь из кожи, оправдывайся. Родственники должны знать одно: их близкий болен.
— Славный малый! — посетовал Самуил Яковлевич. — Я надеюсь на его жизнелюбие. Черт-те что в палате вытворяет. Не палата, а испанский город Толедо. Кто у него король, кто — верховный инквизитор! Целыми днями с Цемахом и Менаше Пакельчиком разыгрывают судилище.
— Какое судилище?
— Ваш Эзра — отравитель колодцев, сестра Зельда — влюбленная в него дочь знатного алькальда, Менаше Пакельчик (вон он лежит!) — мудрый рабби Гилель. Я в восторге от их лицедейства. Организм человека — прелюбопытнейшая штуковина. Вы не поверите, но лечебный эффект налицо. Цемах перестал задыхаться; Менаше Пакельчик — жаловаться на боли в печени, а ведь у него, не про нас да будет сказано, порча крови.
Незаметно подошли старики, поклонились доктору.
— Знакомьтесь: мой отец — Эфраим Дудак, — представил каменотеса Шахна. — Его друг — водовоз Шмуле-Сендер. Доктор Гаркави Самуил Яковлевич. Доктор говорит, что наш Эзра — молодец.
— Спасибо, спасибо, — зачастил старик Эфраим, — но молодцы в больницу не попадают.
— Молодец не тот, кто в нее попадает, а тот, кто из нее выходит, — сказал Гаркави и рассмеялся.
Но старику Эфраиму, видно, было не до смеха. Ему не терпелось как можно скорей увидеть Эзру, рассказать ему про дорогу в Вильно, ободрить его, обрадовать, что он присмотрел для него бурого, ну, не совсем бурого, но почти настоящего медведя.
Самуил Яковлевич и Эфраим прошли по длинному, уставленному всякой рухлядью коридору: ведрами, носилками, каталками, парашами, метлами и проследовали в такую же длинную, только сводчатую палату, на потолке которой проступал какой-то странный рисунок, изображавший, как уверяли знающие люди, казнь Юдифью Олоферна, однако в выцветшей мазне нельзя было узнать ни храбрую дщерь Израиля, ни любвеобильного Олоферна, павшего жертвой своей прихоти.
— Реб Менаше! — услышал Эфраим знакомый голос. — В этом месте ваш рабби Гилель говорит верховному инквизитору: «Нам нужен не ночлежный дом, а родина». Ну!
— Ой! — простонал тот, кого Эзра назвал Менаше. — Нам нужен не дом, а година.
— Не година, а родина. Эр, Менаше. Эр. Как вы могли торговать готовым платьем, если вы не выговариваете «эр»?.. Цемах! Верховный инквизитор!
— Что? — вздрогнул «верховный инквизитор», натягивая на себя одеяло.
— Твоя реплика!
— «Пароду нужна родина. А разве вы, евреи, — народ?» — вяло произнес «верховный инквизитор» Цемах, страдающий бронхиальной астмой, и натянул сползающее одеяло.
— «Если мы не народ, то как же мы сохранились среди ужасных преследований, — выкинув вперед правую, полководческую руку, возгласил Эзра-отравитель, — среди нестерпимых мук со времени разрушения второго храма и времени рассеяния?»
— Сестра, парашу! — закричал кто-то.
— «Разве мы не претерпели все бури и перевороты, в то время как вокруг нас рождались, созревали и умирали народы?» — обращался Эзра к притихшему Менаше Пакельчику.
— Парашу!
— «В то время как усиливались и падали государства, возносились и рассыпались в прах языки?»
В палате стало тихо. Так тихо, что не слышно было, как в принесенную Зельдой парашу, журча, втекает нетерпеливая моча.
Приказчик магазина готового платья Менаше Пакельчик сладко посапывал. Во сне он обрел родину, которая напоминала огромный ночлежный дом без стен и коек: вместо стен возвышались рощи, а вместо коек цвели луга…
— Болеть скучно, — сказал Самуил Яковлевич, когда они протиснулись поближе к Эзре. — Вот они и разыгрывают всякие сцены из времен испанского изгнания.
Старик почти не слышал Самуила Яковлевича. Весь его слух, все его зрение были захвачены и отданы Эзре, бражнику, выдумщику, скитальцу. Неужели не узнает? Думает — новенького привели. Больного.
Больного, конечно, больного. Когда у него, поскребыша, родится сын или дочь, он поймет, чем хворают родители. Они хворают любовью, и хворь эта неизлечима. Нет от нее лекарства ни в России, ни в Америке, ни в Палестине. Только смерть исцеляет.
— Отец! — услышал Эфраим.

Эзра сбросил с себя одеяло, соскочил с койки и босой, в казенном белье, купленном на пожертвования богатых виленских евреев, поплыл к старику, приплясывая, как на свадьбе, вертя своим тощим задом, переступая параши с чьей-то нетерпеливой мочой, с чьими-то испражнениями, и у старика Эфраима все распахнулось ему навстречу: и борода, и сердце, и руки.
Доктор Гаркави растормошил прикорнувшего Менаше Пакельчика, что-то ему прошептал, и Менаше понятливо закивал головой (нет, нет, он ничего старику не скажет!), вспомнил про свою опухоль, про эту проклятую букву «эр», которую, видно, уже не одолеет, про только что привидевшуюся во сне родину, про магазин готового платья на Дворянской.
Самуил Яковлевич ощупал его живот, как куриную гузку, и сгорбившись вышел.
— Доктор хвалил тебя, — не без гордости сказал Эфраим, усаживаясь на край кровати.
— За что?
— Говорит, веселый ты. Сам не унываешь и другим не даешь. Даст бог, выздоровеешь и вернешься. И я тебе еврейского медведя куплю.
— Еврейского медведя?
— Съезжу в Жвирбляй и куплю. Жвирбляйские медведи по семь-восемь литров молока дают. Попьешь, и хворь отступит.
— Козу? — рассмеялся Эзра. — Кто же ее еврейским медведем прозвал?
— Дед твой, Иаков. Помню, заболел на пасху. Ноги распухли. Как колоды. Кашель. Кровью харкает. Мать, прабабушка твоя Черна, уже из простыни саван сшила. Но тут кто-то посоветовал козье молоко…
— Спасибо, отец, но, видно, мне уже не понадобятся ни русские медведи, ни еврейские…
— Понадобятся… Еще как понадобятся. Я тебе, сынок, привет привез, — выпалил старик Эфраим.
— От Нехамы?
— И от Нехамы, и от Ханы, и от Фейги, и от той… в шляпе с пером. Передайте, говорит, что скоро свидимся, что он мне… что я…
Эзра не спускал с отца глаз, и Эфраиму стало даже неловко от его взгляда.
Эфраим помолчал, обвел взглядом палату, покосился на Эзру, вытер краем одеяла слезившиеся глаза и выдохнул:
— Она тебя любит.
— Теперь мне все равно.
— Эзра! — тихо сказал Эфраим. — Ты знаешь, что я об этом думаю… Прикинул я все за и против… и решил…
— Что?
— Так решил бы каждый отец. Если хочешь — женитесь! Только… только…
— Что?
— Дом есть… перекроете крышу… перестелите половицы… смените наличники на окнах…
Эфраим спешил все это выговорить сразу, без запинки, но он то и дело запинался, да к тому же глаза слезились, будто в палату дыму напустили. А может, и впрямь напустили. Чем дальше, тем туманнее делались лица, и Эзра был в какой-то дымке, чужой, отрешенный, зашептанный.
— Что ты сказал? — переспросил он отца.
— Только… только… живи… Только не попадай туда, где нет ни крестов, ни семисвечников, ни браги… Господи! Сколько мертвых я перевидал на своем веку — молодых, старых, счастливых, несчастных, облагороженных и изуродованных смертью… Но представить мертвыми вас… моих сыновей… не могу!..
Старик Эфраим опустил голову.
— Делай что хочешь!.. Безумствуй! Пей! Отрекайся! Только живи! Только живи!..
Эфраим встал и, не дожидаясь Шахны, направился к двери, за которой, как ему казалось, да что там казалось — он был просто уверен, стояла белая жвирбляйская козочка, дающая в день по восемь литров молока, рядом с ней любимица Лея с двумя обручальными кольцами в руке, а чуть поодаль печальная Данута, вся с головы до ног заметенная осенней листвой.
Они ждали от него ответа.
— Что тебе ответить, Лея?
— Что тебе ответить, опавшая, легкая, как тополиный лист, Данута?
— Ваш сын жив, — вывел его из раздумья человек со щелкающей челюстью.
— Слава богу. Если он, этот бог, существует, — выдохнул Эфраим.
— А вы что, сомневаетесь?
Старик Эфраим выпрямился, выпятил грудь:
— Разве можно сомневаться в том, чего нет?
Человек со щелкающей челюстью наклонил голову и как бы снизу пригляделся к старику. На минуту ему почудилось, что он видит перед собой не лохматого посетителя, не жалкого старца, с которым он бродил по покойницкой, а бога, который вдруг явился ему и напоминает, чтобы он не очень уповал на свою челюсть.
Когда Эфраим вышел из больницы, зарядил нудный, предвещавший потепление дождь.
В один из дней Семен Ефремович все-таки выбрался на Александровский бульвар. Он и сам не знал, что послужило последним толчком к этому: то ли возобновившаяся бессонница, то ли снова появившийся, только на сей раз в образе падшей женщины, Беньямин Иткес, норовивший юркнуть к нему в постель и простиравший к нему скрепленные филактериями руки, то ли бабочка, нет-нет да вылетавшая из его, Шахны, орбит, как пчела из летка.
Не в пример тучному, благодушно-желчному Самуилу Яковлевичу доктор Хаим Брукман, лечивший душевные болезни, отличался неимоверной худобой и подвижностью. Он был похож на тощую вяленую рыбу. Сходство это усиливалось тем, что от Хаима Брукмана все время пахло дымом: он курил одну за другой длинные, сделанные в Швеции папиросы, гасил их о подошву своего штиблета и почему-то, видно, чтобы поминутно не бегать к пепельнице, складывал окурки в карман, из которого, как от ладана в храме, всходило приятное табачное благовоние.
— Вы — Дудак? — переспросил он, когда Шахна назвался. — Не брат ли вы того Дудака, который…
— Да, — сухо прервал его Семен Ефремович.
— Тогда, будьте добры, скажите мне: почему он его не убил насмерть? Если еврей стреляет, он должен бить без промаха. Потому что с него всегда спросят вдвойне: и за то, что стрелял, и за то, что промахнулся. Фантастика! Фантастика! — продолжал торжествовать Хаим Брукман. — Сейчас мы все узнаем из первых рук! Одни — среди них моя жена — уверяют, что казаки его отхлестали по заднице, другие — среди них мой зять — клянутся, что они пытались вырезать у него одно место. Кто же прав?
— Я бы с радостью вам ответил, но я там не был, — так же сухо, как и прежде, промолвил Семен Ефремович.
— Что делается! Что делается! — не унимался доктор Брукман. — Помяните мое слово: в России скоро будет революция. Сейчас в мире нет такого уголка, где бы не было революции. Даже африканцы бунтуют. Народы просыпаются от сна. А вы знаете, что бывает, когда народы просыпаются от сна?
Семен Ефремович пожал плечами. Он не знал, что бывает, когда народы просыпаются от сна. Ему хотелось знать, что бывает, когда ни с того ни с сего среди ночи появляется Беньямин Иткес или над головой начинает кружиться бабочка, которую никаким сачком не поймаешь, ни в какое окно не выпустишь.
— Когда народы просыпаются от сна, увеличивается количество безумств. В среднем количество умалишенных подскакивает от тридцати пяти процентов в обычные годы до сорока двух — сорока трех в период наивысшего подъема.
Хаим Брукман погасил о подошву папиросу, тут же зажег новую и, обдавая Семена Ефремовича ароматным шведским дымом, заговорщически объявил:
— Вы хотите, чтоб его признали невменяемым?
— Кого? — растерялся Шахна.
— Вашего брата. Я знаю две тысячи пятьсот способов симуляции безумия… Могу, конечно, поделиться. Но вряд ли это поможет. Русская судебная психиатрия шагнула далеко вперед. Сейчас не екатерининские времена; экспертов на мякине не проведешь. Они симулянта за версту чуют.
Доктор Брукман затянулся дымом, мечтательно закрыл глаза и в течение секунды, пока дым не увенчал нимбом его маленькую, как у столовой статуэтки, голову, вспоминал, видно, все две тысячи с половиной способов обмануть бдительное и непреклонное правосудие.
— Помощь нужна мне.
Он сказал это просто, как будто попросил напиться; если хорошенько подумать, он и просил напиться, надеясь, что у Хаима Брукмана отыщется для него два спасительных, два долгожданных глотка.
Брукман посерьезнел, и Семен Ефремович поймал себя на мысли, что зря отнес его самого к умалишенным. Все врачи, лечащие душевные болезни, славятся своими странностями. Один гасит папиросы о штиблеты и складывает окурки в карман, другой все время моргает, третий кричит на больного, как извозчик на лошадь.
— Слушаю, — тихо сказал Брукман. — Только давайте заранее договоримся: ни слова… ни словечка вранья. Правда и только правда! Врать можно кому угодно — судье, отцу, жене, — только не психиатру. Мы должны знать о больном все. Женаты?
— Нет.
— Девственник?
— Нет.
— В роду душевнобольные были?
— Нет.
— Страх когда-нибудь испытывали?
— Что?
— Большой страх?
— Да.
Семен Ефремович, путаясь, возвращаясь к одному и тому же, рассказал этой вяленой рыбе все, что пережил до поступления на службу в жандармское управление.
— Так, так, — приговаривал Брукман. — А сейчас что с вами происходит?
— Ничего… Только бабочка изредка летает.
— Какая бабочка?
Брукман вынул портсигар, щелкнул крышкой, протянул Семену Ефремовичу, и тот, никогда в жизни не куривший, с благодарностью, двумя пальцами взял папиросу, вложил в рот, прикоснулся дрожащими губами к тонкой, прохладной бумаге; доктор чиркнул спичкой, поднес к Шахне, и в свете огонька, а может быть, из самого этого скудного света, как из кокона, вышелушилась бабочка и взлетела вверх. Семен Ефремович боялся пошевелиться. Задрав голову, он смотрел на светильник под потолком, который был похож на ту же бабочку, только во сто крат увеличенную.
— Когда вы ее впервые увидели? Где?..
— В тюрьме… у брата… в камере смертника.
— Так, так, — постукивал Хаим Брукман шведской папиросой о свой позолоченный портсигар, и стук этот напоминал Семену Ефремовичу измельченную барабанную дробь перед казнью. — Вы где-нибудь работаете?
Вопрос был неприятен Семену Ефремовичу, и он оставил его без внимания.
— Если вам неприятно, можете не отвечать, — снизошел доктор.
— Нет. Почему же?
Светильник снижался. Он почти касался головы Семена Ефремовича, с него на рыжие, свалявшиеся волосы осыпалась пыльца.
— Я служу толмачом… в жандармском управлении…
— Ого! Чем же вы заслужили такую честь?
Доктор сделал длинную затяжку, и Семей Ефремович про себя отметил, что хозяин курил так, словно целовался с любимой женщиной.
— В известном смысле мы все там служим. Все без исключения. И я, Хаим Брукман, и вы, позвольте узнать ваше имя-отчество?
— Шахна. Просто Шахна.
— Раз мы здесь живем, значит, служим, — продолжая целоваться с невидимой женщиной, бросил доктор. — И, пожалуйста, не считайте меня сумасшедшим. С вашего позволения, я продолжу свою мысль. Кто здесь не «против» жандармского управления, тот «за». Летают ли над ним бабочки или не летают… Теперь о бабочках… Я не нахожу у вас ничего серьезного… Еврейская впечатлительность, и только. Все зависит от вас.
— От меня?
— Да.
— Что я должен делать?
— Обратиться к доктору Герцлю. Только не ищите его адреса в виленском городском справочнике. Он живет далеко отсюда. Но он нашел, по-моему, лекарство для всех впечатлительных еврейских отроков, не желающих стрелять в генерал-губернаторов и служить в жандармских управлениях. Он нашел, если угодно, средство от и для еврейского безумия.
— А что вы считаете еврейским безумием?
— Равенство, братство, свободу, — выпалил Брукман. — Но это только одна его грань.
— А другая?
— Иметь свой дом. Даже сумасшедшему приятней в своем доме. В своем доме и бабочки иначе летают… Перебирайтесь-ка, дорогой Шахна, в Палестину. На нашу, так сказать, историческую родину.
Брукман перестал курить, чтобы проследить за тем, как подействовали на посетителя его слова, но Семен Ефремович слушал безучастно, разочаровавшись и мучительно размышляя о том, сколько он должен господину доктору заплатить и должен ли платить вообще — ведь тот не осмотрел его, не прослушал, не простукал, только прожег своими ехидными вопросами, своими дикими предписаниями. Если доктору Хаиму Брукману так хочется, пусть сам едет туда — в Палестину, на свою, как он сказал, историческую родину. Ему, Шахне, Семену Ефремовичу Дудаку — Дудакову, везде будет плохо, к нему везде будет приходить по ночам Беньямин Иткес, полуовн-получеловек, над ним везде будет кружиться луговая бабочка, которая в отличие от всех мотыльков живет не один день, а целую, долгую жизнь; куда бы он, Шахна, Семен Ефремович Дудак, ни поехал, всюду найдет жандармское управление. Нет родины без жандармского управления. Нет.
— А вы… вы, доктор, туда не собираетесь? — мстительно спросил Шахна.
— Собираюсь. Но пока туда надо переправить моих пациентов.
Он улыбнулся, перестал расхаживать по комнате, сел за стол и стал выписывать какой-то порошок для успокоения нервов. Но Семен Ефремович счел за благо не перечить хозяину, взял неохотно рецепт, положил — возле портсигара — два скомканных бумажных рубля и удалился.
Отца он почти не видел: тот целыми днями пропадал то в больнице у Эзры, то в молельне, а то и на кладбище. Шахна ума не мог приложить: что там старик делает? С кладбища на кладбище приехал!
Приходил Эфраим вечерами мрачный, неразговорчивый; долго мыл во дворе руки; садился за стол и, достав из кармана Моисеево Пятикнижие (он никогда с ним не расставался!), читал вполголоса какую-нибудь главу, пока не засыпал сидя.
— «И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на правое их ухо и на большой палец правой их руки»… На большой палец правой их руки, — повторял он, смакуя каждое слово. — «И покропил Моисей кровью жертвенник со всех сторон…» Жертвенник со всех сторон… О суде, Шахна, ничего не слыхать?
— Пока ничего.
— «И взял Моисей тук и курдюк и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки и тук их на правое плечо»… На правое плечо, — шамкал Эфраим и подергивал правым плечом. — «Взял один опреснок с елеем и одну лепешку»… А как ты, Шахна, думаешь, выздоровеет Эзра?
— Если перестанет мотаться… бражничать…
— «И взял Моисей помазания и крови, которая на жертвеннике, и окропил Аарона и одежды его, и сынов его и одежды сынов его с ним».
Старик Эфраим все время выискивал в Пятикнижии те места, где говорилось о сыновьях, о жертвенниках, о крови. Мест таких было в писании великое множество, и Эфраиму порой казалось, что со дня творения отцы только и делали, что приносили в жертву своих сыновей, а сыновья всходили на костер, чтобы своей гибелью явить свою любовь родителям и богу. Вчитываясь в Пятикнижие, Эфраим негласно, кощунственно спорил с всевышним, не одобрял его неумолимой жестокости, хотя и не порицал его за то, что тот от всех и каждого требует исполнения своего долга.
Слова «помазание», «елей», «тук», «курдюк» звучали для него как заклинание; он не понимал их смысла, не старался даже его постичь, довольствовался самим их звучанием, которое завораживало его, делало сопричастным какой-то великой и нелегкой тайне.
Иногда Эфраим откладывал Пятикнижие, расчесывал бороду, поправлял на себе кафтан и отправлялся до вечерней молитвы бродить по городу — доктор Гаркави запретил ему каждый день приходить к Эзре, от этого, сказал Гаркави, состояние больного только ухудшается (господи, как может ухудшиться состояние сына от присутствия отца?). От Шахны Эфраим выведал, где находится здание Виленского окружного суда, где судят самых закоренелых преступников и где будут судить его несчастного сына Гирша.
Эфраим часами наблюдал за зданием суда, устроившись где-нибудь на противоположной стороне улицы, возле витрины ювелирного магазина «Драбкин и дочери», или возле булочной на углу, или в подъезде налоговой конторы, где в дождь обычно стоял толстый усатый дворник в длинном мясницком переднике. Бывало, для вящей убедительности Эфраим брал его метлу и без спроса, самочинно подметал улицу, стараясь подобраться как можно ближе к серому дому, где, как казалось Эфраиму, горел жертвенник и возводили на костер непокорных отроков, похожих на его Гирша.
Эфраим пристально смотрел на каждого посетителя, открывавшего тяжелые парадные двери суда, отличал их не только по внешности, но и по походке, для удобства давал каждому имя и звание. Вон того бородача в котелке и с тросточкой Эфраим называл Петром Петровичем, а того низенького, с брюшком — Матвеем Ильичом. (Так звали его и Шмуле-Сендера ротного командира.) Глядя на каждого, Эфраим пытался определить степень их важности. Петр Петрович был, пожалуй, помельче, чем Матвей Ильич. Но и Матвей Ильич не был главным.
Главным, от которого зависела судьба Гирша, был, как казалось Эфраиму, сухопарый мужчина в шинели, с погонами. Это, наверно, и есть председатель военно-полевого суда — Николай Николаевич Смирнов.
Что, если подойти к нему и, не чинясь, попросить за Гирша. Отдайте его, мол, мне, ваше высокопревосходительство, пусть у меня отбудет положенный срок каторги! Можете не сомневаться, ваше высокопревосходительство, у меня ему будет не слаще, чем на медных рудниках или в золотых копях. Я заставлю его трудиться с утра до вечера и с вечера до утра, и все дурости у него из головы быстро вылетят. Слово Эфраима Дудака! Это раньше я позволял им делать все, что им заблагорассудится, а теперь!..
В таких воображаемых беседах быстро летело время; старик Эфраим не замечал, что пора возвращаться, но назавтра — помолившись и посетив Эзру — он снова спешил на свое заветное место напротив ювелирного магазина «Драбкин и дочери».
— Ну что ты здесь, отец, все время стоишь? — напустился однажды на него Семен Ефремович. — Еще подумают бог весть что!
— Кто стоит, тот выстоит, — чьими-то чужими, командирскими словами ответил Эфраим.
Конечно, Шахне этого не понять. Шахна живет по другим меркам, он придет сюда только тогда, когда разрешат, когда начнется суд над Гиршем. А Эфраим не хочет дожидаться, ему уже хочется быть там, в зале суда, сидеть напротив этого Петра Петровича и Матвея Ильича, смотреть им в глаза и требовать от них, чтобы судили сурово, но непредвзято, не чужака, а подданного русской империи, за которую он, его отец, проливал на Шипке кровь. Эфраим хочет наполнить этот зал своим родительским дыханием, чтобы его несчастному сыну, да просветлит господь его мозги, было теплей. Теплей и уютней.
И он войдет в этот зал суда задолго до того, как его Гирша, скованного цепями, привезут туда.
Он так и сделал. Подметал, подметал улицу, прислонил к стене ювелирного магазина «Драбкин и дочери» метлу, подождал, пока появится тишайший Петр Петрович, пристроился сзади и проник в здание.
И никто не остановил его.
Никто не спросил, куда он идет.
В зале суда допрашивали какого-то коренастого мужчину, как Эфраим впоследствии понял, домовладельца, добровольно, ради страховки, поджегшего свой дом. Старику Эфраиму не было никакого дела до его дома, до его страховки, он сидел на блестящей, как бы покрытой лаком скамье и дышал всей грудью.
Пусть тебе будет теплей, Гиршеле! Самый яркий костер не может так согреть, как дыхание отца или матери. Сегодня, Гиршеле, и завтра, и послезавтра, и через десять лет, если ты останешься жив, я буду дышать только для тебя, и тебе будет тепло, как в пеленках.
Что-то говорил Петр Петрович, ему что-то возражал Матвей Ильич, шумел и клялся защитник, председатель звонил в колокольчик, похожий на шляпку барышни-франтихи, но Эфраим не слышал ни одного слова: он сидел, сгорбившись, смотрел на портрет государя императора, осенявшего суд своей величественной добротой; государь император смотрел не на председателя, не на подсудимого, а на него, Эфраима Дудака, и больше ни на кого, смотрел — и, о чудо! — голосом рабби Авиэзера, согласившегося приютить козу Эфраима, шептал:
— Дышите, евреи!
Эфраим широко развел рот.
Разевала рот Лея.
Двойре.
Гинде.
Эфраима нисколько не удивляло, что государь император знает имена всех его жен и всех его друзей:
— Дышите, евреи!
— Шмуле-Сендер!
— Авнер!
Вслед за государем императором и Эфраим перечислял всех, начиная с почтальона-урядника Нестеровича и кончая беднягой Ешуа Манделем, и единственное, что его пугало, это то, чтобы, не дай бог, не открыли окна и не выпустили тепло.
Это было какое-то удивительное ощущение сна и яви, в котором все было подлинно и все ложь. Все, кроме теплого, нагретого как будто в кузнечных мехах, дыхания.
Назад: III
На главную: Предисловие