Книга: Рассказ о непокое (Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни (минувших лет))
Назад: Двадцать лет спустя
Дальше: Паустовский
Рыльский
Мы познакомились в середине двадцатых годов в поезде Харьков — Киев. Случилось так, что мы оказались в одном купе бесплацкартного вагона. Мы с Вишней ехали в Киев — не припомню уже по каким, по по разным делам, потому-то и встретились лишь на перроне вокзала. А заняв места, увидели Зерова с усатым молодым человеком. Зеров возвращался в Киев, то ли с одного из частых тогда литературных диспутов, то ли после разрешения каких-то педагогических дел в Наркомпросе. Вишня познакомил меня с Зеровым, а Зеров рекомендовал своего молодого спутника. — Максим Рыльский, — назвал он.
Молодой человек с усами, Максим Рыльский, пожал нам руки и молча уселся в углу.
Что греха таить: для закрепления знакомства Павло Михайлович достал из чемодана бутылочку, Зеров из портфеля — колбасу, и мы выпили по очереди из одной посудинки. Из одной — не для выполнения казацкого ритуала знакомства, а потому что второй не было: дорожная серебряная чарочка нашлась, конечно, в кармане Павла Михайловича.
После первой же чарки Микола Костевич Зеров начал читать стихи: свои и других поэтов. "Античность" его стихов меня не пугала, другие поэты были и французы и немцы, а из украинских он читал, на удивление, не своих неоклассиков, а как раз наших, пролетарских, гартовцев — Тычину, Йогансена: он ими восхищался.
И тогда — должно быть после второй чарки, под перестук колес и ритмическое покачивание рессор вагона третьего класса — я услышал впервые и стихи Максима Рыльского из его уст: читать его попросил Зеров.
Рыльский прочитал "Поете! Будь собі суддею…"
Разумеется, я не запомнил тогда этих строк, но они произвели на меня незабываемое впечатление, и сейчас я разыскал их в одном из томов поэтических произведений Максима. Потому что при моих, пускай и ограниченных только гимназическим курсом, познаниях в классиках и неоклассицизме и особенно при Филиппинах, которые в то время часто обрушивались на "неоклассиков", я никак не мог понять, где тут в стихотворении Рыльского неоклассицизм и в чем его зловредность по отношению к творческим поискам революционной поэзии.
Вот это стихотворение:
Поете! Будь собі суддею,
І в ночі тьма і самоти
Спинись над власною душею,
І певний суд вчини над нею,
І осуди, и не прости.
Устануть свідки темноокі,
Зо дна поблідлої душі,—
І скажеш їй: у світ широким
Іди, не знаючи про спокій,
І, согрішивши, не гріши.
Это стихотворение, да и другие, которые еще читал тогда Рыльский (не припомню уже, какие именно), которые, по свидетельству литературных авторитетов, должны были быть непонятными, были мне понятны абсолютно и абсолютно ничего идейно чуждого, да и оторванного от жизни я в них так и не увидел. И моя предубежденность против неоклассиков… несколько поколебалась.
Поезд уходил из Харькова вечером, прибывал в Киев утром, и мы проговорили без сна целую ночь. О поэзии ли говорили и литературе вообще? Может быть, кой о чем, не очень существенном, потому что в памяти у меня это не сохранилось. Но хорошо запомнилось — говорили об охоте и рыбной ловле. Вишня, и Зеров, и Рыльский, влюбленные в природу, были завзятыми охотниками — во всяком случае Вишня и Рыльский, про Зерова точно не скажу. Я тоже не раз ходил на уток и куропаток, и только недавно Йогансен убедил меня приобрести себе ружье "Зауэр три кольца".
Так произошло мое знакомство с Максимом Фаддеевичем.
После этого много лет, не припомню уже сколько, мы с ним не виделись и никак не соприкасались. В газетах и журналах то и дело печатались статьи, в которых ругали "неоклассиков" — доставалось и Рыльскому. Я читал эти статьи, каждый раз возникало у меня в памяти это прочитанное при первом знакомстве стихотворение "Поете! Будь собі суддею" — и снова и снова одолевали меня сомнения: ну, правда, есть и влюбленность в "античность", однако так ли уж огульно дурны и враждебны эти неоклассики, как уверяли нас непререкаемые авторитеты тогдашней критики — Коряк, Коваленко, Щупак?
Тут уместно будет небольшое отступление.
Я, как и Рыльский, учился в дореволюционной гимназии. Хотя гимназия, которую мне пришлось окончить (я кончал в Жмеринке, а до того учился в гимназиях в Каменец-Подольске, Глухове на Черниговщине и в Белой Церкви) и не подходила под рубрику "классической" (в "классических", кроме двух новых языков — французского и немецкого, — изучались еще три древних — церковнославянский, греческий и латинский, в нормальных — древних только два: церковнославянский и латынь), но вся учебная программа неклассических гимназий — словесность, история, логика, философская пропедевтика — и т. п. — полностью следовала программе классических. Таким образом, гуманитарное образование семнадцатилетние и восемнадцатилетние абитуриенты гимназии получали в объеме довольно солидном — к сожалению, в ущерб практическим знаниям в науках точных: математике, физике, природоведении и других. Самые эти знания, а в особенности воспитательная система, не могли не отражаться и на формировании мировоззрения юношей. Выходили из гимназии мы — точнее, те из нас, которые не слишком пренебрегали учением, — этакими "гомункулюсами", оторванными от реальной жизни, с представлениями и мечтаниями, направленными тоже преимущественно в прошлое, а не в будущее.
С таким багажом вышел на широкую арену жизни, начиная свой самостоятельный жизненный путь, и Максим Рыльский, на пять лет раньше меня получив среднее образование. Мировоззрение у абитуриентов тех времен было совершенно не сформировавшееся — путаное и сумбурное. Ведь действовали на паше мировоззрение еще и внешкольное окружение и общая социальная обстановка. Это окружение и социальная обстановка вызывали у нас неопределенный протест и против нашего схоластического образования и, в какой-то мере, против самой социальной обстановки. Словом, еще в старших классах "гимназии каждый из нас считал себя демократом и даже… революционером. Название "революционер" приклеивалось тогда любому "протестанту", даже если этот протест был и вовсе "доморощенный". Говорю об этом, потому что позднее, в наших беседах, мы с Максимом Фаддеевичем не раз возвращались к этой теме, оглядываясь на наше юношеское прошлое. Правда, и окружение и социальная обстановка в дальнейшем оказались у каждого из нас довольно отличны, и это тоже не могло не повлиять на характер первых же самостоятельных шагов на жизненном пути. Рыльский окончил среднюю школу в 1915 году; меня мировая война — во всей сложности обостренных ею социальных противоречий — застала в старших классах гимназии, да еще в прифронтовье. Высшее образование Рыльский получал как раз в годы войны, а я начинал (да так и не закончил) уже в годы революции. Да и социальное окружение было у нас разное: Рыльский был тесно связан с селом и крестьянством, но вращался преимущественно в кругах либеральной украинской интеллигенции; я рос в городе, в окружении мелких служащих и железнодорожных рабочих.
О значении всех этих обстоятельств для формирования личности мы с Максимом Фаддеевичем позднее говорили не раз, взвешивая их и переоценивая. В дальнейшем, когда мы самостоятельно становились на ноги, в жизни и — главное — на пути творческого призвания, наши реакции оказались очень разными. Творческое "я" Рыльского начиналось с дальнейшего развития того, что было приобретено им в юности — и благодаря образо-ванию, и окружающей среде; я начинал с яростного отрицания всех достижений прошлого.
Отметив это, возвращаюсь к неоклассицизму и нео-классикам. Приход к неоклассикам был для Максима Фаддеевича по-своему закономерен и логичен. Для меня же логичны были поиски на иных путях, что и привело меня в самом начале творческой жизни к революционным литераторам, которые провозгласили себя открывателями литературы пролетарской. Потому-то совершенно легко и просто я принял и логичное для нашего круга в то время толкование неоклассиков как группы антиреволюционной, противостоящей нам, пролетарским писателям.
И вот теперь (я имею в виду после упомянутой встречи с Зеровым и Рыльским), в пору, когда я уже несколько освоился в литературных ситуациях, несколько обогатил и расширил свой кругозор, — я вдруг опять увидел перед собой… туман. Приглядевшись внимательнее к поэзии неоклассиков, я за их пускай непонятностью для широких масс все же не заметил ничего дурного, кроме этой же… непонятности. Поэзия неоклассиков, думал я тогда, вовсе не антинародна, не контрреволюционна, она просто лежит на других тропах развития, с ней нам пусть и "не по пути", однако враждебного в ней как будто ничего нет. В то же время я видел в ней формальное совершенство, эталон мастерства, — так стоило ли ее выбрасывать вон и авторов ее толкать во вражеский лагерь?
Нет, неоклассики уже не были для меня "жупелом", И с позицией наших лидеров — Коряка, Коваленко, Щупака — я уже не мог безоговорочно согласиться.
Возможно, — сегодня, через четыре десятка лет, боюсь категорически утверждать, что тогда это так и было, — такие мысли и чувства были присущи не одному мне. Во всяком случае, когда значительно позднее, уже в пору литературной зрелости, мы с Максимом Фаддеевичем возвращались мыслями к пройденным литературным этапам и заходила между нами речь о временах неоклассиков и "Вапліте", "напостовства" и РАППа или ВУСППа — такие соображения мы друг другу высказывали.
"Пора литературной зрелости" — выражение, конечно, весьма условное: ведь принято считать, да я и в самом деле так считаю, что настоящей литературной зрелости не достигаешь и на склоне лет, заканчивая, собственно говоря, свой путь в литературе. Но я имею в виду тот период, когда выходишь уже из ранга "начинающих", приобретаешь определенный опыт и умеешь самостоятельно ориентироваться в общей литературной обстановке. Вполне понятно, что для Рыльского эта пора пришла давно — он и по возрасту старше меня, и на литературный путь вступил гораздо раньше, еще пятнадцатилетиям мальчишкой. Для меня эта пора наступила где-то в конце двадцатых — начале тридцатых годов — уже после пребывания в таких организациях, как "Гарт", "Вапліте", "Группа А". Именно на это время и падает, по видимому, вторая встреча с Максимом Фаддеевичем, которая запомнилась мне и, очевидно, положила начало нашему взаимному расположению.
Было это в зимний морозный день. Мы хоронили Леньку Чернова-Малошийченко — моего доброго приятеля, талантливого поэта и прозаика, острого юмориста-сатирика и веселого шутника, неутомимого, но непостоянного поклонника красивых женщин, влюбленного в жизнь и скитания по земле, шалопая, выдумщика и фрондера, а на литературных позициях последовательно футуриста, имажиниста, конструктивиста, спиралиста — словом, путешественника по всем существовавшим в то время литературным "измам". Убил его тридцати лет от роду туберкулез. Мы опустили его гроб в могилу, вырытую в сухой и мерзлой земле харьковского нового кладбища, поплакали — слезы замерзали на лютом морозе — и Валериан Полищук сказал короткое слово прощания: Леня в то время принадлежал к полищуковской организации "Авангард". Но когда мерзлые комья земли уже забарабанили по крышке гроба, над могилой встал Максим Рыльский: по какому-то делу он приехал из Киева в Харьков. Максим Фаддеевич склонил голову над раскрытой могилой и заговорил. Он сказал коротко, я уже точно не припомню, что именно. Но то было слово, исполненное приязни к человеку, уважения к таланту поэта, восхищения его "непоседливостью" и в жизни и в творческих исканиях.
Максим Фаддеевич говорил, обращаясь к поэтической молодежи, — ведь был он уже из "стариков", лет за тридцать, из самого старшего в то время литературного поколения. И закончил он памятными словами:

— Чернов умер, да здравствуют Черновы!..
Потом мы шли с кладбища, крепко взявшись под руки, — Полищук, Ковтун, Чечвянский, Тасин, я — самые близкие друзья Леньки Чернова. С нами в одной, сплетенной руками, шеренге шел и Максим Фаддеевич. Шли, вспоминали, каким хорошим товарищем был наш Ленька. Тут выяснилось, что Максим Фаддеевич с Черновым знаком не был, в жизни его не знал и никогда с ним не встречался. Но знал его книги, фельетоны в "Червовом перце", а некоторые его стихи тут же прочел наизусть. И добавил:
— Я полюбил Чернова не за его стихи — многие из них мне не нравятся; и не за юмористику — Вишня и Чечвянский пишут лучше; он пришелся мне по сердцу своей любовью к скитаниям, и вообще за всем, что он пишет, я ощущаю безграничную влюбленность в жизнь и какую-то стремительность, даже до дерзости. Этого очень и очень не хватает нашей украинской литературе.
Это — почти точные слова Максима Фаддеевича, они врезались мне в память, потому что были им записаны тот да же, после похорон. Копыленко и Зегер, которые делали еженедельный иллюстрированный журнал "Всесвіт", — они, должно быть, встретили нас по пути, а может, мы и сами забежали к ним в редакцию, не припо-мию, — заставили всех нас сесть за столы, тут же в редакции, взять перья в руки и написать о Чернове — некрологи, воспоминания, стихи, статьи, что угодно. За какой-нибудь час или два все это было написано и отправлено в типографию: завтра-послезавтра должен выйти номер и в нем две страницы — разворот, посвященный памяти Чернова. Рыльский коротко записал свое выступление на кладбище и добавил еще, кажется, какие-то поэтические строки. Мемориальный разворот во "Всесвіті", таким образом, был сделан, сверстан, отпечатан — номер журнала вышел было в свет, но на другой же день его задержали, вернули в типографию и "пустили под нож": лидеры ВУСППа вдруг выступили с горой обвинений по адресу покойного поэта.
А тогда из редакции "Всесвіта" мы спустились двумя этажами ниже — в подвал, в литературную бильярдную и забегаловку Порфишки. Понятно зачем: справить по товарищу поминки. Вспоминаю за столом Рыльского, Копыленко, Чечвянского, Полищука и еще кого-то.
Собственно, тогда-то и состоялся мой разговор с Максимом Фаддеевичем. Когда все разошлись к бильярдным столам, нас осталось трое — Рыльский, Полищук и я. Полищук сразу бросился в наступление — на неоклассиков. Не припомню, в чем он их обвинял и за что громил, помню лишь, что, как всегда, противопоставлял им свои собственные новаторские позиции. Рыльский молчал и улыбался уголками рта — обычная его улыбка, которая стала особенно приметна после того, как он сбрил усы. А потом вдруг — вместо ответа на филиппики Полищука неоклассикам и его панегирики себе — начал читать стихи. Не свои — переводы из Пушкина.
Это, собственно, и было началом разговора, и теперь уже Рыльский пошел в наступление, громил и обвинял Полищука. Громил за псевдоноваторство, обвинял в верхоглядстве, легкомыслии и преступном — так и говорил "преступном" — пренебрежении к классическому наследию. "Без прошлого, — говорил Максим Фаддеевич, — нация не имеет будущего". И тут же возвращал Полищуку его любимое обвинение в адрес всех, кто не шел вместе с ним, — "назадничество". Максим Фаддеевич доказывал, что все "экивоки" полищуковского авангардизма и есть настоящее "назадничество", потому что, во-первых, никого не поведут вперед, а во-вторых, это лишь жалкие повторения модернистских и футуристических экспериментов в итальянской и французской поэзии.
Мне очень жаль, что память не удержала более подробного содержания нашей беседы — то был настоящий литературный разговор и затронул он бесчисленное количество самых злободневных в ту пору вопросов, которые, однако, столь же злободневными остались и доныне. Я говорю — нашей беседы, потому что хотя в основном спорили Рыльский с Полищуком, но и я отваживался встазить словцо от себя: сперва пытался поддерживать Полищука, потому что все-таки были мы оба из одного "гартовского" круга, но убежденный аргументацией Максима Фаддеевича, "перекинулся" на его сторону — и тогда мы уже вдвоем атаковали авангардизм и "полищукизм". Кто его знает, возможно, как раз этот разговор, его характер и мое единомыслие с концепциями, которые высказывал Рыльский, и положили начало его симпатии ко мне. Характерно: несмотря на то что спор между Рыльским и Полищуком был очень резкий, в непримиримых тонах, он не закончился ссорой — наоборот: распрощались они тогда настоящими друзьями. Полищук на прощание даже прочитал стихи — тоже не свои, а переводы… из Лермонтова.
Пускай это никого не удивляет, но именно на переводах гениев русской поэзии — Пушкина и Лермонтова — сошлись и примирились непримиримые противники в украинской литературе — неоклассик и авангардист.
Еще хочу сказать в связи с той нашей беседой о перемене, отмеченной мною в Рыльском, которого я не видел после первого знакомства лет шесть или семь. За эти годы в нашем общественном житье-бытье произошли значительные сдвиги, прошел большую школу жизни и Максим. Его взлет — к зениту славы — тогда еще не начинался, он придет через несколько лет, и были то, может быть, самые тяжелые годы для Максима Фаддеевича. Улыбка у него была грустная. Говорил он как-то медлительно, словно взвешивая каждое слово — очень нехарактерно для Рыльского, какого мы знали и запомнили потом на всю жизнь, — и только в пылу спора он точно сбрасывал с себя надетую им маску степенности и становился задиристым как мальчишка.
В завершение нашей встречи произошло еще вот что — хочется и об этом вспомнить.
Мы вышли из подвала Порфишки поздно — должно быть, после одиннадцати, потому что в соседнем театре спектакль уже коптился: здание стояло темное, без огней. По когда мы шли мимо театрального подъезда, то увидели, что окно справа от главного входа светится. Тогда, до реконструкции здания, здесь была небольшая комната — администраторская, где временно помещалась редакция журнала "Нове мистецтво". В редакции горел свет — Василь Хмурый еще возился со своими редакционными делами: он числился секретарем редакции, но фактически был редактором (ответственным считался Микола Хрыстовый), а также и корректором, выпускающим, метранпажем и экспедитором. Он один составлял, редактировал, издавал и распространял журнал — это в те годы было обычным явлением. Я писал для журнала театральные рецензии, с Хмурым был в приятельских отношениях — потому и позволил себе шутя постучать в окно. Штора отодвинулась, выглянул Хмурый и приветливо помахал рукой, делая пригласительный жест — заходите: он показал в сторону бокового актерского входа — с переулка. У актерского входа ночью дежурил вахтер, и Хмурый пользовался этой дверью.
— Что ж, — сказал Максим Фаддеевич, — пойдемте в театр.
— Так спектакль ведь уже кончился, — заметил кто-то.
— Неважно! — отвечал Максим Фаддеевич. — Во-первых, театр имеет особую привлекательность ночью, после спектакля — когда нет публики, нет и актеров, только неприбранные декорации. А во-вторых, мы сами можем дать представление.
Мы свернули в переулок, на пороге нас встретил Хмурый, и вот мы в театре.
Но мы не пошли в редакцию, не направились в вестибюль или в зал, а поднялись на сцену. За кулисами чуть маячил единственный — красный — пожарный фонарик. Не припомню, какие были на сцене декорации — какие-то конструкции, возможно, после спектакля "Джимми Хиггинс", — но в углу стоял рояль. И Максим Фаддеевич сразу направился к инструменту, сел, откинул крышку и взял аккорд.
И вот мы, несколько человек, расселись на разных плоскостях этих конструкций, а Максим Фаддеевич играл. Не запомнилось, что он играл, но что-то бурное, грандиозное, может быть Рахманинова. Занавес был поднят, железный, противопожарный еще не спустили, мы видели черный провал зала, и в этой черной пустоте аккорды раскатывались эхом, но мы могли себе представлять, что там полно зрителей — и великий пианист Максим играет для тысячной толпы. Он играл одно, потом другое, потом третье — не останавливаясь; играл взволнованно и вдохновенно, он был весь там — в мелодии, в царстве звуков, порожденных гармонией чувств. А мы сидели притихшие и тоже взволнованные. И кто знает, что именно нас взволновало? Похороны друга? Жаркий разговор на поминках по его душе? Или просто непривычность обстановки: огромный, пустой ночью театр, заполненный призраками героев, которые постоянно, день за днем, живут здесь, на сцене, во всей полноте своих чувств и страстей? Не знаю. Но запечатлелось это настроение точно и вспоминается тоже с волнением.
Сашко Копыленко — он сидел рядом со мной — сказал:
— Какой он хороший, Максим, и как это мы его до сих пор не знали!
Когда Максим кончил играть, Сашко подошел к нему, обнял и поцеловал.
Я вспомнил и этот, может быть незначительный, эпизод, потому что в нем, мне кажется, отразился характер Максима Фаддеевича. Крэме того, и я, именно тогда, в ту ночь у рояля в пустом театре, тоже почувствовал — какой же он, Максим, хороший…
Тут, в совсем другом ключе — и забегая на много лет вперед, — не могу не припомнить другого случая с Максимом у рояля.
Мы праздновали не то юбилей Максима Фаддеевича, не то какое-то другое связанное с ним событие. Уже после войны, в Киеве, в ресторане "Театральный". Зал тогда в этом ресторане был только один, а там, где теперь раздевалка, находилась эстрада и на ней оркестр. Оркестр играл и играл без перерыва, за длиннющим столом сидели гости Максима — много, с полсотни, и все провозглашали тосты за именинника. И вдруг заметили, что именинника… нет: стул его стоял пустой. Подождали немного, полагая, что он куда-нибудь вышел. Но прошло и пять, и десять минут — оркестр играл и играл, — а именинник все не возвращался. Максим Фаддеевич исчез. Кинулись туда, сюда: куда же девался Максим Фаддеевич?
И вдруг его увидели: он сидел на эстраде, среди оркестрантов, и играл вместо пианиста.
Это — тоже черта Максима Фаддеевича.
В тридцать пятом году отмечалось сорокалетие Максима Фаддеевича и двадцатипятилетие его литературной работы. Уже широко известен был — решающий в его поэтической и общественной биографии сборник "Знак весов", а также поэма "Марина" и цикл "Киев". То был период высокого творческого и общественного взлета его. Максиму Фаддеевичу я послал приветственную телеграмму.
Как известно, на приветственные телеграммы не отвечают — ограничиваются общей благодарностью в печати. Но, к моему удивлению, Максим Фаддеевич ответил письмом. Он писал, что обрадовался, потому что ждал весточки от меня… с той ночи после похорон Чернова.
Вот так — если посмотреть сейчас — закладывалось наше взаимопонимание с Максимом Фаддеевичем.
А потом настал грозный час — война.
В конце сорок второго года я, как уже говорил, очутился в Уфе, где созывался — первый за время войны — пленум Союза писателей Украины.
Распрощавшись с Яновским, который встретил меня темной морозной ветреной приуральской ночью на вокзале, я поплелся в гостиницу "Башкирия". Но тут меня ожидала неприятная новость: пленум начнется через два или три дня, с этого времени и забронированы номера, а до тех пор… бог подаст — ищите себе приюта, где хотите.
Итак, приходилось либо ночевать здесь же, в холодном, не отапливаемом коридоре, либо стучаться в чужие двери, будить незнакомых людей и проситься "Христа ради".
Но когда мы с секретарем Союза Мамиконяном поднялись на второй этаж, двигаясь в темноте на ощупь по стенкам, потому что на ночь электричество из экономии выключали, у дверей какого-то номера мы наткнулись на фигуру в ватнике: кто-то вышел в коридор покурить.
— Юрий Корнеевич, да неужто это вы?
Это был Максим Фаддеевич Рыльский. И мы зашли к нему.
Номерок у Рыльского был совершенно микроскопический: письменный столик, кровать и диванчик — между ними и не протиснуться, а жили здесь трое: Максим Фаддеевич, Екатерина Николаевна и маленький Богдан. Но с дивана сразу же сняли спинку, втиснули между столом и кроватью — и роскошный ночлег был обеспечен. Правда, номер в такой мороз был холодный, почти не отапливался; спали не раздеваясь, света тоже не было — обходились каганцом, но Мамиконян уже приволок чайник кипятку из гостиничного титана, а у Максима Фаддеевича на дне чемодана нашлась "заветная" бутылочка "для согревания изнутри".
И мы с Максимом Фаддеевичем просидели при каганце до позднего зимнего рассвета. Екатерина Николаевна и Богдан посапывали в своих углах — это создавало особый уют, а мы вдвоем говорили и говорили, откровенно, как на духу.
Вот с этой ночи при каганце — так далеко от родной земли, в холодной приуральской Уфе, в роскошной на вид, но неуютной гостинице "Башкирия", в крошечном и холодном, но полном душевного тепла номере, — и началась, собственно, наша с Максимом Фаддеевичем задушевная близость: до того мы были просто добрые знакомые, отныне стали друзьями.
О чем говорили мы в ту ночь?
Обо всем. Обо всем, что волновало нас, что тревожило, что особенно было больно в тот горький час — в тяжкую военную годину, далеко-далеко от родного края, который у нас отобран, но который все равно наш, наш, наш, что бы там ни было!
О войне. О страшной беде, которая свалилась на наш народ, страдающий под пятой злобного оккупанта, о скорби, терзающей души родных людей на своей земле, и о невзгодах в трудных условиях массовой эвакуации.
О героизме солдата на фронте и бойца в подполье или партизанском отряде и о стойкости советских людей здесь, в тылу, о самоотверженном труде для фронта.
О красоте и величии советского народа и о нашей незыблемой вере в победу и в будущее возрождение нашей жизни — неисчерпаемыми силами и неутомимой энергией советских людей.
Таковы были наши надежды, такова была наша вера!
Я записываю это в патетических тонах, потому что весь наш разговор шел именно в таком — высоком тоне, и это был тот случай, когда пафос и есть искренность, когда самая тонкая интимность ищет своего выражения в приподнятости, когда подъем и есть правда твоего душевного состояния.
Мы говорили тогда и о трагической судьбе Украины на путях истории — и в далеком прошлом и в близкой современности. О кровавых войнах и тяжелых разрушениях, которые за ее исторический путь страшными волнами "цунами" то и дело перекатывались над нашей Отчизной.
Много о чем говорили мы тогда — с вечера до рассвета. И был это разговор из самой глубины души.
Были мы единомышленники, и символ веры был у нас один: со своим народом надо быть всегда — в радости и в горе, в благополучии и в беде.
Максим Фаддеевич поведал мне, что как раз теперь, в час страшных народных бедствий, решил он — помещичий сын, дворянин и рьяно критикуемый когда-то неоклассик, — вступить в Коммунистическую партию.
Читатель уже знал — после "Знака весов" — и "Лето", и "Украину", и "Сбор винограда"; звучало уже на всю страну, да и на весь мир, "Слово о родной матери".
Говорили мы тогда и о литературе. И о том, что — ох-ох! — надо пополнять поредевшие ряды украинских литераторов молодыми силами.
Потом наступило утро, и нам от Екатерины Николаевны изрядно-таки досталось — и за то, что мы так и не ложились спать, и за то, что заветная бутылка была совсем пуста.
В Москве, куда летом 1943 года приехал Рыльский, мы встречались изо дня в день и на территории Партизанского штаба, и частным образом, на квартирах, и официально — по писательским делам.
Когда в августе сорок третьего года Центральный Комитет предложил Рыльскому, Панчу и мне вылететь в освобожденный Харьков, мы сели в "кукурузник" и полетели.
Мы летели всю дорогу от Москвы до Харькова на бреющем полете, у самой земли, потому что гитлеровские воздушные пираты шныряли туда и сюда и простреливали воздушные просторы. К тому же был сильный встречный ветер: горючего нам не хватило, пришлось сделать вынужденную, с ночевкой, посадку в Орле. Потом что-то испортилось в моторе — и совершили вторую вынужденную посадку, уже под самым Харьковом, километрах в двадцати. И вот пока летчики добывали замену сломанной детали, мы направились к ближнему селу, у которого, в поле под копною, приземлились. То была первая встреча с родной землей после двухлетней разлуки. То были и первые встречи с родными людьми, пережившими ужас и мрак оккупации. Мы вошли в село и увидели женщин — одних женщин, потому что мужчины, только что освобожденные Советской Армией, взяли в руки винтовки и пошли догонять гитлеровцев — множить наши победы. Женщины пели и дружно белили свои хаты — наводили чистоту и порядок после оккупанта, чтоб "и духу его не осталось".
Я не буду подробно описывать этот хорошо памятный мне и очень волнующий эпизод, потому что он уже перенесен на бумагу и стал запевом нашей общей с Максимом Фаддеевичем книги "О хорошем в людях". По именно потому я и упоминаю о нем попутно здесь, в этих записях, что тогда завязалась еще одна, очень важная в нашей дружбе, связь. Растроганные, мы говорили о том, как это прекрасно — враг изгнан, такая радость, вот и белим хаты всем селом! — какие хорошие люди у нас на селе, вот эти женщины, что прошли сквозь муки ада во время оккупации, потеряли родных в боях или в застенках, но не утратили ни веры в лучшее будущее, ни своей живой души; говоря об этом, мы, собственно, и положили начало нашим с тех пор постоянным беседам о хорошем в людях. Именно с тех пор, чуть не каждый раз, когда мы оставались вдвоем — дома, в поезде, а то и на работе, а в особенности потихоньку на скучных собраниях или заседаниях, — мы непременно рассказывали друг другу, что еще хорошего посчастливилось нам подметить в наших случайных встречах с людьми или услышать от других.
Сперва такие наши беседы происходили случайно, потом они вошли в привычку и стали как бы традицией.
Со временем я начал некоторые из этих взаиморассказов записывать, пообещал записывать и Максим Фаддеевич, потому что сама собой возникла идея собрать их в книгу. Сделать эту книгу нам, к сожалению, не пришлось — она все откладывалась за другими неотложными делами, и начали мы ее уже только тогда, когда Максим Фаддеевич слег, был прикован к постели неизлечимой болезнью. Заканчивал книгу я один, Максима Фаддеевича не стало. Публиковалась она в газете "Вечерний Киев", потом вышла на украинском — в Киеве и на русском — в Москве. Сказать откровенно, валилось у меня перо из рук, когда я остался один, и совсем не хотелось мне продолжать публикацию наших бесед, но и редакция, и, в особенности, читатели, присылавшие письма и звонившие по телефону, настояли на том, чтобы книга была завершена. В книгу вошла лишь часть наших взаиморассказов, не мог я помещать в нее только мои, а пересказывать рассказы Максима Фаддеевича было как-то неловко. Вот я и отобрал лишь те, сюжеты которых так или иначе были связаны с присутствием Максима Фаддеевича. Остальные остались в папках.
Но вернемся к прошлому. Вскоре после Харькова был освобожден и Киев — московский период, полный интересных и важных встреч, закончился: мы окончательно возвращались на родную землю. Рыльский был председателем Союза, я — его заместителем.
Хорошим ли председателем был Максим Фаддеевич?
Полагаю, что хорошим. Прежде всего потому, что имел для этого все данные: высокий творческий авторитет и такой же общественный. А еще потому, что огромное большинство писателей относилось к нему с симпатией, даже сердечно. Я говорю: огромное большинство, а не все; чтоб хорошо относились все — так не бывает, да и не нужно этого, потому что равное отношение всех возможно лишь к человеку безличному. Еще потому имел Рыльский все основания быть хорошим председателем, что и сам относился к огромному большинству писателей, да и вообще людей, доброжелательно и сердечно. А с деловой точки зрения? Что ж, с деловой точки зрения писателю трудно быть председателем, тем паче не учреждения или какого-нибудь института, а именно писательской организации, творческого коллектива, который, собственно, и не коллектив, а совокупность сотен творческих индивидуумов. Да и работая председателем, заботясь о делах всей писательской организации, а значит, и каждого писателя в отдельности, надо и самому оставаться творческой личностью: писать и издавать новые и новые произведения. А так много работать, как работал Максим Фаддеевич, редко кто из писателей умел.
Кстати, о работе Максима Фаддеевича. Труд его, как известно, был трудом титана. Председатель Союза, директор института искусствоведения, депутат Верховного Совета, председатель или член президиума еще ряда общественных организаций, он находил время писать больше всех других поэтов. Он постоянно публиковал новые стихи — циклы и сборники — и одновременно переводил стихи своих коллег и с русского, и с польского, и с еврейского, и с французского: лучшего переводчика Пушкина и Мицкевича, как известно, еще не было. Он регулярно выступал с публицистическими статьями или научными докладами, будучи притом всегда перегружен чтением рукописей — стихов и прозы товарищей или работ будущих кандидатов и докторов литературы и искусствоведения. Но попробовали бы вы заговорить с ним о какой-нибудь новинке в прозе, драматургии или поэзии — не было случая, чтоб Рыльский отговорился незнанием: он читал необыкновенно много и был в курсе всего, что появлялось в украинской и в русской литературе и почти всего — в литературе польской. Не забывайте при этом, что был Максим Фаддеевич необычайно "живым" человеком и ничто человеческое ему не было чуждо: он всегда был с людьми и на людях, очень любил задушевные беседы в компании, не чурался приятелей и за чаркой, честно вышагивал весь охотничий сезон с ружьем в руках, а с удочкой постоянно пропадал на реках и озерах. Кроме того, он беспрестанно путешествовал — и по родной стране и по всему миру. Скажу правду, я не знал людей такой неисчерпаемой энергии, которые делали бы так много и так быстро. Причем это "быстро" отнюдь не в ущерб качеству. Мне, например, доводилось присутствовать при том, как в ответ на просьбу газеты (по телефону) написать стихотворение Максим Фаддеевич тут же брался за дело и сразу передавал стихотворение в редакцию по телефону же.
В работе Максим Фаддеевич был человеком феноменальным.
И о таланте его хочется сказать так: блестящий и вместе с тем глубокий, быстрый и в то же время безупречный.
Мне кажется, что рассказом о работе и об отношении Рыльского к людям дан исчерпывающий ответ на вопрос: был ли Рыльский хорошим председателем писательской организации.
С Максимом Фаддеевичем мы много поездили на машине. "Дорогой пахнет" — это не просто образное выражение: с этого начиналась каждая очередная поездка.
Звонил телефон, и в трубке звучал веселый, всегда молодой голос Максима Фаддеевича:
— Юрий Корнеевич, дорогой пахнет!
— Куда, Максим Фаддеевич? Здравствуйте!
— Категорический привет!
То было характерное у Максима Фаддеевича шутливое приветствие.
— В Сквиру. К Магомету. Только не возгордитесь и не возомните себя горой: мол, если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету. — Максим Фаддеевич любил шуточки и прибауточки. — Магомет — это прославленный селекционер и мой сердечный друг. Завтра в девять утра вас устраивает? Дня на два. Ружье я на всякий случай положу в багажник.
Или:
— В Одессу. К самому синему морю. Помните: "шаланды, полные кефали"? Вот и посвятим эту поездку Мише Светлову. Чудесный поэт, чудесный товарищ! Скумбрию будем брать на самодур, так что удочек не надо.
Или еще:
— Не знаю. Когда выедем — увидим. Направо или налево — куда укажет зеленый свет. Прихватите карту Украины. Ту, на которую вы наносите наши путешествия. Надо посмотреть, по какой дороге мы еще не ездили.
А бывало и так:
— Как, вы забыли, что завтра Маковея? В Белой Церкви — престольный праздник. Я понимаю, что вы атеист, однако же туземцы не все атеисты и вопреки нашей идеологической концепции отмечают еще религиозные праздники. Преимущественно водкой и закуской, ра-зумеется. Но вокруг церкви святят цветы, как мед и яблоки на Спаса. Это же красота! Давайте представим законопроект, как лучше всего бороться с религией! Как? Очень просто: сохранить и умножить все связанные с религией традиции! Неужели вы не понимаете? Выпить и закусить — прежде всего. Потом — попеть и поплясать. И, конечно, не выходить на работу. Итак, в день религиозных праздников бесплатное пиво, народные гулянья, фейерверк, возможны и современные формы массовых развлечений: фестивали, спортивные соревнования и тому подобное. Увидите: все будут у бочки с пивом, а в церкви — поп, дьячок и пономарь, если, конечно, сами они не застрянут возле пивной. Во всяком случае, у пивной в канаве будут валяться все басы из церковного хора. Что? Думаете, не примут законопроект? И я так думаю. Тогда, может быть, просто подсказать обществу безбожников или как оно теперь называется? Ах, и там талмудисты и начетчики? Тогда не будем предлагать проекта и подсказывать — пускай додумываются сами. Кстати, вы слышали, что лекторы-безбожники на склоне лет идут в монахи? Не слышали? И я не слыхал. А интересно было бы — в плане контраста? Верно?.. Словом, едем на престол и потолкаемся среди народа. Выезд в девять. Не забудьте прихватить цветы. Как — зачем? Чтоб освятить.
А впрочем, это всем известно: шутник и весельчак был Максим Фаддеевич.
Словом, мы договаривались, и заканчивал Максим всегда своим неизменным между нами приветствием: "Какомей!" Так то ли здоровались, то ли прощались северные поморы. Происхождение этого приветствия таково. Как-то летом, плывя морем из Батуми в Одессу, мы с женой прочитали книжку, не припомню чью, где описывался быт Севера. Чтобы взбодриться, местные гурманы употребляли специальный напиток — крепкий кофе с водкой; название напитка — "мурилка". В ресторане парохода мы сделали пробу: вкусно! Зная некоторую склонность Максима Фаддеевича к спиртному, а также его любовь к шуткам и мистификациям, мы послали ему с парохода телеграмму: "Везем мурилку привет!" Максим Фаддеевич, как он рассказывал потом, два или три дня ходил совершенно очумелый: никак не мог разгадать телеграмму, но, как всегда бывает в таких случаях, не мог и отвязаться от непонятного слова: "мурилка, мурилка, что оно такое?" И вот по случайному стечению обстоятельств, (а может быть, это телепатия?) ему как раз попалась та же книжка. Прочитал он и про мурилку и еще вычитал, что эти северные люди, здороваясь или прощаясь, говорят "какомей!" Тогда он послал нам в ответ телеграмму из одного слова: "Какомей".
Мурилку мы распробовали в домашней обстановке — за столом. Потом Максим Фаддеевич играл на рояле, и мы строили планы путешествий. Был Максим Фаддеевич настоящий Кола Брюньон, вот только не питал пристрастия к еде.
Поездили мы — в первые годы после войны — много, и по дальним и по ближним маршрутам. Любимым стал легкий и удобный способ передвижения — на автомашине: хочешь — едешь, хочешь — остановился, ни расписания, ни какой-нибудь другой формы регламентации. Новостью была самая возможность свободного передвижения и вообще ощущение радости бытия — после горьких и страшных лет войны. А без смены впечатлений и без возможности ощущать радость бытия Максим Фаддеевич не мог жить. Жизнь — радость, и все радости, которые может дать жизнь, надо от нее брать: Максим Фаддеевич был эпикуреец. Поэтому каждая поездка с ним была веселым отдыхом.
И чуть не каждая — каким-нибудь эпизодом — оставалась у меня на бумаге. Из поездки в Сквиру родился очерк о Магомете "Дегустация". Из поездки в Белую Церковь — рассказ "Телескоп моего отца". После поездки в Опошню — "Цвет яблони". Из путешествия по Подолии — "Секреты секретаря обкома партии". Мотивы из охоты в Межибоже и посещения Софиевки, где я родился, нашли свое отражение в заметке "Меж людей и с людьми". В других путевых записках использованы путешествия по Житомирщине, когда я был доверенным лицом при выборах Максима Фаддеевича в Верховный Совет, или Екатерининским трактом от Брацлава до Проскурова и Шепетовки. И еще по многим местам. Максим Фаддеевич все уговаривал меня эти рассказы, очерки и путевые заметки, разбросанные по разным книгам и сборникам, собрать в одну книжку, а он брался дать к ней вступительный и заключительный рассказ — эссе или поэтический запев. Да все как-то не доходили руки ни у меня, ни у Максима Фаддеевича: разве успеешь осуществить все то, что взбредет в твою литераторскую голову?
Лежит у меня, например, одна путевая запись, которую я так и не напечатал из фальшивой, как говорил Максим Фаддеевич, скромности. А впрочем, скромность тут, может быть, и ни при чем, дело в том, что использованные мной факты Максим Фаддеевич как раз и собирался положить в сюжетную основу своего эссе к предполагаемому сборнику записей о наших путешествиях.
Отбросив в этих мемуарах "фальшивую скромность", коротко перескажу ту запись. Пусть читатель поверит, что делаю я этот пересказ не из бахвальства: теперь, поскольку Максим Фаддеевич уже никогда не осуществит своего замысла, будем считать его материалом для черновика Максимова эссе.
Мы отправились тогда в долгое, недели на две, путешествие по Украине — вообще, без точного маршрута, куда свернет конь, то бишь машина, выбирая лучшую дорогу. И вот, когда мы проезжали Жмеринку, город, где прошла моя юность, я рассказал Максиму Фаддеевичу, как года два тому назад, вот так путешествуя на машине, заехали мы с Саввой Голованивским в Жмеринку и зашли пообедать в ресторан. Ресторан был пуст, у дверей сидела, читая книжку, официантка. Пока она ходила за едой, Голованивский посмотрел, что за книжку она читает. Это оказался мой роман "Наши тайны". Мне, конечно, было приятно и любо: приехал в родной город, и первый же человек, которого я увидел после тридцати лет отсутствия, читает мою книгу о родном городе! Было это точно свидание с родными. Тогда Максим Фаддеевич предложил: давайте в каждом месте, где мы будем останавливаться и где увидим человека с книгой, узнавать, что именно он читает. Это будет, пускай и эмпирический, но недурной способ проверки интересов массового читателя.
Осуществление этой проверки мы тут же поручили Мамиконяну, который ехал с нами.
Первая остановка на ночлег была, помню, в Староконстантинове. "Отель" там был тогда довольно своеобразный: двухэтажный, но лестницы на второй этаж не было — залезать надо было по деревянной, приставленной к окну. И комната на втором этаже была всего одна — на четыре койки, три из которых и отдали в наше распоряжение.
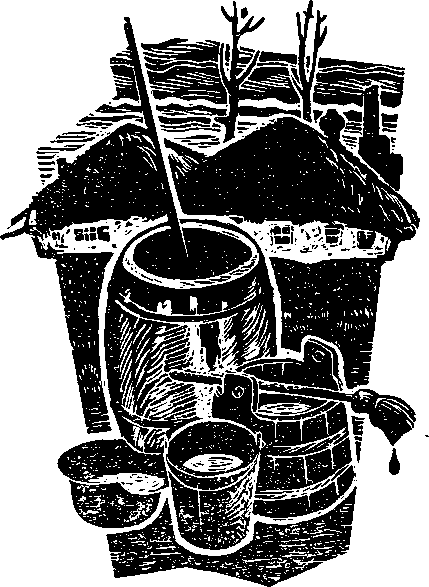
Когда мы взобрались в наше пристанище, четвертый квартирант был уже дома, сидел на кровати и читал книжку.
— Ура! — сказал Максим Фаддеевич. — Сразу имеем случай начать, Ваган Александрович, приступайте!
Мамиконян подошел к нашему сожителю, извинился и спросил, что он читает.
Он читал… Юрий Смолич — "Восемнадцатилетние".
— Здорово! — только и сказал Максим Фаддеевич. — Какое блестящее совпадение!
Потом нам пришлось ночевать в Умани, и снова первого человека с книжкой мы увидели в гостинице. И снова читатель склонился над моей книжкой.
Максим Фаддеевич был даже несколько шокирован. Не без оттенка ревности он сказал:
— Послушайте, вы рискуете заболеть манией величия. Не делайте из этого совпадения вывода, что, кроме вас, больше никого не читают: это повредит вашему здоровью.
Наша игра на этом прекратилась. Разумеется, не было никаких шансов, что такое произойдет и еще раз, но я почувствовал, что Максим Фаддеевич расстроился: возможно, он и в самом деле ревновал. Но когда в том же году осенью мне с женой случилось приехать в Одессу, и первый человек, которого я увидел с книжкой — портье в гостинице "Красная" — опять читал мою книгу "Они не прошли", и я рассказал об этом Максиму Фаддеевичу, Максим Фаддеевич заявил, что непременно в основу запева к моему сборнику рассказов о наших скитаниях он положит именно это стечение фактов. И очень Максим Фаддеевич смеялся, когда я рассказал, как тогда, в гостинице "Красная", не было ни одного свободного номера и никакой надежды дождаться его, как администратор дал милостивое согласие, однако без каких бы то ни было положительных гарантий, чтоб мы оставили в порядке живой очереди наши паспорта. И как, развернув их и увидев мою фамилию, он смутился, и… через десять минут мы с женой уже сидели в роскошном номере, который оказался свободным. Вывод был сделан такой: и литература на что-нибудь полезна. Максим Фаддеевич тут же иронически предложил:
— Знаете, это идея: когда собираешься куда-нибудь ехать, надо непременно предварительно посылать администратору гостиницы свою книгу.
А впрочем, нам вскоре пришлось убедиться, что "идея" эта дает повод не только для иронии, но и для огорчений.
Году, должно быть, в пятидесятом отдыхали мы — Рыльский с женой и я с женой — в Крыму, в санатории "Харакс". Вспомнив как-то при случае о том совпадении с моими книгами, Максим Фаддеевич решил еще раз произвести проверку вкусов массового читателя. Он зашел в библиотеку санатория и попросил дать ему какую-нибудь книжку Смолича с формуляром, на котором отмечается, кто и когда брал эту книгу для чтения. В библиотеке, однако, ни одной из моих книг не оказалось. Тогда Максим Фаддеевич попросил дать какую-нибудь из его книжек. Книжек Рыльского… тоже не было — ни одной. Отправившись купаться в бухточку под "Ласточкиным гнездом", где купались отдыхающие и из соседнего санатория, Максим Фаддеевич заглянул и туда. Но и в той библиотеке ни моих, ни его книжек не обнаружилось. Тогда, задетый за живое, Максим Фаддеевич стал спрашивать наши книжки везде, куда доводилось нам попадать, когда мы ездили по окрестностям.
И нигде — ни в библиотеках, ни в книжных лавках или киосках — мы не нашли ни одной книжки — ни Рыльского, ни Смолича.
— Да-а, помню, — грустно констатировал Максим Фаддеевич, — тоже… "совпадение". — И тут же добавил в свойственном ему ироническом тоне:
— Очевидно, популярность писателя следует проверять не по библиотекам и книжным лавкам, а… по первым встречным.
…Во второй половине сороковых годов для Рыльского, хотя и временно, наступила трудная пора. Началось, насколько помню, с борьбы против так называемой теории единого потока, которая, просачиваясь в литературоведение того периода, рассматривала украинскую литературу, как единое национальное целое, пренебрегая, по сути, постоянной борьбой между прогрессивными и реакционными в ней течениями. Подобные ошибки, — в конечном результате и в происхождении своем схожие с националистическими концепциями, — допустили и отдельные писатели в некоторых своих произведениях или высказываниях.
Да на беду, под флагом борьбы за идейную чистоту литературы, среди принципиальных литературных выступлений поползли и оговоры да поклепы от выслуживающихся критиканов. И вот под всегда беспроигрышной гарантией — борьбы с национализмом — пошла волна несправедливостей.
Под это колесо первыми — и в форме наичувствительнейшей — попали Рыльский, Яновский и Сенченко.
Поводом было не столько их творчество, сколько их "уязвимое" прошлое: Рыльский — бывший неоклассик, Яновский и Сенченко — ваплитовцы. К тому же в прошлом — в тридцатые годы — были критикованы как раз за ошибки формалистически-эстетского плана.
И пошла тогда несусветная бессмыслица! Высокопатриотические, глубокоидейные коммунистические стихотворения Максима Рыльского "Я — сын страны Советов" и "Слово о родной матери" были объявлены националистическими; роман Яновского "Живая вода" (позднее — "Мир"), который раскрывал силу духа советских людей, не лишенный в первой редакции отдельных недостатков, однако по сути своей безусловно патриотический, был заклеймен как националистический; обнаружена национальная ограниченность и в повести Сенченко "Его поколение" — не лучшей вещи этого талантливого прозаика, однако идейно отнюдь не порочной.
Надо напомнить, что элементы национальной ограниченности и идейных извращений найдены были даже в пьесе Корнейчука и Ванды Василевской "Богдан Хмельницкий". А затем объявлено националистическим даже стихотворение Сосюры "Любите Украину".
А тут еще — немного позже — появился и призрак "космополитизма". Ухватившись за партийную критику эстетских и формалистических срывов, те же выслуживающиеся критиканы совсем уже свалили все в одну кучу. Теперь уже одного критиковали за национализм, другого — за космополитизм, а третьего — и за национализм и за космополитизм сразу.
В этих моих воспоминаниях нет ни возможности, ни смысла подробно останавливаться на этих трудных процессах — пытливый читатель найдет их анализ и оценку в современных литературоведческих изданиях и в истории литературы, здесь речь — о Рыльском, и я возвращаюсь к нему, тем паче что случай с Рыльским, думается мне, дает справедливую оценку этим явлениям.
Вспоминаю одно из собраний.
Приглашен был весь писательский и вообще творческий актив — несколько сот человек, речь — о Рыльском, Яновском, Сенченко.
Мы с Рыльским вошли в зал вместе — чуть-чуть, на одну-две минуты припозднившись, так как докуривали папиросы в коридоре. Все уже заняли свои места ближе к президиуму, в первых рядах, и мы сели несколько позади — рядом. Яновский сидел ряда за два впереди — немного левее. Речь свою оратор адресовал в основном прямо Рыльскому или Яновскому.
Страшная то была речь. Относительно величаво-поэтического, гордо-патриотического слова "Я — син країни Рад" ставился вопрос: каких рад? Ведь была и Центральная рада!.. Точно такие же… — не подберу слова для характеристики — заушательские, что ли, комментарии давались и по поводу прозы Яновского. И, наконец, прямо в лицо Рыльскому было брошено: петлюровец!
Надо ли говорить, как чувствовали себя Рыльский, Яновский, Сенченко! Как воспринимали это все остальные писатели в зале?
Мы раздумывали, да и говорили тогда между собой: как могло это произойти, как можно было допустить такую несправедливость, как — в конце концов — можно было дойти до такой нелепости?
Ясно было одно: оратор, кидавшийся такими фразами, в своих представлениях об Украине и совершающихся там общественно-политических процессах застрял на том периоде (вторая половина двадцатых годов), когда шла еще борьба с вооруженным контрреволюционным врагом — петлюровщиной, когда и на идейном фронте происходили сложные процессы преодоления влияний разгромленной националистической идеологии. По-видимому, осведомленность его в области украинской литературы ограничивалась тем же периодом, застыв на уровне "рапповщины". Он не знал и не видел тех процессов, которые произошли в литературе за минувшие после того четверть века. И из этих своих "представлений", из этих "сведений" и делал теперь свои выводы.
Словом, товарищи, и среди них первый — Рыльский, были изничтожены. Поставлен крест на их творческой жизни.
Мы сидели с Максимом Фаддеевичем рядом — он молчал и смотрел себе под ноги. Только вынимал из кармана папиросу, разминал табак и снова прятал в карман: курить в зале было нельзя. Я смотрел на него сбоку — он был смертельно бледен.
Что делать дальше? Что будет завтра?
Рыльский вдруг встал и громко — перед всеми — заявил, что никогда ни в какой форме не имел ничего общего с какой бы то ни было формацией национализма.
Мы вышли вместе и грустно распрощались.
Но на следующее утро Максим Фаддеевич пришел ко мне. Он попросил рюмку водки и долго молча курил. Потом сел к моему столу и стал писать.
Сознаться? Без сантиментов? У меня мелькнула тогда страшная мысль: Максим Фаддеевич пишет прощальное письмо…
Он писал недолго и встал, чтобы пожать руку, попрощаться. Записанное осталось на столе.
То было стихотворение. Не знаю, только ли сейчас сложились строки этого стихотворения или, может быть, еще вчера, ночью, в минуты публичного, несправедливого грубого бичевания. Неважно. Вот это стихотворение — сделанная тогда рукой Максима запись сохранилась у меня и доныне:
Коли тривоги життьової
Тебе охопить вітер злий,—
По вінця сили трудової
У серце стомлене налий.
Нехай не виє самотина,
Як лютий пес за ворітьми:
Скажи крізь муку — я людина!
Скажи крізь горе — я з людьми!
А между тем писатель, на голову которого пали такие страшные обвинения в национализме, был одним из ярких певцов интернационализма и дружбы народов.
Вспомним любовь Рыльского к братским литературам, в первую очередь — к русской, и о том, как много сделал он для распространения этой любви среди украинских читателей, для расширения и укрепления реальных творческих связей между литературами и вообще культурами русской и украинской. Не забудем и его увлечения поэзией польской и его бесценный вклад в расширение и укрепление украинско-польских литературных связей. Вспомним его дружбу со многими еврейскими писателями и постоянное внимание к их творческой деятельности. Отметим его настойчивую, вдохновенную переводческую работу — с языков советских и не советских народов, а также и всю многогранную общественную деятельность по укреплению межнациональной дружбы народов. Все это — красочные мазки и четкие штрихи в портрете активного и страстного интернационалиста.
Конечно, придирчивый читатель этих моих записей может сказать: речь моя о Рыльском "высокопарна", чересчур хвалебна. Но, ей-богу, я не собираюсь рисовать Максима Фаддеевича каким-то безгрешным. Таким Максим не был — ему, как и каждому живому человеку, свойственны были и ошибки, и недостатки, и не слишком приятные черты характера. Но что они значат по сравнению с его делами, творческими и общественными, за которые Рыльский заслужил огромное уважение широчайших кругов почитателей и любовь людей, знавших его близко! Ведь им тоже известны были и эти ошибки, и эти недостатки, и эти отрицательные черты.
Я, впрочем, знаю людей, которые плохо относились к Максиму Фаддеевичу при его жизни, да и не таким уж добрым словом поминают его теперь. Правда, таких "непочитателей" единицы. Кое-кто из них вообще не знал Максима Фаддеевича, даже не был с ним знаком и свое отношение строил на сплетнях. Другие — из тех, что были знакомы с Рыльским, хотя и не слишком близко, — в основу своего отношения кладут конфликт, который по какому-либо поводу произошел у них с Максимом Фаддеевичем на поле творческом, а больше административном. Признаюсь: все это для меня не имеет значения.
Мы были друзьями с Максимом; но могу ли я сказать, что в наших взаимоотношениях всегда все было гладко?
Нет. Были и нелады. И может быть, именно в неладах особенно проявляли себя чудесные черты характера Максима Фаддеевича.
Вспоминаю, однажды на собрании — не припомню, по какому поводу было это собрание, происходило оно в конференц-зале Академии наук — в своем выступлении я критиковал Рыльского, кажется, за его работу с молодыми и назвал его либералом, а какой-то его поступок — беспринципным.
Когда я сошел с трибуны и вышел в комнату президиума, где у репродуктора Максим Фаддеевич слушал мое выступление, он, подойдя ко мне, с горечью и болью сказал:
— Обвинение в либерализме я принимаю: я действительно либерал, когда дело идет о чьих-то грехах. Но, обозвав меня беспринципным, вы фактически зачеркиваете все мое творчество всю общественную деятельность и нашу с вами дружбу: разве можно дружить с человеком, не имеющим принципов?
Сказав это, он отвернулся и пошел прочь.
И мне стало очень горько: неужто и в самом деле нашей дружбе конец?
Я поспешил за Максимом:
— Максим Фаддеевич, я имел в виду не вообще беспринципность, а то, что в данном случае вы поступили беспринципно…
Максим Фаддеевич шел, не останавливаясь, я говорил ему в затылок, и так же, не поворачиваясь ко мне, он только произнес:
— Слово "беспринципный" означает "без принципов", то есть, что принципов вообще нет.
И ушел. А я остался стоять прибитый: да были ли у меня, в самом деле, основания так резко упрекать Рыльскоро? Как исправить дело?
Несколько дней после того нам не довелось встречаться, я пытался дозвониться к Максиму Фаддеевичу по телефону, но он уехал в Голосеево, а там, на только что построенной даче, телефона еще не было.
Но вот мы встретились в Союзе на каком-то заседании. Максим Фаддеевич подошел поздороваться, протянул мне руку.
Я сказал:
— Максим Фаддеевич, я мучился все эти дни и тяжко казнил себя…
Он перебил:
— В таком контексте "мучиться" и "казнить себя" — тавтология. Литераторам следует избегать тавтологии, так же как и неточности в выражениях: вы должны были сказать тогда не "беспринципный", что было обидно и несправедливо, а: "в данном случае товарищ Рыльский поступил не принципиально" — и это была бы справедливая критика. Я тоже мучился эти дни, потому что в данном случае действительно поступил не принципиально. Закурим?
Мы закурили и больше к этому не возвращались: наши взаимоотношения остались такими же дружескими и сердечными.
Другой случай был такой.
Институт искусствознания, которым руководил Максим Фаддеевич, готовил издание "Истории украинского театра". Мне институт прислал макет на рецензию. Потом в Союзе, в конференц-зале, состоялось обсуждение: собрались писатели, научные работники, режиссеры, актеры, авторы подготовленного сборника и, разумеется, Максим Фаддеевич.
Я выступил со своими замечаниями — это был целый печатный лист — и резко критиковал главу, посвященную украинскому театру периода гражданской войны и двадцатых годов. Собственно говоря, я в своем выступлении перечеркивал эту главу.
Максим Фаддеевич слушал молча. В своем коротком заключительном слове сказал только, что просит товарища Смолича передать свои замечания в институт, чтоб можно было ими в случае надобности воспользоваться.
После конца совещания Максим Фаддеевич сказал мне гневно и резко:
— Друзья так не поступают. Вы не могли не помнить, что я — директор института и "История театра" создается под моим руководством. Вы должны были сперва дать ваши замечания мне, и, может быть, я бы потребовал от авторов переписать главу от начала до конца. А теперь вы поставили меня в дурацкое положение.
И он безусловно был прав. Я просил извинить меня, но Максим Фаддеевич ответил:
— Извините, но этого простить я не могу.
И ушел.
Но через день или два зазвонил телефон:
— Юрий Корнеевич, — донесся голос Максима Фаддеевича, — забудем нашу ссору! Конечно, лучше было б, если б вы сперва передали ваши замечания мне, но по Конституции каждый, даже и ближайший друг, имеет право на критику без предупреждения, а "история мидян есть один сплошной туман", как поется в известной вам оперетте "Иванов Павел". Что вы делаете сегодня вечером? Тогда предлагаю: сегодня премьера (не припомню уж, какая именно) в театре Франко, которая тоже имеет претензию напустить туману на историю мидян, и вы полностью искупите свою вину, если потом, где-нибудь в уютном уголке, поставите нам по сто граммов.
Он был незлобив и незлопамятен, Максим Фаддеевич.
А "история мидян" в том варианте напечатана не была.
Максим Фаддеевич мне особенно дорог тем, что был он для меня из того — не слишком обширного — круга товарищей, с которыми говорилось "все обо всем", то есть откровенно и до конца о самых острых" интимных или "не принятых" для обсуждения делах. Это большое счастье — иметь человека" с которым ты можешь говорить "до конца".
Беседы с Максимом Фаддеевичем! Они были так разнообразны и так богаты. Он умел шутить и дурачиться, мог увлечься творческим спором, проявляя при этом редкостную эрудицию, умел сосредоточить свое внимание на горьком, болезненном и трагическом. Я уверен, что с каждым из друзей Максим Фаддеевич в своих беседах был иным: характер, мировоззрение и интересы собеседника сразу же встречали в нем соответствующий отклик. Он бывал разным и даже неожиданным.
В этом проявлялись многогранность его характера, богатство его натуры.
И вот, записывая сейчас свои воспоминания о Максиме Фаддеевиче, я не могу избавиться от ощущения какой-то "незаконченности", собственно — невозможности закончить и поставить точку. Это — странное чувство, и точно охарактеризовать его я не сумею: мне кажется, что Максим Фаддеевич жив, что он где-то рядом, только мы с ним давненько не виделись, — завтра я поеду в Голосеево, в его дом на Советской, 7, мы снова сядем под вербой в саду или у стола в кабинете и наша беседа — обо всем — польется дальше и дальше…
Но Голосеево теперь не Голосеево, а парк имени Максима Рыльского; Советская улица уже не Советская, а улица Максима Рыльского; только дом остался таким же, как был, однако теперь это не просто дом, а музей Максима Рыльского.
Назад: Двадцать лет спустя
Дальше: Паустовский

