Книга: Рассказ о непокое (Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни (минувших лет))
Назад: Десять лет спустя
Дальше: Яновский
Курбкас
Лесь Курбас.
Когда я еще кончал гимназию — в семнадцатом, восемнадцатом году — портрет Леся Курбаса висел на коврике над моим ложем. Ложе было "спартанское": без матраса или тюфяка, на голых досках — рядно, простыня и тонкое одеяло. Я тогда как раз закалял тело и дух: утренняя гимнастика по модной тогда "системе Мюллера", все возможные в те времена виды спорта, чтение книг по вперед намеченной программе, а также непризнание никаких общепризнанных авторитетов и преклонение перед авторитетами, которые сам для себя создал. Портрет Курбаса на коврике и должен был свидетельствовать о признании авторитетности этой личности для меня на семнадцатом и восемнадцатом году моей жизни.
Правда, на коврике над моей кроватью Курбас был не одинок: там расположилась тогда целая галерея портретов, вырезанных из журналов и газет, — моя личная галерея деятелей украинской культуры. В шестом и седьмом классах гимназии — еще до революции, а тем паче после революции в восьмом, собственно, как раз и начиналось мое гражданское самосознание и самоутверждение. "Украинство" тогда волновало и тревожило меня превыше всего.
В те годы, до революции, термин этот был всем понятен и употребление его имело определенный смысл. Понятием "украинство" в дореволюционных условиях запрета и преследования всего украинского определялись и известная смелость признания себя украинцем, и проявление активной заинтересованности в развитии украинского культурного процесса, и, в конце концов, публичное, так сказать, провозглашение своего украинского патриотизма.
Так вот: национальное сознание — признание себя украинцем — и активная заинтересованность в украинской культурной жизни тогда уже проснулись во мне, и одним из внешних проявлений и была эта "галерея деятелей украинства" над моей кроватью. Разумеется, как безусловно "внеклассово" самое понятие "украинства", так "внеклассовой" была и моя галерея украинских деятелей. Принцип подбора был… беспринципный: что попадало под руку, лишь бы — украинское. Всех портретов той галереи теперь уж не припомню, но соседствовали там "отец" украинской кооперации Левицкий и корифей украинской сцены Микола Садовский, писатель Иван Франко и композитор Микола Лысенко, садовод Семиренко и драматург Карпенко-Карый, врач — пропагандист украинской народной медицины (фамилии не припомню) и поэт Олесь, художник Пимоненко и писатель Черкасенко; писателей вообще было больше всего — их портреты чаще других попадались в журналах и газетах (галицийских), и в подборе представителей литературы того времени в моей галерее господствовал тоже подход "внеклассовый": Борис Гринченко и Леся Украинка, Михайло Коцюбинский и Владимир Винниченко, Юрий Федькович и, кажется, Виталий Товстонос… Словом, где только ни попадался мне в газете или журнале портрет украинского писателя, художника или общественного деятеля, я немедленно его вырезал, наклеивал на небольшое самодельное паспарту и вешал на коврик над кроватью. Так попал в мою коллекцию и портрет Курбаса.
Был это портрет (фото) джентльмена безусловно самого молодого во всем ряду уважаемых мною особ, привлекательной внешности да еще красиво одетого: элегантный пиджак, отложной воротник модной сорочки "апаш", широкий "английский" пояс с кармашками-портмоне и фетровая шляпа, молодецки сбитая на затылок. Истый европеец!
Но привлекал меня этот портрет вовсе не потому, что я питал какое-нибудь особое пристрастие к "пижонам", — нет, ничуть, как раз наоборот: к пижонству в любом виде я и в ту пору относился весьма неодобрительно, отдавая предпочтение некоторой небрежности и туалете и грубоватости манер.
Как раз Курбас и не был случайностью в той моей галерее деятелей "украинства". И пришелся он мне по душе тем, что возглавлял новейшее течение в тогдашнем украинском театре, а позднее — основал украинский "Молодой Театр".
Сам я в "Молодом Театре" ни разу не был и спектаклей его не видел, а между тем считал себя его страстным поклонником. Не потому, что чувствовал какое-то особое призвание к сценическому искусству. Нет, такого особого призвания я не имел, хотя еще со средних классов гимназии охотно и часто выступал — и право же не без успеха! — в любительских спектаклях. В ту пору я мечтал стать моряком дальнего плавания или, на худой конец, горным инженером. В театр я попал значительно позже и при специфических обстоятельствах — об этом речь будет особо, да и вспоминал я уже об этом в моей давней книге "Театр неизвестного актера".
Нет, "Молодому Театру" я поклонялся потому, что был он для меня известным символом и, если хотите, знаменем.
А я — тогдашний украинский "без пяти минут интеллигент" (вот-вот получу среднее образование!) — как раз этим и грезил: "украинство" должно выйти за узкие этнографически-национальные — специфически деревенской периферии — границы, и украинская культура должна стать вровень со всеми остальными мировыми культурами!
Подобные мечты в то время — полвека назад, на переломе эпох, да и позднее — в пору революционных бурь и взлета — были мечтами прогрессивными.
Ведь "Молодой Театр" провозгласил "революцию в театре", шел войной против национальной ограниченности — против бытовизма и "малороссийского" этнографизма на сцене и ратовал за приобщение украинского искусства к мировой культуре.
Потому-то и Курбас в ту пору был для меня символом прогрессивного развития украинской культуры и прообразом нового украинского интеллигента.
Лозунги "выхода на мировую арену" — в сочетании с идеями "украинства" — меня, гимназиста, в то время весьма волновали. И когда годом-двумя позднее обстоятельства совершенно неожиданно привели меня самого на путь профессионального театра и я стал актером, я начал тогда в свою очередь с попыток вытащить украинское искусство на мировую арену. Дело было еще во фронтовом красноармейском театре, а затем в театре только что организованного Наробраза, товарищем и метром моим в "театральной революции" был Кость Кошевский. Это стремление вывести украинский театр на мировую арену и втянуло меня в круг служителей Мельпомены и привело с провинциальных театральных подмостков на сцену большого — сперва в Виннице, затем на Донбассе, а позже и в тогдашней столице Харькове — самого крупного в то время украинского "европейского" театра — театра имени Ивана Франко.
"Европеизация!" Сейчас об этом смешно и вспоминать. Но еще смешнее мне становится, когда вспомню, как немного погодя — только я огляделся в этом столичном, "академическом" театре, — я сразу же стал участником драки на театральном фронте. В России театральный фронт проходил в то время между Пролеткультом, Евреиновым и Мейерхольдом; у нас на Украине — между театром имени Франко и МОВ (Мистецьке об’єднання "Березіль"), только что созданным, то есть между Гнатом Юрою и Лесем Курбасом. И двинулся я на театральный фронт с позиций, направленных как раз… против этой "европеизации". И повел войну сразу на два фронта — и против Юры и против Курбаса.
Как видите, мой юношеский кумир — Лесь Курбас — был к тому времени мной же самим "повержен". Тут необходимы хотя бы краткие пояснения.
Почему, будучи самым горячим сторонником "европеизации" украинского театра, я вдруг выступил против нее?
Потому что к тому времени я понял — и осознать это мне помог Василь Блакитный, — что лозунг "европеизации" не является лишь призывом к расширению поэтики и усовершенствованию в области сценической формы и актерского мастерства, а — хочешь ты того или не хочешь — это лозунг идеологический, лозунг политический. Откликом на такой призыв непременно будет перенесение на украинскую почву полного комплекса всего — и по форме и по содержанию — театрального процесса буржуазного Запада. А ведь мы ищем новую форму и новое содержание для театра пролетарской революции, победившей в нашей, стране. Следовательно, лозунг "европеизации" есть лозунг реакционный и его следует отбросить, какое бы там содержание нам ни хотелось в нем видеть.
Ярчайшим и убедительнейшим примером этого может служить драматургия самого крупного в то время украинского писателя Владимира Винниченко — заядлого "европеизатора" и, собственно говоря, родоначальника самой идеи "европеизации" на украинской почве. В те годы (начало двадцатых) произведения Винниченко, несмотря на то что сам он жил за границей, в эмиграции, довольно широко распространялись на Украине. Но, доказывал Блакитный, как бы мастерски — на уровне современного европейского театра — ни строил Винниченко свои пьесы, а все равно остаются они образцами старого театра, театра "верхних десяти тысяч", все равно прививают зрителю мещанские вкусы, воспитывают обывательский взгляд на жизнь, а революцию по большей части лишь порочат. Таким образом, мы имеем дело с обуржуазенным украинским театром, пронизанным специфическим винниченковским "психоложеством".
Все это я излагаю здесь лишь примерно, совершенно схематически, но именно с таких позиций выступал я тогда в своих статьях, "удары" свои прямо или непрямо направляя против лидеров тогдашнего театрального процесса на Украине — Курбаса и Юры.
Юре, то есть собственно театру имени Франко, где я тогда (начало двадцатых годов) еще работал, но который вскоре покинул, я в основном ставил в укор не соответствующий эпохе репертуар: там, с одной стороны, царила псевдоромантика Жулавского, Пачовского и прочих в этом же роде, а с другой — это самое "психоложество" многочисленных винниченковских пьес.
Курбас, а позднее и все Художественное объединение "Березіль", идеологом которого он был, не устраивали меня потому, что, как я тогда считал, Курбас и его плеяда вели свои поиски лишь в области формы, художественного "приема", отрывая их от содержания художественного произведения. Особенно возмущало меня, что деструктивную часть своих творческих исканий Курбас иной раз осуществлял при помощи приемов цирковых: клоунада в драме, разные там кульбиты, трапеции, турники да еще предохранительная сетка над сценой.
С Курбасом, таким образом, у меня было "покончено", стал он "поверженным кумиром", и произошло это еще тогда, когда ни самого Курбаса, ни спектаклей его театра я не видел.
Впервые я увидел Курбаса позже, году в двадцать четвертом, когда работал уже не в театре, а в Нарком-просе, в отделе искусств; Курбас с Бучмой приехали из Киева, где находился тогда "Березіль", в столицу Харьков — добиваться в Главреперткоме разрешения на какой-то спектакль. Вот не припомню только, что это был за спектакль. Беседа происходила в кабинете Христового, заведующего отделом искусств, моего начальника.
Они вошли вдвоем — Курбас и Бучма — в желтых кожаных куртках. "Березіль" зародился при Сорок пятой дивизии еще во фронтовые времена, дивизия и до сих пор шефствовала над театром, и это отражалось на — экипировке актеров.
Не помню уже сейчас той беседы в кабинете Христового, осталось лишь впечатление от независимой позиции Курбаса и Бучмы: спектакль мы сделали так, как представляем себе современное осмысление пьесы, поправок и изменений вносить не будем; если мы вас не убедили, то запрещайте спектакль и все: будем делать очередной. Христовый решил поехать в Киев, посмотреть спектакль и после того определить его судьбу.
Я участия в беседе не принимал, потому что спектакля не видел да и субординация не позволяла. Я сидел молча, готовый, однако, к выпаду со стороны Курбаса — за мои резкие выступления против него. Но беседа кончена, Курбас с Бучмой ушли, не сказав мне ни слова.
В тот вечер я случайно ужинал в летнем ресторанчике, открывшемся в тот год на Театральной площади в садике у кирхи. Ужинал не один, а с русскими драматическими актерами Юреневой и Максимовым. Максимов был широко известен тогда и даже знаменит по кинофильмам; в дореволюционных картинах фирмы Ханжонкова, в паре со звездами киноэкрана той поры Лысенко и Холодной, неизменно выступали Мозжухин либо Максимов. Юренева была из прославленной плеяды русских драматических актрис на Украине (Полевицкая, Жвирблис, Юренева), особенный успех имела в киевском театре Соловцова в роли Лауренсии в пьесе Лопе де Вега "Овечий источник" ("Фуэнте Овехуна"). Но годы шли, молодость осталась позади, и драматическая инженю и героиня по амплуа подумывала о том, чтобы оставить театр. А Максимов вообще оказался на мели: советская кинематография еще не поднялась на ноги, а в драматическом театре, где Максимов когда-то начинал, он уже не мог найти себе места. Вот и ездили они в том году вдвоем, гастролируя в провинции, — с водевилями, драматическими этюдами, декламацией и популярной тогда мелодекламацией.
Я как инспектор театров и член Главреперткома должен был просмотреть их новую программу скетчей и исценировок и дать или не дать на нее разрешение.
Но не для "магарыча" пригласили меня тогда Юренева с Максимовым. Разговор был серьезный: прославленные актеры русской сцены раздумывали — не перейти ли им на сцену украинскую?
В те годы (в начале двадцатых) это не был экстраординарный случай. Вслед за русским актером и режиссером Загаровым, который первым из русских театральных деятелей перешел на украинскую сцену и стал одним из организаторов послеоктябрьского украинского театра, — двинулось с русской сцены на украинскую немало выдающихся актеров: Мещерская — в театр им. Шевченко в Киеве, Петипа — в театр им. Франко, Новинская — в театр музыкальной комедии в Харькове. Перешли и режиссеры: Глаголин — в театр им. Франко, Клещеев — в театр им, Шевченко в Полтаве, Инкижинов — в "Березіль". Не буду сейчас останавливаться на толковании этого явления и излагать его причины — это надо делать особо, в специальном театроведческом исследовании.
Так вот, сидели мы с Юреневой и Максимовым и обсуждали перспективы такого перехода и его целесообразность.
Как раз в это время в ресторанчик вошли Курбас и Бучма, поздоровались с нами и сели за столик неподалеку.
Помню, как я тогда растерялся. Весь апломб, с которым я до того беседовал с Юреневой и Максимовым, мигом пропал, и я отчаянно смутился: что греха таить, моя заочная критика "Березіля" была совершенно абстрактна — демагогическое теоретизирование. Издалека все это высказываешь без зазрения совести, но когда объект твоей атаки вдруг оказывается рядом — сразу лишаешься уверенности в том, что ты прав. Я так растерялся, что в дальнейшем разговоре с моими собеседниками стал мямлить и заикаться, и даже не припомню теперь, чем же он тогда кончился и по моему ли совету начал Максимов выступать в украинском репертуаре. С ужином наконец покончено. Юренева с Максимовым попрощались и направились к выходу. Поплелся за ними и я.
Но когда я проходил мимо столика Курбаса и Бучмы — столики стояли тесно, и приходилось протискиваться, — Курбас вдруг задержал меня за рукав. Сердце у меня упало: сейчас начнется… Что начнется? Не знаю — ругань, драка или что-нибудь еще, во всяком случае какое-то позорище…
— Товарищ, — услышал я голос Курбаса, — присаживайтесь к нам…
Я сел. Сел в полной растерянности, готовый ко всему и не зная — к чему именно. Сел и молчу, а Курбас придвинул ко мне фужер и налил белого вина.
— Читали вашу статью, — сказал Курбас и чокнулся своим фужером с моим…
Вот око! Которую же из моих статей против Курбаса имел он в виду?
— Здорово это у вас! Молодчина! — Курбас еще раз чокнулся и глотнул вина. — Так им и надо!..
Курбас, оказывается, имел в виду не статьи о нем и "Березіле". Он говорил о только вчера опубликованной моей рецензии на гастроли известного русского актера Блюменталь-Тамарина; он играл в пьесе Тренева "Любовь Яровая" матроса Швандю. Театральная пресса — по всех городах, где Блюменталь выступал в роли Шванди, — пела ему дифирамбы. И вот где-то в Харькове, в газете "Вісті", объявился рецензент, какой-то там Смолич, который в своей рецензии проводил мысль, что это позор, когда такой известный и прославленный актер разрешает себе халтурить, а его трактовку роли матроса революции квалифицировал как издевательство над героями боев за Октябрь, как барское высмеивание мужичка, хулу на самую идею революции — гадкий и злобный шарж. Так заканчивал свою рецензинку неизвестный рецензентик Смолич.
И вот оказывается, что Курбас и Бучма целиком разделяли мои мысли относительно трактовки роли Шва гіди "барином" Блюменталем в угоду нэпману и возрождающемуся в условиях нэпа мещанину-обывателю.
И Курбас снова поднял свой бокал и коснулся моего"
— Вы хорошо чувствуете театр, и вы разбираетесь в театре, — сказал он при этом, и я покраснел, как девушка на заручинах, от этой неожиданной похвалы, — жаль только… — тут же добавил Курбас и умолк.
А я из красного стал, должно быть, белым: ну, ясно, он-таки имел в виду мои статьи…
— Видите ли… — начал я, сообразив, что уместнее будет как-то самому объясниться, но тоже умолк, совершенно не зная, что же мне сказать в свое оправдание.
И тут вдруг меня осенило: а почему, собственно, я должен оправдываться? И какого черта я покраснел, вообще перепугался насмерть? А что, если я так думаю? Разве в искусстве нельзя иметь свое мнение и отстаивать его? Да, да — именно отстаивать свое мнение, а вовсе не оправдываться. И я сразу ощетинился.
— У меня совершенно другие взгляды на театр, не такие, как у вас, — заявил я запальчиво и даже дерзко. — И я отрицаю вашу систему! Это… пролеткультовская машинизация людей, ваш стилизованный человек-масса — символ вместо конкретного живого человека, это…
Но Курбас не услышал всех этих моих слов, он услышал лишь начало и повторил его:
— Отрицаете мою систему?.. А какую вы отстаиваете?
Я осекся. Какую систему отстаиваю? Вот в том-то и беда, что я не знал, какую систему мне отстаивать, которая из них наиболее "эквивалентна" эпохе, как любили мы, гартовцы, под влиянием Коряка тогда говорить.
— Ну, видите ли, — нашел я наконец, как вывернуться, — я ведь не режиссер, а публицист, я оставляю за собой право критиковать, не… не… не имея…
— Не имея за душой своей собственной конструктивной концепции, — жестко прервал меня Курбас, — не зная, что утверждать, ведь отрицать каждый может…
Я хотел уже обидеться, хотя в душе был совершенно согласен со словами Курбаса, да тут вмешался Бучма.
— Ребята, — мягко сказал он, — не ссорьтесь и не грызитесь, вот я откупорю сейчас вторую бутылку! Все дело в том, что товарищ Смолич, живя в Харькове, не имел возможности присмотреться к нашему театру, и у него, должно быть, сложилось неверное представление о твоей системе, Лесь!.. — Разливая вино, он обратился ко мне, обратился уже на "ты": — Ты какие видел у нас спектакли?
От Бучминого неожиданного при первых же словах "ты" на меня дохнуло уютом и товарищеской теплотой: пускай мы ссоримся, но ведь я среди своих! Но другое сковало меня вдруг, как железной цепью: ведь я говорил с чужих слов, "брал взаймы" свои отрицания из других рецензий и статей…
Спас меня сам Курбас. Не ожидая моего ответа, он сказал:
— Да я, собственно, и не собирался поднимать эту тему. Ведь я о другом — в связи с этим чертовым "русским барином" Блюменталем. Я хотел сказать товарищу Смоличу…
И тут Курбас вдруг разразился целой тирадой против провинциального театра сложившихся еще в дореволюционное время, "намертво" зафиксированных сценических форм и принципов, которые соответствовали духовному застою общественной мысли в Российской империи тех лет.
Я, разумеется, не могу припомнить дословно содержание нашего разговора и, в частности, высказывания Курбаса, но в основном этот наш первый с ним разговор сутью своей запечатлелся в моем сознании надолго, даже доныне. Во всяком случае смысл был таков: Курбас поносил традиционный украинский этнографический театр и в то же время отрицал анахроническую в наше (тогдашнее) время практику стоящего на месте и застывшего в своих методах старого русского, так называемого "психологического", театра, при этом пылко поддерживая его разрушителей Мейерхольда, Маяковского, даже Евреинова.
И хорошо помню, как Курбас вдруг прервал свою тираду неожиданным вопросом:
— А зачем, собственно, вы встречались с Максимовым и Юреневой? Не нацеливаются ли они перебежать в украинский театр?
Я подтвердил. И это стало поводом для новой пылкой тирады.
— Вы поймите, — бушевал он, — что все эти Петипа и Максимовы тащат на сцену юного-преюного театра старые обычаи и нормы скомпрометированного бесперспективного провинциального мещанского театра! А ведь нам же надо строить новый, революционный театр! И, может быть, это счастье, что строим мы его почти на пустом месте и с почти неграмотными новичками-актерами — нетронутыми и неиспорченными еще.
Эта тирада запомнилась мне чуть не дословно. И я записываю ее, потому что, собственно, на том мы и сошлись, и с тех нор началось, по существу, наше с Курбасом взаимопонимание и в более широких вопросах строительства театра.
Но пришло оно, это взаимопонимание, не так скоро, постепенно, шаг за шагом, иной раз с болью и несогласиями.
Между прочим, может показаться странным, что в своих литературных воспоминаниях я говорю о Лесе Курбасе — не литераторе, а театральном деятеле.
Но странного в этом ничего нет. Курбас был выдающимся деятелем в области культуры, роль его в становлении украинского театра революции огромна. А если охватить взглядом исторический период, когда Курбас действовал, — преддверие Октябрьской революции, годы гражданской войны и напряженная пора первых лет мирного восстановления и подхода к строительству социалистическому, — он действовал как первый и самый первый разрушитель старого, дореволюционного, традиционного мелкобуржуазного театра, как первый, и самый первый, пускай иной раз удачно, а иной нет, открыватель новых форм для театра революции; если охватить все это взглядом, значение его творческой деятельности на всех участках культурного процесса, несмотря на все его ошибки и промахи, трудно переоценить.
Так что и в литературной жизни того времени — двадцатые и тридцатые годы — фигура Курбаса абсолютно органична. Без Курбаса сколько-нибудь серьезное рассмотрение тогдашних литературных процессов будет ущербным, неполнокровным. И не только потому, что в художественной жизни той поры Курбас постоянно был в писательском кругу, дружил со многими литераторами и жил их интересами; а еще и потому, что немалую роль играла деятельность Курбаса не только в драматургии, но и во всех других литературных жанрах: Курбас, его творческий интеллект, его взгляды на театр и литературу влияли на литературное окружение, а значит, и на литературный процесс так же, как литературный процесс и литераторское окружение влияли на Курбаса, на его искания и восприятие. Эти взаимовлияния в те времена были очень заметны и плодотворны.
Не удивительно, что не раз руководители литературных организаций ставили вопрос о вступлении к ним Курбаса: ставил Блакитный о вступлении Курбаса в "Гарт", ставил Семенко — о вхождении в "Коммункульт", ставил Кулиш — о вступлении в "Вапліте". А наша "Группа А" настойчиво уговаривала Курбаса войти в лоно этой техно-художественной организации, и, собственно, об этом мы с Лесем Степановичем уже договорились.
Шутя, Лесь Степанович сказал тогда (припоминаю при этом разговоре Йогансена, Слисаренко и Ковалева): ну, ладно, только смотрите, как бы "Группа Б" (он имел в виду "Березіль") вас не поглотила…
Что же такое было МОБ (Мистецьке об’єднання "Березіль") — второе после "Молодого Театра" творение Леся Курбаса?
На этот вопрос хочется ответить хотя бы вкратце, ибо сколько-нибудь удовлетворительной информации любознательный читатель не найдет ни в "Истории украинского театра", изданной Академией наук, ни в справочниках по искусству или каких-либо других изданиях, ни тем паче в учебниках по театроведению.
Я попробую ответить коротко — чтоб удовлетворить, как умею, элементарное и законное любопытство современного читателя, потому что более распространенный ответ может быть лишь результатом специальной исследовательской работы. Думаю, впрочем, что мой краткий ответ будет более или менее исчерпывающим, потому что отдел искусств Наркомпроса, где я работал инспектором театров, в те годы проводил линию против Курбаса. Так что силы противника и его диспозиция мне должны были быть хорошо известны.

Художественное объединение "Березіль" просуществовало всего около пяти лет — с момента создания в двадцать втором году под эгидой 45-й дивизии. В двадцать четвертом году из МОБа оставлен был лишь самый театр "Березіль", а все остальные звенья объединения перешли частично в культотдел профсоюзов, где они постепенно и захирели, частично в отдел искусств Главполитпросвета, где их ничтоже сумняшеся просто ликвидировали очередным приказом по НКП.
Что же такое все-таки был МОБ?
Это были три актерские "производственные" мастерские, ставившие спектакли, экспериментировавшие, проводившие учебу и тренаж: Первая, Вторая и Четвертая — преимущественно из молодежи. Третья и Пятая мастерские в Белой Церкви и Борисполе работали над созданием образца передвижного театрального коллектива для деревни, наиболее совершенных портативных форм и принципов осуществления спектакля — любой пьесы, а не только специальных "для села" малых постановок. Шестой была методологическая "станция", подчинявшаяся "режиссерскому штабу" МОБ, институции наиболее значительной в объединении, — душой ее был Курбас. Кроме того, МОБ издавал журнал "Баррикады театра"; печатал подобно театральному "Г. А. Р. Ту" сценки и инсценировки для политагитационной работы, а также организовал первый на Украине театральный музей, позднее переданный Академии наук, который — единственное, должно быть, из березильских начинаний — существует и до сих пор.
Как видим, МОБ — это была довольно-таки солидная, широко разветвленная организация с изрядным "аппаратом". Отличался этот "аппарат" от аналогичного в Главполитпросвете НКП аппарата отдела искусств тем, что был это "аппарат" творческий, состоящий из деятелей творческого, а не служебного профиля. И работал он не по обязанности, а по призванию: субсидию МОБ получал минимальную, только на осуществление спектаклей, и почти весь состоящий из молодежи творческий "аппарат" работал исключительно по доброй воле, как мы теперь говорим, на общественных началах, без оплаты труда и на голодном пайке.
Что оставил после своего пятилетнего существования МОБ?
Прежде всего воспитанную им плеяду актеров — наиболее выдающуюся в течение ряда десятилетий группу мастеров сцены: Бучма, Крушельницкий, Гаккебуш, Чистякова, Ужвий, Марьяненко, Сердюк, Нещадименко, Антонович и много других. Во-вторых, плеяду режиссеров МОБ воспитал более многочисленную и несравненно более талантливую, чем все остальные вместе взятые украинские театры за годы революции: Лопатинский, Василько, Бондарчук, Кудрицкий, Тягно, Игнатович, Долина, Бортник. Из "Березіля" вышли и более молодые — Балабан, Дубовик, Скляренко, Верхацкий. Режиссерская "закваска" Бучмы, Крушельницкого — тоже березильского корня. И, в-третьих, — так называемую "систему Курбаса": систему актерской трактовки образа, раскрытия и воплощения его на сцене перед зрителем: систему работы актера над собой и овладения актерским мастерством; систему режиссерского аналитического препарирования драматургического материала и соответствующего претворения его в синтетическое действо.
"Система Курбаса" захватила в те годы самые широкие круги театральной молодежи, молниеносно распространилась, даже стала художественной модой и, породив множество эпигонов и профанаторов, вскоре себя скомпрометировала. Но среди наиболее талантливого актива, который воспринял эту систему и овладел ею, она способствовала подлинному подъему творческих возможностей многих актеров и режиссеров, вывела их на высоты художественного мастерства. II хотя в дальнейшем "система Курбаса" была предана забвению, потеряла свою стройность, она не лишилась своей художественной силы, сохранившись в личном творческом арсенале таких выдающихся актеров украинского театра, какими были Бучма, Крушельницкий, Гаккебуш, Чистякова, Марьяненко, Назарчук, Антонович и Сердюк.
Во всяком случае "система Курбаса" еще ждет своего исследователя, достойна пристального внимания, и, думаю, кое-что из нее стоило бы позаимствовать и нынешней науке актерского и режиссерского мастерства. Тем более что никто из деятелей украинского театра за эти полстолетия не удосужился хоть как-нибудь подытожить свою деятельность в области режиссуры или актерского исполнения, а в теорию сценической науки ни один современный украинский режиссер не березильского происхождения не вписал ни одного слова — даже ошибочного.
Я не берусь, впрочем, на страницах этих воспоминаний подробно излагать "систему Курбаса", — всего лучше было б это сделать кому-нибудь из его учеников, актеров или режиссеров, и вообще специалистов сценического искусства, но хотел бы объяснить хотя бы ее сущность.
Ее сущность — в раскрытии идеи спектакля всеми средствами сценического выявления и в синтезе всех элементов сценического действа (пьеса, актер, ансамбль, художник, композитор): спектакль — симфония! И от актера, и от режиссера Курбас категорически и в первую очередь требовал точной фиксации найденной азбуки для разговора со зрителем — с целью максимального взаимопонимания. Курбас всегда считал главным идею — идею произведения, идею художественного замысла, социальную весомость содержания, но настойчиво требовал поисков самой точной и самой совершенной формы, наиболее полно раскрывающей идею пьесы. Искусство может быть только совершенным, совершеннейшим, наивысшего качества — иначе оно не искусство. Отсюда и значение формы, то есть способа воздействия на зрителя в искусстве театра. Только высокое искусство имеет право претендовать на значимость своей функции в социальной жизни. Отсюда — беспощадная борьба с упрощенчеством, вульгаризацией, штампом.
Была в те времена такая, весьма распространенная, категория театральных режиссеров, которых именовали "режиссер-копиист". Такой режиссер — чаще всего из провинции — смотрел какой-нибудь спектакль в большом столичном театре, а потом, по возможности точно, повторял его в своем театрике. Такие копии были иной раз совсем не плохи, даже просто хороши, но они не были творческим актом, эти спектакли, то была автоматика, механика, штамп.
Подобное формальное распространение "системы Курбаса" — и не по вине Курбаса, и не из-за порочности самой системы — ее и скомпрометировало. Искусство, которое становится "модным", немедленно гибнет. Впрочем, такова судьба всякой моды.
В искусстве нет ничего страшнее эпигонства. Копия, даже блестящая, даже с самого совершенного художественного произведения, остается лишь копией, как бы превосходно она ни была выполнена: копирование в арсенал искусства никогда не входит (это лишь ремесло) — оно его противоположность.
Так случилось и с пресловутой системой Курбаса.
Вспомним, как это было.
Сразу за "взлетом" Курбаса, то есть вслед за успехом спектаклей "Березіля", в театральной провинции, ясное дело, "системой Курбаса" стали клясться и божиться. "Систему" пытались перенять все: талантливые режиссеры и актеры действительно овладевали ею — лучше или хуже; бездарности и ремесленники овладеть ею не были способны, да и не пытались этого сделать, а хватали лишь ее "вершки" — то, что лежало на поверхности, только внешние, технические, формальные приметы. Поэтому спектакли у них получались черствые, холодные, бездушные.
А тут как раз подоспело и "развенчание" Курбаса — его объявили врагом (как мы теперь знаем, безосновательно и несправедливо), И заодно с общественным, политическим осуждением Курбаса объявлялось крамолой и его художественное кредо, а вместе с ним вообще все, что он делал и сделал в театре.
Так пошло прахом абсолютно все, что сделал Курбас и чего он достиг, все то денное, что было в "системе Курбаса", и все, что было еще не доработано, не завершено, самим Курбасом не закончено, находилось, так сказать, в творческом процессе. Ведь сам Курбас никогда не канонизировал своих достижений и не раз отказывался от того, что нашел, осуждал и отрицал то, что недавно сам провозглашал и утверждал. Так отверг он когда-то старый театр этнографизма и кинулся в творческие поиски с коллективом "Молодого Театра". Так — годом-двумя позднее — он осудил и отверг принципы, которые положил в основу "Молодого Театра", и выступил с декларацией МОБа, а эпигоны "Молодого Театра" так и застыли на месте, посчитав тот этап за наивысшее, конечное достижение. Разве в искусстве может быть "конечное"?
Курбас в каждой постановке находил что-то для себя новое, выдвигал его взамен только что утвержденному в спектакле предыдущем. Европеизация — деструкция — экспрессионизм — поиски динамического реализма — декларировал из года в год Курбас. Боже мой, даже такой самобытный талант, как Курбас, не мог избежать всех этих тогдашних "измов"! Но был Курбас постоянно в движении, сам — движение, сам — в неустанной смене: типичный искатель, охотник, новатор. Не из тех новаторов, что намечают себе цель, уверенно шагают прямо к ней и, наконец достигнув, победоносно ее утверждают. Он был из тех, кто никогда не удовлетворяется достигнутым, принимая его только как один шаг, только как ступеньку для новых и новых завоеваний, В искусстве поиск не может прекратиться, — так говорил Курбас, так он и действовал. Если в искусстве прекратить поиски, если художественное творчество остановить на миг, оно гибнет, перестает быть искусством, превращаясь, в лучшем случае, лишь в памятку об определенном этапе в художественном процессе.
К сожалению, в силу обстоятельств того времени — когда все ошибочное и неверное, а то и просто не сразу понятое, тут же объявлялось враждебным, — все, чего достиг Курбас, что именовалось "системой Курбаса", было прочно вычеркнуто из театральной теории и практики последующих лет.
Период существования МОБа — второй киевский период творческой жизни Курбаса — отмечен в истории украинского театра бурной творческой деятельностью. Между тем в "Историю украинского театра", изданную Академией наук УССР, этот период, собственно, не вписан.
Переезд в двадцать шестом году "Березіля" в Харьков был и желанным и… не желанным. Во всяком случае добиться его было нелегко.
Театр "Березіль" был в те годы самым сильным, оригинальным и творчески перспективным театром, и совершенно понятно, что именно этот театр и должен был стать столичным — взамен театра имени Франко.
Почему театр Франко в то время утратил свой творческий авторитет? Потому что после успешного поначалу преодоления традиционного этнографизма в театр пришла наряду с винниченковщиной "модернизация" космополитического глаголинского толка, которая повторяла, иногда не без успеха, модернистские ухищрения тогдашнего западного буржуазного театра. Для украинского революционного театра это было отступлением и с позиций идейных — от уровня, достигнутого тогдашним искусством. Театр Франко в столице сделал свое дело, и теперь он должен был уйти. На его место следовало прийти другому. Так что переезд "Березіля" был желанным.
Но симпатии авторитетных театральных деятелей и воспитанных на их вкусах и на традиционной театральной продукции зрителей не были на стороне "экспериментатора" Курбаса.
Я, разумеется, не собираюсь писать историю театра — предоставляю это специалистам, но иногда, по ходу рассказа о Курбасе, вынужден бросить взгляд и на весь театральный процесс того времени и на отдельные его звенья; ведь Курбас не висел в безвоздушном пространстве и не плавал в состоянии невесомости за пределами земного тяготения: обстановка того времени обусловливала его деятельность, а деятельность его в свою очередь воздействовала на обстановку в театре и литературе.
Борьба на театральном фронте смыкалась — во второй половине двадцатых годов — с борьбой, которая шла и на литературном фронте. "За" "Березіль" и "против" "Березіля" — это соответствовало антагонизму между "Вапліте" и "Плугом"" яростной тогда борьбе между так называемым "олимпийством" и "просвитянством".
Впрочем, нынешний читатель здесь нуждается в некоторых пояснениях — с отступлением в предшествующие годы.
"Гарт", собственно, та часть "Гарта", которая после смерти Блакитного создала "Вапліте", раньше, еще при жизни и активной деятельности Блакитного, в самом начале двадцатых годов вела борьбу против господствовавшего в то время на украинской сцене традиционного бытового этнографического театра с его "гопакедиями" (термин Коряка).
Эта борьба на первом ее этапе увенчалась успехом: в двадцать третьем году в столицу в качестве центрального, так сказать, программного театра был приглашен театр имени Ивана Франко — новейший, драматический, академический, как он себя величал. Помещение ему предоставили, однако, не в центре столицы, а на окраине, над грязной речушкой Харьков, в так называемой "Вилле Жаткина", в бывшем, до революции, кафе-шантане.
Поскольку наряду с борьбой против традиционного этнографического украинского театра шла одновременно и борьба с царившим тогда традиционным театральным ремесленничеством эпигонов славных когда-то организаторов русской драмы на Украине — Соловцова и Синельникова, то и "Плуг" в лице Пилипенко поддерживал линию "Гарта".
В одном русле шли "Гарт" и "Плуг" и на другом этапе борьбы — как только театр имени Франко осел в столице и дал первый спектакль ("Евген Несчастный" Толлера): борьба эта шла за то, чтобы из "Виллы Жаткина" перевести центральный государственный украинский театр в центр столицы Украины — в помещение на Театральной площади.
В конце концов новорожденный революционный театр получил поддержку и перебазировался в центр столицы.
Была это, конечно, победа украинского театра, но победа чисто формальная, только, так сказать, административная, никак не творческая.
Дело в том, что первый же сезон пребывания франковцев в столице принес широким кругам зрителей заметное разочарование. Эклектичный по самой своей художественной сути, живущий на смешанном репертуаре из пьес Винниченко с их "психоложеством", ошметков "потрепанных" уже, но не переваренных ранних курбасовских экспериментов "молодотеатровского" периода плюс случайные переводы из западной литературы, — театр Франко долго продержаться не мог и скоро деградировал по сравнению со своим же "героическим" фронтовым прошлым времен гражданской войны. Не могли его спасти и отдельные драматургические шедевры, в частности "97" Миколы Кулиша. Это блестящее творение украинской драматургии могло лишь на один-два сезона задержать снижение авторитета франковцев. Упоминавшийся уже "глаголинский" модернизм отбросил театр еще дальше назад. Зритель перестал посещать спектакли, общественное мнение отвернулось, театральная критика била в набат, руководящие круги встревожились.
"Гарт", который в свое время рьяно воевал за утверждение театра Франко в Харькове, кинулся на поиски "новейшего" новаторства и так же сгоряча пошел было на поддержку в театре глаголинского модернизма, который по сути был лишь эпигонством западноевропейской театральней эквилибристики. Внешне, формально, глаголинские модернистские спектакли были как будто и талантливы — кричащая, блистательная мишура; глаголинская режиссерская манера кое в чем обогатила мастерство актера, подавляя в нем остатки традиционного этнографизма; но и по форме и по содержанию был это типичный космополитизм, идейно же все это "творчество" было отсталым, а иной раз и прямо реакционным.
Литераторы "Гарта" отступились от театра Франко, но растерялись, не зная, что делать. Литераторы "Плуга" не растерялись: у них был резерв — знамя старого традиционного этнографизма. В стороне держался лишь театральный "Г.А.Р.Т.", который и после смерти Блакитного продолжал отстаивать его позиции. Театральный "Г.А.Р.Т." пытался ориентироваться на свои, довольно-таки жалкие, силы да на театр Терещенко в Киеве. "Г. А. Р. Т." призывал к обновлению профессионального театра путем вливания в него свежих сил из массовой рабочей самодеятельности. Терещенко пытался продолжать пропаганду театра коллективного действа. "Коллективное действо" пролеткультовского периода — "Небо горит" — имело свой смысл и пользовалось успехом в первые годы после гражданской войны, но теперь, в мирное время, которое требовало психологической и социальной глубины, "коллективное действо" оказалось неспособным удовлетворить потребности зрителя. Театр Терещенко хирел и в конце концов был ликвидирован Наркомпросом. Театральному "Г.А.Р.Ту" удалось осуществить действительно важное дело — организовать в республике сеть передвижных рабоче-крестьянских театров и создать политпросветительный агитационный репертуар для самодеятельных кружков, но пойти дальше он оказался неспособным и тоже вскоре самоликвидировался.
Когда глаголинский модернизм окончательно выявил свою реакционную суть, "Вапліте", которая как раз возникла из среды литературного "Гарта", отвернулась от театра Франко совсем. Вот тогда и получил поддержку бывших гартовцев, а с ними и более широких художественных кругов столицы, — Курбас.
Произошло это, надо сознаться, вовсе не по каким-то принципиальным соображениям, даже не с целью утверждения художественных взглядов, которые, мол, созвучны были березильским позициям в театре, а просто так: наши надежды на театр Франко оказались тщетными, наши ожидания не оправдались — значит, долой театр Франко, давайте искать что-нибудь другое! "Другим" на всю Украину был лишь Курбас с его "Березілем"; летом двадцать пятого года он гастролировал в Харькове и пришелся по вкусу такими экспериментальными спектаклями, как "Газ" и "Джимми Хиггинс". Было в этих спектаклях нечто созвучное поискам Мейерхольда; театр "Березіль" был безусловно новаторский — значит, надо перевести его в Харьков, сделать столичным!
Пилипенко и Грудына, то есть "Плуг", а за ними и обывательские "кооператорские" круги переезду Курбаса отчаянно противились, под руководством Грудыны из остатков театра Сабинина в помещении "Тиволи" создали этнографически-бытовой театр старо-традиционного направления, назвав его "Народный театр".
Впрочем, они нашли себе и могучих союзников.
Прежде всего это был Мамонтов.
Не гартовец и не плужанин, находившийся вне организации, педагог и теоретик, выдающийся театровед, в прошлом поэт-символист и драматург-модернист — после шедевров абстрактной драматургии "Веселый хам" и "Когда народ освобождается" — Яков Андреевич Мамонтов стал ярым сторонником театра реалистического и в тогдашнем театральном процессе верность реалистическим традициям видел лишь в театре бытовом. Он тоже выступал за возвращение к традиционному театру, но в социально-психологическом обновлении. Он выступал против Курбаса, "курбасовщины" и "мейерхольдовщины".
Затем это был Туркельтауб — профессор искусствоведения, театральный критик и вообще "дуайен" всей корпорации театральных рецензентов. Он относился с уважением к курбасовским поискам, но экспериментальные достижения "Березіля" считал недостаточными для театра "производственного". За Туркельтаубом шли довольно широкие круги городской интеллигенции — русской и украинской, из бывших "меценатов" и театролюбов.
Таким образом, противоберезильский фронт был достаточно силен, никак не слабее проберезильского.
Но на стороне приверженцев "Березіля" были руководящие товарищи из партийного и государственного аппарата, и результат боя оказался совершенно неожиданным, но удачным: успеха достигли обе стороны. "Березіль", правда, только театр, без всех остальных разветвлений МОБа, ликвидированных Наркомпросом, был-таки переведен в Харьков, на положение государственного центрального театра. А в другом крупном помещении, Краснозаводском театре, спустя год или два был создан второй театр, основанный на традициях бытового и русского психологического театра. В нем собрали сильный актерский ансамбль — из корифеев старой украинской и молодежи русской школы; возглавил его режиссер Загаров, недавно вернувшийся из эмиграции; художественными "шефами" стали драматург Мамонтов и Дмитро Грудына — в то время руководитель союза Рабис.
Существование в столице одновременно двух больших драматических театров — наряду с недавно (в 1925 году) основанной украинской оперой, созданным в 1929 году Театром музыкальной комедии, Театром юного зрителя и открывшимся в 1928 году Театром рабочей молодежи (ТРАМом), а также Театром сатиры "Веселый пролетарий" — стимулировало развитие и бурный рост украинского сценического искусства.
Сценические достижения того периода были как раз результатом соревнования этих двух театров — двух театральных культур. Театр Франко тем временем "сошел с арены" борьбы за первенство: переехав в Киев, он продолжал пережевывать свой эклектический репертуар и угасал, пока не пришли в него драматурги Микитенко и Корнейчук.
Вторым "фронтабтайлем" тогдашней войны между театрами был зритель. Собственно, не тот массовый организованный зритель и не тот массовый неорганизованный — случайный, уличный, который в конечном итоге и решает судьбу театра, а зритель, организованный специально для того, чтобы судьбу театра решить. Таких специфически организованных зрителей было две категории, и они жестоко и непримиримо враждовали.
По одну сторону — вокруг "Березіля" — группировался зритель рафинированный, "искушенный", близкий к искусству, умеющий выразить свои вкусы. И первым, что определяло его положительное или отрицательное отношение к художественному явлению, была жажда "нового", какого именно, не вполне ясно, но непременно нового. То были писатели, художники, педагоги и студенты, они непременно приходили на все премьеры, делали "бум" в зале, а затем и на страницах печати; устраивали диспуты, выступали по радио. Валериан Полищук под эгидой Левка Ковалева, первого начальника Укррадио, как раз тогда организовал литературный радиожурнал, был его редактором, секретарем и диктором, а выступал — без фиксированного писаного текста — каждый кто хотел, вернее, кого приводил Полищук. Таким образом, "паблисити" "Березіль" и Курбас имели довольно широкое.
По другую сторону — против театра "Березіль" — был гораздо более многочисленный "уличный" зритель, преданный старому традиционному театру: он хотел видеть "Цыганку Азу", "Ой, не ходи, Грицю", "Кума мирошника" и "Сатану в бочке" — да чтоб в дивертисменте, в заключительном гопаке, участвовало не меньше сорока пар танцоров. Этого зрителя — для отпора березильским "новшествам" — и подхватили "кооператоры" и другие эпигоны бывших "русско-малороссийских" трупп. Ни радио, ни прессой эти круги не располагали, не затевали и диспутов, но на спектаклях умели устроить обструкцию, а для распространения своих "идей" у них были улица, базар и беседа за чаркой в семейном кругу.
Писатели-плужане постепенно, один за другим, отходили от этого круга и пополняли круг поборников "Березіля" и Курбаса.
Что касается третьего "фронтабтайля", то он был, так сказать, должностной — в лоне Наркомпроса преимущественно: служащие, партийные работники, Главре-пертком и Главметодком. К этому кругу принадлежал и я, будучи в то время инспектором Главполитпросвета Наркомпроса. Позиция этого круга зрителей была такова: старый этнографически-бытовой театр это, разумеется, "назадничество"; театр Франко решить судьбу театрального процесса уже не способен; что же касается театра "Березіль", то… гм… К театру "Березіль" этот круг относился осторожно, даже настороженно и чаще всего — с предубеждением…
В такой обстановке и переехал в Харьков, заняв положение центрального, столичного, "программного" театра, "Березіль". В такой обстановке, раскаленной до предела, начинал он свой первый сезон в столице. В такой обстановке — чем дальше, тем все более и более острой — прошли, собственно говоря, и все семь лет существования театра "Березіль" в Харькове.
Именно в этот период — вторая половина двадцатых годов — театр "Березіль" перестал для меня быть абстракцией, спустился с заоблачных высот на землю и дал мне возможность составить свое собственное о нем мнение. Ведь теперь я видел каждый новый спектакль и пересмотрел все старые.
Что же до Курбаса, то взаимоотношения между нами были несколько путаные и… многообразные.
Во-первых, в доме "Слово" мы стали соседями: мы жили с Курбасом дверь в дверь. И нам то и дело приходилось встречаться, когда мы выходили из дому или возвращались домой. К тому же у Курбаса была богатейшая библиотека по искусству, где всегда можно было найти нужный тебе источник. II был Курбас завзятый радиолюбитель, он сконструировал себе довольно большой радиоприемник (тогда фабричных приемников в продаже еще не было) и целые ночи просиживал, ловя радиопередачи.
Эти обстоятельства сближали нас, так сказать, в быту.
Во-вторых, в отделе искусств Главполитпросвета Народного комиссариата просвещения, которому в то время подчинено было все театральное дело, я был вроде бы прямым начальником над Курбасом и его театром.
Это обстоятельство нас не сближало, хотя и не отдаляло, но удерживало наши взаимоотношения на уровне официальных, не давая им перейти в приятельские.
В-третьих, я все-таки был оппонентом Курбаса и в течение предыдущих двух-трех лет довольно резко выступал в печати против тех позиций, которые декларировал он.
Как ни странно, это обстоятельство не вызвало у Курбаса вражды — он был незлопамятен, наоборот, это ставило нас в какой-то степени на одну доску.
Было еще и четвертое обстоятельство, определявшее наши взаимоотношения с Курбасом, обстоятельство, так сказать, "тайное", которое приводило к множеству курьезов: я выступал в печати (еженедельник "Нове мистецтво") по поводу буквально каждого спектакля театра "Березіль" — будь то премьера или возобновленный спектакль киевского периода, но Курбасу не было известно, что автор этих статей — я. Ибо — впервые в жизни, и было это и последний раз — я выступал под псевдонимом.
Вышло это так.
Журнал "Нове мистецтво" делал Василь Хмурый (Бутенко) — один "за все". Микола Хрыстовый, начальник отдела искусств, числился ответственным редактором, по времени на журнал, конечно, не имел, и Хмурый действовал единолично и самочинно: писал, редактировал, верстал, правил корректуру и даже осуществлял экспедицию — в те времена так работали почти во всех журналах: журналы делали один-два человека. Хмурый и предложил мне взять на себя "Березіль" — после первого же его спектакля в Харькове. Я отказался. Ведь я обязан был бы высказывать официальное суждение отдела искусств. А как быть, если мое мнение не совпадает или противоречит позициям или мнению руководства Наркомпроса?
Мы распили бутылку вина и подобрали мне псевдоним: довольно примитивный перевод моего имени и фамилии на французский язык — Жорж Гудран.
Теперь все это смешно вспоминать, но тогда…
Прежде всего, недоразумения в кругу театральных рецензентов. Не знаю, как теперь, а тогда все рецензенты сидели на премьерах вместе и обменивались мнениями. Так что к концу спектакля сама собой выкристаллизовывалась как бы общая позиция — театральные рецензенты выступали чаще всего единым фронтом. И вот сидели на рецензентских местах (каждая газета имела постоянное место для своего рецензента) Иона Шевченко от "Коммуниста", Иволгин (Зегер) — от "Вечернего радио", Туркельтауб — от "Пролетария", кто-то на моем прежнем месте от "Вістей", а кресло журнала "Нове мистецтво" на премьере оставалось… свободным. Я берег свое "алиби", старательно скрывал свой псевдоним и вообще, будучи инспектором театров, величаво восседал на одном из двух крайних у среднего прохода кресел в первом ряду, которые были постоянными местами отдела искусств НКП. А между тем приходила суббота (день выхода еженедельника "Нове мистецтво"), и неизменно появлялась статья — обзор очередной премьеры, принадлежащий перу какого-то никому не ведомого, таинственного Жоржа Гудрана. И что больше всего удивляло корпорацию критиков: в этой статье то и дело звучали непосредственные отклики на те споры, которые возникали между рецензентами, когда они в своем тесном, почти конспиративном кругу обменивались мнениями. В этот круг допускались считанные по пальцам штатные рецензенты — пять-шесть человек, и я в числе их, как старый коллега по работе и представитель отдела искусств, мнение которого для рецензентов, разумеется, тоже имело значение. Кто же был "предателем"?.. Странное дело, но демаскировали меня не сразу, — должно быть, на второй или третий год: Иона Шевченко расшифровал-таки мои стилистические ходы.
Очень курьезно оборачивалось это дело и во взаимоотношениях с Курбасом.
Нам доводилось обсуждать едва ли не каждую рецензию Жоржа Гудрана на очередную премьеру "Березіли": то он заводил о ней разговор со мной, приходя в отдел искусств, — как с инстанцией официальной; то я заводил с ним разговор, как совершенно "частное лицо", — когда случалось встретиться на лестнице или на площадке между нашими квартирами в доме "Слово".
Обсуждения эти были очень интересны, потому что служили трамплином для обмена мыслями о современном театре вообще: художественные взгляды Курбаса как раз ярче всего и раскрывались мне именно в этих наших беседах. Кроме того, они давали бездну информации о театральном деле: Курбас был человеком широкой и глубокой эрудиции в искусстве. Обсуждения эти были и пикантны, потому что Курбас говорил мне обо мне, как о третьем не присутствующем да и неизвестном нам обоим лице; и мне тоже приходилось говорить о себе, как о постороннем, и высказывать свои взгляды на мысли этого постороннего неизвестного мне человека. Были это подлинные упражнения в… софистике. Для меня — каждому понятно — не такие легкие и простые.
Но самым пикантным во всем этом было то, как Курбас противопоставлял оценку спектаклей и вообще позиции этого таинственного Жоржа Гудрана — моим взглядам, то есть тем позициям, которые я занимал по отношению к "Березілю" год и два назад, высказывал их в своих прежних публичных выступлениях или статьях, критиковавших платформу МОБа, когда я еще не видел спектаклей "Березіля".
А позиции бывшего представителя "Гарта" Юрия Смолича и позиции рецензента журнала "Нове мистецтво" Жоржа Гудрана действительно были диаметрально противоположны.
Дело в том, что, посмотрев спектакли "Березіля", — такие шедевры, как "Джимми Хиггинс" или "Пролог" да и вообще все подряд старые и новые спектакли театра, я стал ярым, горячим, бескомпромиссным сторонником театра, почитателем, даже поклонником? таланта режиссера Курбаса и увидел наконец рациональное" творческое зерно и во всей "курбасовской системе". И высказывал это теперь устами Жоржа Гудрана.
Это был, так сказать, третий период в моем отношении к Курбасу — период уже сознательного восхищения Курбасом — в противовес первому бессознательному мальчишескому "обожанию", период одобрения и солидарности — в противовес второму периоду недоразумений, непонимания и безосновательного отрицания.
В том, кто же такой Жорж Гудран, я признался Курбасу значительно позднее — уже после постановки "Народного Малахия", когда на Курбаса обрушились все громы небесные, все возможные обвинения, а я, оставив должность инспектора НКП, возобновил работу театрального рецензента в газете "Вісті" и именно за статью-рецензию по поводу спектакля "Народный Мала-хий" был с этого поста изгнан.
Мы сидели, помню, с Курбасом в подвальном ресторанчике Дома Блакитного и пили его любимое белое вино с поджаренным в соли миндалем (кажется, дело было перед встречей Нового года!) — сидели и молчали. Не потому, что грустили: Курбас был по темпераменту сангвиник и вообще никогда не грустил, в трудные минуты жизни высказывал свое настроение лишь возбужденным возгласом: "О-го-го-го-го! Мы себя еще покажем!.." А я не грустил потому, что принял твердое решение: из отклоненной рецензии, которая пресекла мою карьеру театрального критика, я собирался сделать большую статью с подробным анализом спектакля и самой пьесы "Народный Малахий" — и на том "поставить точку", отойти от театра совсем. И вот — ведь все равно с театром покончено — я вдруг сказал, прерывая молчание:
— А знаете, Лесь Степанович, что Жорж Гудран это я?..
Какое-то время Курбас смотрел на меня, и на его лице я не увидел никакой реакции — выражение лица не изменилось. Думая, что он не услышал, я сказал еще раз:
— Лесь Степанович, а ведь Жорж Гудран это я…
— Слышу, — сказал Курбас, — вот никогда б не подумал, что это были вы. — На лице его, впрочем, и сейчас не видно было никакого удивления. Раздумчиво он произнес:
— Сложная была у вас ситуация: суровый и… того — суховатый инспектор НКП и — горячий сторонник театра в рецензиях. А в наших с вами беседах по поводу статей Жоржа Гудрана… — и вдруг Курбас захохотал. Захохотал так, как умел хохотать только он — от всем души и так заразительно, что все вокруг тоже начинали смеяться. Он смеялся так долго и так неудержимо, что за соседними столиками стали оглядываться — с улыбками, а кое-кто и с удивлением. Ведь положение у Кур-баса было сейчас уж никак не веселое: гора тяжких обвинений обрушилась на него и творческие его перспективы были отнюдь не утешительны.
Повторяю: я не берусь излагать или хотя бы схематично пересказывать, в чем состояла "система Курбаса", — это надлежит сделать специалистам, более компетентным в этом деле.
Но — что очаровало меня в молодости, еще в юношескую пору, когда я был гимназистом и увлекался театром, а мои представления о театре складывались по любительским спектаклям или гастролям провинциальных трупп (посещать театральные представления гимназистам вообще запрещалось, и приходилось хитрить, пускаясь на переодевания и примитивную гримировку, или смотреть спектакль из-за кулис), — что очаровало меня в Курбасе, о котором я тогда только услышал?
Что в "системе Курбаса" я отрицал позднее, обрушивая на Курбаса громы и молнии в статьях и публичных выступлениях, когда Курбаса еще так и не знал, спектаклей его театра не видел, а судил на основе журнальных деклараций Курбаса, а больше всего с чужих слов?
Что именно снова привлекло и пленило меня, когда я увидел спектакли театра "Березіль", что сделало поборником его после бесед и споров с самим Лесем Степановичем?
И, наконец, что же, считаю я, осталось и доныне достойным последования, применения и углубления, а что, считаю, заслуживало справедливого осуждения и, как показало дальнейшее, испытания временем не выдержало?
На эти вопросы я могу ответить лишь в общих чертах, — пусть только современный читатель не ищет в моих словах никаких деклараций, не проводит аналогий с нашим настоящим и примет не как "оправдание курбасовщины" или панегирик ей, а лишь как объективный взгляд, брошенный в прошлое.
Смолоду, в самом начале моего возмужания, то есть в возрасте семнадцати-восемнадцати лет, Курбас покорил меня своим лозунгом "европеизации".
Поясню для современников.
Была это пора начала не только моего гражданского осознания, но и осознания национального. Происхождения я городского — дитя, так сказать, городской культуры и мещанских традиций, где всему украинскому отводилось место далеко за пределами города — где-то там, на селе. И линия "демаркации" между городским и сельским проходила, в сущности, на обыкновенном базаре и в особенности на праздничных ярмарочных площадях — с их красочной (почти "гоголевской") этнографией, что так и перла с крестьянских возов, запряженных круторогими волами; с многочисленными слепцами-лирниками и бандуристами, которые пели печальные песни о героическом и трагическом прошлом (преимущественно "Ой, Морозе, Морозеньку…" или "А вже років двісті, як козак у неволі"…), и залихватскими гопаками под скрипку, бубен и цимбалы. В семьях городских жителей — вплоть до мелкого чиновничества и мастеровщины — "украинское" редко шло дальше кухни, с привычными украинскими яствами, а то и кухаркой-украинкой у более состоятельных; да еще — песни: песни и в семьях городских (кроме "Ревела буря" и "Ах, зачем эта ночь так была хороша") пелись неизменно и почти исключительно из богатейшего и полного чувства украинского репертуара. Собственно говоря, и самый язык, и историю родного народа городской житель узнавал тогда лишь из песни… Потом пришла пора гимназическая — пора принудительной и грубой русификации и без того уже обрусевшей в семьях школьной молодежи. В старших классах гимназии эта русификация давала и обратный эффект: пробуждала интерес ко всему украинскому — как ко всему запрещенному, вызывала и вкус к "украинству": ведь запрещенный плод особенно сладок! В то время на Украине, а особенно на Правобережье, где чиновники получали специальную добавку к содержанию за "обрусение края", под запретом было все украинское, наравне с революционным; вот наша юношеская прямолинейная психика и спешила между всем украинским и всем революционным ставить… знак равенства. А все революционное — без понимания, без осознания, что это такое, — юношеству чрезвычайно импонировало, ибо… протестовало, ибо… фрондировало, ибо направлено было против существующего… Национальное же самосознание нашего поколения начиналось в старших классах гимназии с чтения запрещенной украинской книги или демонстративного употребления украинского языка и приводило к увлечению Шевченко, а там к своеобразному "хождению в народ", даром что с народничеством, как политическим направлением, давно было покончено. "Хождение в парод" для меня лично вылилось в добровольное участие в дружине помощи семьям запасных, призванных на войну, — ведь это были годы первой мировой империалистической войны, а до фронта от нас было когда сто, а когда полота километров. Два лета я жал, вязал, косил и молотил хлеб на крестьянских токах.
Таковы были предпосылки, толкнувшие и меня в "украинство", как говорили тогда, то есть таковы были предпосылки, которые содействовали моему национальному самоосознанию.
Но городская культура, к которой полуинтеллигент, ученик старших классов гимназии уже в какой-то мере приобщился, и мещанские традиции, среди которых протекала жизнь этого полуинтеллигентного юноши, приходили в некоторый "конфликт" со всем украинским, что развивалось тогда под знаком сельских, точнее крестьянских, обычаев и во имя тех же сельских, точнее крестьянских, интересов. Мы — речь не только обо мне, а об определенной прослойке молодежи, которая выходила тогда в интеллигенцию, — в этом сельском, крестьянском антураже чувствовали тягу к городу, к городским обычаям, грезили урбанизацией, приравнивали крестьянское к азиатскому (дикому!), а городское, урбанистическое, казалось нам европейским ("просвещенным"!).
И вот вдруг появился такой лозунг: "европеизация"!
Естественно, что мы кинулись за этим лозунгом…
Кинулись, не зная, собственно говоря, что оно такое, какой масти и с чем его едят.
О Европе мы знали из учебников географии много частностей: фабрики и заводы Лондона и Бирмингема, классические богатства Рима, романтика Парижа, а в Брюсселе или Амстердаме тротуары моют каждый день с мылом. Кроме того, мы немало читали переводов из иностранной литературы: Золя, Бальзак, Мопассан; Диккенс и Уэллс; немного знали Шекспира и Шиллера, Гете и Метерлинка. Все это была Европа. К тому же часы "Сима" и "Дуке" завозили тоже из Европы, а у нас никаких часов не делали; европейским был и шоколад "Сиу" или "Тоблер", а у нас даже шоколада делать не умели: футбольные мячи и бутсы мы тоже получали из-за границы, из Европы. Там, в Европе, — это мы одним ухом слышали — прогресс, индустрия и демократия, даже — попадаются… — тише! тише! — республики и парламенты.
Как же не жаждать "Европы" и для себя?
Как не пойти за лозунгом "европеизации"?
Лозунг "европеизация" выдвигали тогда — еще до революции — в области культуры на Украине, как известно, Винниченко — в литературе, Садовский, а затем Курбас — в театре.
Когда позднее — уже в пору становления общественного самосознания, после лет гражданской войны, — я оглядывался на то время, мне становилось ясно, что курбасовская "европеизация" даже самого раннего периода была с винниченковской никак нетождественна — ни идейно, ни формально.
В зачаточном, так сказать, периоде — еще в предреволюционные годы — винниченковская идея "европеизации" украинского театра сводилась по сути к "переводничеству" и "копиизму". В репертуар украинских театров должны, мол, войти пьесы мировой классики и современной европейской драматургии. Сама по себе идея эта украинскому театру была безусловно на пользу и ничем дурным не грозила — ее подхватил и стал осуществлять на практике Микола Садовский. Но угроза — в равной мере и художественная и идейная — возникла тогда, когда сам Винниченко взялся за создание "европеизированного" репертуара. Подпав под влияние средней в художественном отношении, однако "кассово-ходкой" драматургии, типа Дымова, Юшкевича, Белой и иже с ними, рассчитанной на вульгарные вкусы обывателя, Винниченко в своих пьесах того времени сам погряз в "психоложестве", то есть в рафинированном, однако и вульгарном психологизме, который расцветает пышным цветом на проблемах сексуальных, проблемах аморальности, распада человеческой личности вообще.
С этого, собственно, и начался второй — губительный — период винниченковской "европеизации". Винниченко начал пересаживать на украинскую почву все, к тому времени созревшие, а то и перезревшие или не дозревшие еще "достижения" тогдашней посредственной европейской драматургии. В методах художественного воздействия она ориентировалась на раскрытие психологии человека (направление это так и именовалось — "психологический театр"), а внутренне, идейным своим содержанием, отражала предреволюционные упадочнические настроения буржуазной интеллигенции, ее душевную растерянность и моральное разложение — политическую "самгинщину", если пользоваться образом Горького. Впрочем, это полнее всего отвечало и тогдашним (после поражения революции девятьсот пятого года) настроениям самого Винниченко — его психической травме ("Грех"), идейной растерянности ("Базар"), политическому соглашательству ("Дисгармония").
Такой вот психологически травмированной, идейно растерянной, политически соглашательской стала и вся того периода винниченковская "европеизация". Ей оставалось только: безоглядно и некритически трансплантировать на украинскую почву все — хорошие и дурные — традиции тогдашнего средней руки "европейского" театра. Собственно говоря, такого — европейского вообще — театра в природе фактически никогда и не существовало: в европейском театре постоянно боролись, соперничали разные направления и течения — направления и течения и художественные, и идеологические. "Европеизация", таким образом, стала только словом, фразой, фетишем — лозунгом без программы за ним. Позднее, после революции семнадцатого года, в водовороте политической борьбы, эта "европеизация" у Винниченко — талантливого писателя, человека идейно растерянного и бездарного политика — приобрела еще и явно националистическую, реакционную форму, отражая опять-таки все партийно-политические шатания и метания самого Винниченко: в драматургии от "Пайны Мары" до "Между двух сил", в политике — от "социал-демократизма" до шовинистического и контрреволюционного самостийничества, а затем — обратно, и снова — туда и сюда.
Курбасовская "европеизация" была совсем другого происхождения. Возникла она на диво просто и естественно. Ее лозунги сразу пришлись по душе широким кругам тогдашней — в преддверии революции — украинской городской интеллигентной молодежи. Этнографизм не только ограничивает театр, "замыкая его в своей хате", он убивает украинский театр: за красочными одеждами этнографии теряется человек, который и есть главное действующее лицо любого художественного произведения, — его душа, его мировоззрение, его психика. Господство этнографии в искусстве — как бы ни была она хороша, привлекательна и мила сердцу! — это шоры для нормального исторического развития народа, первая примета его приниженного, рабского положения, способ ограничить, задержать его культуру, общественную жизнь, политические проявления. Где этнография всего ярче, красочнее, богаче? У народов отсталых, не имеющих государственности, прозябающих в колониальной зависимости от чужаков. На черном африканском континенте — у негров, у туземцев Америки — индейцев; у народов желтой расы в Азии. И… у украинцев в Европе… Так долой же этнографию! Долой примат села в искусстве! Долой идиотизм деревенской жизни! Нация не может быть только "сельской": у города, у рабочего, интеллигента свои нужды, они предъявляют свои требования — одними мужицкими идеалами их не удовлетворить. Жизнь народа должно брать полно — от всех ее щедрот; искусство может развиваться только поднимаясь к вершинам; равняться надо на гигантов духа!..
Не стану утверждать, что точно цитирую Курбаса предреволюционной поры, потому что у меня нет под рукой опубликованных в те годы его выступлений. Да и не так часто выступал Курбас в печати, он больше высказывал свои взгляды устно — публично или перед своими учениками, к которым я не принадлежал. По могу поручиться, что совершенно точно передаю, как мы, интеллигентная молодежь того времени, воспринимали Курбаса и почему шли за ним.
Еще будучи актером театра Садовского, Курбас выступил против утверждения Садовского, что элементы культурно-национальной отсталости и являются основными живительными факторами нашего культурного процесса, ибо в них ярче всего отразились черты нашего национального облика.
Крестьянская стихия, мужицкие идеалы, показная этнография, живописные одеяния исторического прошлого, воспевание национальной романтики и т. д. таким образом признавались самой природой нашего искусства, становились фетишем и застилали свет для движения вперед, для поисков новых путей и приобщения к общечеловеческой культуре.
Как же нам, молодежи, было не поддержать курбасовского протеста?
Мы были вообще поклонниками театра Садовского: высокохудожественный стиль спектаклей, чарующее, ни с чем не сравнимое мастерство его корифеев — Заньковецкой, Саксаганского и того же Садовского — были тем художественным эталоном, с которым мы могли сравнивать художественный уровень известных нам провинциальных трупп Колесниченко, Прохоровича и других гаркун-задунайских, как именовал их Винниченко. Нас восхищало, что наряду с изысканно эстетизированным этнографическим репертуаром в этом же театре мы смотрели глубоко реалистические спектакли (драматургия Карпенко-Карого!), которых так жаждало наше поколение в те предреволюционные годы; впервые на украинской сцене увидели и мировую драматургию. И потому "сдача позиций" Садовским, как говорилось тогда в кругах молодой украинской интеллигенции, нас глубоко поразила.
Как же не разделить было нам с Курбасом его бунт против Садовского?
Вот так Курбас и завоевал тогда наши сердца.
Потом был "Молодой Театр".
Установки "Молодого Театра" стали мне известны несколько позднее, после двадцатого — двадцать первого года, когда "Молодой Театр" уже прекратил свое существование, когда и меня судьба, вернее, случай толкнул на актерский путь, — от молодых выходцев из "Молодого Театра" или его почитателей, прежде всего от Костя Кошевского.
С Костем Кошевским — актером и молодым режиссером — мы создавали тогда "новаторский", "современный" театр в провинциальной Жмеринке, что в те буревые годы волной революционной борьбы на фронтах гражданской войны была поднята до положения одного из заметных центров тогдашней политической, общественной, а значит, и художественной жизни. Это был в то время самый крупный железнодорожный узел на путях армейских коммуникаций, и не раз и не два этот небольшой городишко с изрядной, однако, рабочей, пролетарской прослойкой становился и местом пребывания военного руководства армий и фронта. Мы с Костем ставили тогда "Гайдамаки" — по Курбасу, готовили "Царя Эдипа" — по молодотеатровской схеме и пытались воссоздать — пускай и в порядке "копиизма" — другие спектакли не существующего уже "Молодого Театра". Но не осилили этого — собственно, не хватило терпения на наши эксперименты у зрителя. Нас ожидал крах. Сперва мы скатились в недра эклектики, следуя одновременно и Курбасу, и традиционному провинциальному русскому театру, потому что был он прогрессивнее старого украинского этнографического, так сказать на "европейском" уровне. А потом, под нажимом традиционного зрителя, вынуждены были вернуться и к традиционному этнографическому театру. Как все это произошло, мне довелось уже рассказать в книге "Театр неизвестного актера".
Но возвращение, пускай частичное, к традиционному "назадничеству" — то была лишь одна сторона нашей деятельности: показная, производственная, во имя хлеба насущного; в душе же, а больше всего в мечтах, мы оставались верны нашим "исканиям": мы в меру наших сил овладевали молодотеатровскими, посеянными Курбасом, принципами.
Мы знали, что Курбас отрицает натурализм переживаний на сцене — "голос нутра", требует в актерском исполнении избегать житейского измельчания образа, деталей быта, и мы старались выработать такой стиль игры для себя и пропагандировали его среди наших актеров. Нам было известно, что Курбас горячо выступает против распространенной дотоле в украинском театре декламационности и вообще аффектации в речи актера и в его поведении на сцене, и мы внимательно следили за собой и нашими партнерами, стараясь достигнуть максимальной простоты. Курбас требовал от актера минимума жестов, но жест должен был быть максимально выразительным и точным, требовал от режиссера ритма в спектакле, и мы тоже требовали этого от себя и наших товарищей. Мы слышали, что Курбас твердит: дух пьесы, ее философское содержание должны определять и самый стиль спектакля и стиль этот должен быть выдержан во всем спектакле с начала до конца, и мы, как умели, пытались бороться за чистоту стиля. До нас — с курбасовских широт — донеслось и впервые услышанное слово "психотехника": Курбас призывал актера к овладению психотехникой, и мы отчаянно листали страницы энциклопедий, рылись в специальных медицинских изданиях и трудах по психологии, чтобы выяснить, что это за "психотехника", почему — "психо" и зачем — "техника"?
Словом, мы жадно доискивались и овладевали. Чем? Этого мы сами не знали, но верили, нто искать надо, что торной дороги впереди нет и надо прокладывать хотя бы тропки на пути создания "новаторского" театра.
И Курбас оставался нашим — пускай не познанным до конца, пускай загадочным, таинственным, но кумиром.
Были то времена революции, гражданской войны, фронтов.
Потом — уже в начале нэпа, году в двадцать втором — появился МОБ.
Мистецьке об'єднання "Березіль".
И Курбас вдруг… отверг все то, что до сих пор провозглашал в "Молодом Театре".
Он отвергал теперь не только традиционный украинский "этнографический" театр, не только неприемлемое для него традиционное сценическое ремесленничество в провинциальной русском театре, отвергал теперь и самое "европеизацию", к которой призывал до этого украинский театр.
Он требовал теперь создания театра революции — революционного театра!
Разумеется, это было хорошо, это нам нравилось — театр революции, революционный театр! — мы тоже были за него, и это нас пленяло. Однако же вслед за заманчивыми лозунгами поползли какие-то неопределенные, странные, чудовищные слухи: Курбас в своем коллективе "ставит все вверх ногами".
Деструкция, кульбит, ритмопластика, биомеханика — то были впервые услышанные слова. И что-то чувствовалось за ними… противное самой природе театра.
Мы были поражены, сбиты с толку, растеряны…
Собственно, о биомеханике мы уже кое-что слышали: в Москве в своем театре ее проповедовал Мейерхольд. По впечатлениям, сложившимся у нас из неопределенных слухов и скупых сведений из прессы, речь шла об уничтожении живой плоти актера на сцене, автоматизации актерского исполнения — согласно какой-то чуть ли не таблице внешних символов человеческих чувств, — что-то вроде таблицы умножения или расписания пригородных поездов… Слышали и слово "деструкция": им охотно пользовался поэт Михайль Семенко, лидер украинского футуризма, который провозглашал что-то невнятное, в своих поэтических опусах "мертвопетлил" и издавал "Катафалк искусства", требуя, чтоб со всеми видами искусства было покончено немедленно и навсегда. Разве это был путь для создания театра — искусства революции?
И окончательно повергло в прах нашего кумира то, что Курбас, по слухам, "разогнал" всех старших — опытных, талантливых — актеров, своих же соратников по "Молодому Театру", своих же союзников в борьбе против этнографического традиционализма, и вместо театра создал какую-то студию или школу из желторотых юнцов, которые ни разу в жизни не выходили на театральные подмостки. От Курбаса ушли, порвав с ним, его ближайшие сотрудники, самые талантливые актеры старшего поколения театральной молодежи — Бучма, Василько, Васильев, Семдор, Шевченко, Самийленко и много, много других. Ушли они в основном к Гнату Юре, тоже молодотеатровцу, но курбасовскому противнику, создали с ним Театр имени Франко, и театр этот продолжает нести знамя "Молодого Театра", проповедует "европеизацию" украинского театрального искусства. Франковцы сразу же добились огромного успеха и выполняют ответственное государственное задание: обслуживают массового зрителя на сборе продналога и в прифронтовье. А Курбас? Собрав своих желторотых птенцов и несовершеннолетних девчонок, заставляет их делать кульбиты, то есть кувыркаться через голову; гоняет по турникам и трапециям, требуя в первую очередь совершенства в физических упражнениях; превращает актера в акробата и фигляра. И вообще перекинулся, должно быть, на цирк, потому что и свои декларативный спектакль готовит… на арене цирка: актеры-акробаты прыгают из-под купола в натянутую предохранительную сетку, где и происходит основное действие спектакля, а главные персонажи выходят в клоунских колпаках и с лицами, вымазанными мукой и сажей.
Что ж, мы с Костем Кошевским прокляли Курбаса и, прогорев сами, вскоре тоже оказались в Театре имени Франко, у курбасова противника Гната Юры. Все сбежавшие от Курбаса старшие актеры молодого поколения были там; правда, Бучму мы уже не застали: поразмыслив, он все-таки вернулся к Курбасу в МОБ.
С тех пор и началось паше активное антикурбасианство. Кость Кошевский — вдумчивый культурный режиссер и талантливый актер — на этих позициях и остался до конца. Что касается меня, то вскоре мое антикурбасианство соединилось с антиюровством, а там я и вовсе порвал с актерской профессией, стал театральным борзописцем.
Впрочем, обо всем этом речь шла выше, в начале этих записок.
Что же, собственно говоря, переубедило меля, изменило мое отношение к Курбасу и его "системе" и пленило в спектаклях "Березіля" позднее, когда я наконец собственными глазами увидел эти спектакли?
Прежде всего то, что все участники постановки — режиссер, актер, художник, композитор, даже обслуживающий технический персонал — всегда осознавали поставленную данным спектаклем идейно-художественную цель. Я имею в виду социальный вес самого замысла, желаемое политическое и эстетическое воздействие на зрителя. Курбас также требовал, чтобы каждый актер, художник, композитор действовали с максимальным пониманием самого предмета: досконально изучали обстановку исполняемого драматургического сюжета — эпоху, социальную среду, историческую ретроспективу и перспективу; чтобы актер вживался в сценический образ, определял свое отношение к другим действующим в спектакле персонажам. "Система Курбаса" решительно и категорически переводила все звенья сценического творчества из дебрей интуиции на просторы сознания; искусство — акт выявления человеческого сознания, а не подсознательных импульсов, — так примерно формулировал свое кредо Лесь Степанович.
Оглядываясь ныне на эту позицию Курбаса, невольно думаешь: как была бы кстати сейчас эта "система Курбаса" в борьбе против любого модного абстракционизма или нигилизма в искусстве, как метко целил Курбас по современным ему и позднейшим проявлениям антисоциальных вывертов в искусстве!
Возможно, именно исходя из позиции, что искусство является актом проявления человеческого сознания, Курбас-режиссер решительно и категорически запрещал какую бы то ни было импровизацию в спектакле (импровизировать следовало на репетициях, стремясь к наилучшему раскрытию идеи) и требовал абсолютно точной фиксации найденного для образа выражения.
Это, пожалуй, сильнее всего и ополчало против него актеров старой "нутряной" школы, которые за этой обязательной фиксацией видели "голую технику", "холодный техницизм" и тому подобное.
Эти мастера старой формации, даже корифеи ее, не принимали также и требования Курбаса к актеру — непременно найти и создать социальную физиономию (маску) исполняемого в спектакле образа, а в исполнении — выявить и свое к нему классовое отношение. Старые "нутровики" отрицали вообще условность в сценических проявлениях актера, пренебрегая тем, что именно на условности и "держится" театр как искусство — искусство среди всех прочих, может быть, самое условное, потому что именно в этом — в условности — и есть его смысл.
Актер "Березіля" — следуя "системе Курбаса" — в совершенстве владел своим тренированным и закаленным в пресловутой акробатике телом; также неплохо владел он отработанной на психотехнических этюдах мимикой. Хуже обстояло дело со словом (за исключением самых талантливых и опытных актеров — Бучмы, Крушельницкого, Марьяненко, Гаккебуш, Гирняка). Но было это не потому, что "система" пренебрегала словом — нет, а потому, что искусство слова — этот тончайший и важнейший инструмент в актерском арсенале — за короткий, лишь несколько лет длившийся, период существования театра "Березіль" — еще не успело подняться до высшего уровня мастерства. Следуя курбасовскому требованию лаконизма и выразительности интонации и жеста, актер раньше успевал овладеть жестом и мимикой это оказалось проще и легче, нежели интонацией, то есть словом, что в актерской профессии труднее всего.
Требовал Курбас от актера чрезвычайно много, может быть, ни один режиссер и руководитель театра не был так "беспощаден" в своих претензиях к актеру. Актер, который не умел образно мыслить, переставал существовать для него. Курбас забывал о его присутствии в театре. Умение образно мыслить, по определению Курбаса, было основным и первейшим во всем искусстве художественного перевоплощения, и проповедовал он образное "инакоречение" при посредстве ассоциаций.
Когда позднее (должно быть, в конце тридцатых годов) мне довелось познакомиться с впервые опубликованной в те годы в авторской записи системой Станиславского, я был поражен. Близость к Мейерхольду была у Курбаса лишь в деструктивный период — когда рушились старые каноны, привычные представления, традиции, штампы и трафареты; тождественной была сама концепция разрушения старого буржуазного театра. Позднее эта близость осталась чисто внешней, формальной — в технике актерского исполнения, в конструкциях многопланового оформления зрелища. Но сутью своей, подходом к раскрытию образа на сцене, путями, ведущими к завершенности спектакля, всем комплексом воспитательных приемов и актерских студий, — всем этим Курбас был скорее близок к Станиславскому, работ которого, впрочем, тогда, кажется, еще не знал.
Пускай это только мое личное мнение — никому его не навязываю, но именно так думал я тогда, когда впервые познакомился с изложением системы Станиславского, а систему Курбаса я познавал собственными глаза-ми — на спектаклях "Березіля" или в беседах и спорах с самим Лесем Степановичем.
О чем мы спорили? Какие у нас были разногласия?
Прежде всего — роль режиссера в театре. Курбас считал, что режиссер главное лицо во всем сценическом творческом процессе: он стоял за театр единой воли режиссера. Я в то время отошел уже от юношеского увлечения коллективным созданием всего спектакля, от начала (пьеса) до конца (представление), как это было "модно" в первые послеоктябрьские годы. Признавая, разумеется, примат режиссера в творческом синтезе сценического действия, я, однако, восставал против безоговорочной режиссерской диктатуры — против курбасовского театра единой воли режиссера. А драматург? — говорил я, и это был самый веский аргумент в наших спорах, ведь ясно, что без пьесы даже сам режиссер Курбас не способен был создать спектакль. Правда, он неизменно ломал текст пьесы и так и этак, иногда переворачивая сюжет с ног на голову, а порой и с головы на ноги, однако и для таких сногсшибательных манипуляций с текстом или даже с трактовкой образов все же было необходимо прежде всего иметь текст — пьесу, драматурга. Сама практика Курбаса — творческое содружество с драматургом Кулишом — это доказала: лучшие спектакли, осуществленные Курбасом, это были постановки пьес Миколы Кулиша. Правда, писал эти пьесы Микола Кулиш, имея такого советчика и такого "заказчика", как Курбас.
Еще не сходились мы с Курбасом в понимании роли и функций театрального искусства как такового.
Курбас различал в те годы две формации театра: театр "воздействия" и театр "выявления". Первый призван был, так сказать, непосредственно воздействовать на зрителя, второй — максимально обогащать актера.
Я считал такое разделение формальным и формалистическим. Считал также, что таким произвольным разделением Курбас как бы узаконивал розное, отдельное существование, грубо говоря, театра для агитации и театра эстетического, или, точнее говоря, искусства для народа и искусства для искусства. Я доказывал, что это подход эстетский, не в плане театра революции, и отстаивал необходимость максимального сближения и полного слияния "выявления" и "воздействия"; добиваться эмоционального и интеллектуального обогащения образа и агитационной (как называли мы тогда идеологический эффект) силы сценического действия, психологического углубления спектакля и совершенства актерского исполнения и всех режиссерских средств.
Курбас-режиссер очень любил прием "контрастирования" — всегда строил на этом весь план сценического действия и требовал от актеров игры на контрастах, И надо сказать, что он был великим мастером контраста — мастером топким и искусным. Согласование приемов контрастирования в актерском исполнении, в режиссерской разработке мизансцен и в общей трактовке сюжета пьесы Курбас именовал "режиссерским контрапунктом", по аналогии с музыкой, которую очень любил и в которой так же хорошо разбирался. С этой точки зрения показательно было первое действие спектакля "Народный Малахий"; то был топкий музыкальный опус, несмотря на то, что музыкального сопровождения и вообще музыки в какой бы то ни было форме в спектакле не было, кроме незначительной песенки в последнем действии.
Впрочем, о спектакле "Народный Малахий" я подробно говорил в главе о Миколе Кулише, так что возвращаться к нему не буду.
Тут отмечу лишь, что этот интереснейший в художественном отношении, но, к сожалению, столь же невнятный идейно спектакль сыграл свою отрицательную роль.
Политически-негативное значение спектакля "Народный Малахий" — этой вершины формальных режиссерских достижении Курбаса — в том, что он содействовал усилению идейного сумбура среди некоторой части тогдашней творческой интеллигенции, а значит, и питал идейные кривотолки, идеологическую фронду. Политически-негативное значение этого спектакля крылось и… в самом художественном мастерстве — да не будет это утверждение воспринято как парадокс. Он захватывал, он чаровал все более и более широкий круг сторонников — почитателей режиссерского таланта Курбаса. И за этим увлечением чисто театральными изобретениями и находками невольно приходило и благодушное, а то и благосклонное отношение к идейным ошибкам спектакля, и, таким образом, он втягивал в круг фрондирующих все более и более широкие слои.
Идейные и художественные позиции Курбаса были тогда бескомпромиссно революционны — понятное дело, была то революционность не массово-пролетарского порядка, а, так сказать, интеллигентски-кабинетного. Было это в пору "деструкции" старых идейно-художественных критериев и всей системы художественных приемов — с этой точки зрения, диалектически, в обстановке того времени и надо их оценивать. Но в дальнейшем, когда деятельность МОБа вышла из стадии только студийной, только учебной, только экспериментальной и перешла в стадию производственно-демонстрационную, то есть когда от МОБа остался только театр "Березіль", в художественной жизни страны произошли значительные перемены (в Москве Мейерхольд ставил "Лес" и "Горе уму"). Шли важные процессы и во всей общественной жизни. Крепли позиции социалистического сектора в промышленности и в деревне. Широким фронтом пошла по стране культурная революция — ликвидация неграмотности была первоочередным заданием на этих культурных баррикадах, но темные силы подспудной реакции пытались возобновить сопротивление. В идейной жизни атмосфера вообще была напряженной: одна за другой поднимали голову разные группы партийной оппозиции. Понятное дело, что на Украине эти сложные процессы в идейной жизни осложнялись еще и проявлениями неизжитого буржуазного национализма либо путаницей в разрешении на практике национального вопроса, которая, естественно, опять-таки приводила порой к возрождению украинских националистических пережитков в разных слоях общества, провоцировала их возрождение.
Теперь — когда бросаешь ретроспективный взгляд — ясно становится, что в украинском театре того периода, как, впрочем, и в литературе, существовавшая путаница была особенно велика. Если театр имени Франко начинал под влиянием винниченковской "европеизации" и долгое время оставался верен ей, поставил чуть не все винниченковские пьесы, то в этот период, главным образом благодаря появлению новой, идейно более четкой драматургии таких тогда еще молодых драматургов, как Корнейчук и Микитенко, — он совсем отказался от винниченковщины. Однако он продолжал оставаться в плену сценического традиционализма.
Театр "Березіль", который начинал с позиций, враждебных винниченковской "европеизации" и в дальнейшем ее категорически отрицал, в период "Народного Малахия" и "Мины Мазайло" фактически пошел как бы параллельно с нею: внимание Курбаса в то время привлекали главным образом всяческие факты извращений национальной политики партии, несправедливого наклеивания ярлыка национализма на проявления нормального национально-патриотического чувства. И в своей реакции на них Курбас не сумел удержаться на высоте марксистского партийного понимания, ударился в фронду, подчас тоже националистического оттенка. А в то время хватало шапкозакидателей, перестраховщиков, приспособленцев, карьеристов и крикунов, любителей легко и просто рубить с плеча и обвинять во всех смертных грехах.
Так было преувеличено значение ошибок Курбаса, так извращался подчас самый их смысл. Однако когда мы смотрим теперь, ретроспективно, то, разумеется, никоим образом не можем совсем обойти ошибки Курбаса в национальном вопросе, их политическое значение.
Для спектакля-ревю "Октябрьский обзор" Курбас с Йогансеном уговорили меня написать два драматических этюда.
В этом ревю, готовившемся, кажется, к десятилетию Октября, Курбасу нужен был эпизод с индустриальным сюжетом. Я был тогда связан с заводской жизнью — работал в заводской многотиражке — и рассказал Курбасу несколько фактов. Курбас выбрал эпизод, который был назван "Мы выдержали". Действие происходило у котлов крупного предприятия, надо было дать высокое давление пара в котлах — для выполнения неотложного, важного задания. Изношенные котлы могли такого напряжения не выдержать и взорваться, но коллектив пошел на риск — выдержали люди, выдержали и котлы.
Вторая сцена была героико-революционного плана: борьба пролетариата в капиталистической стране. Незадолго до того мир взволновало восстание гамбургских рабочих в Германии, восстание было подавлено реакцией, но гамбургский пролетариат не покорился — именно этот эпизод из борьбы немецких пролетариев на баррикадах в Гамбурге я положил в основу.
После этого Лесь Степанович еще настойчивее стал уговаривать меня написать пьесу, сам подсказывая сюжеты: он мечтал поставить трагикомедию. Из предложенных Курбасом сюжетов припоминаю такие.
Международный: трагикомедия, в центре которой должен был стоять профсоюзный "бонза" — желательно английский или американский. Он должен был быть выходцем из низов рабочего класса, борьба выдвинула его, подняла до руководства профсоюзом — тут он и начинает "жиреть": капиталисты его покупают, он становится их агентом и срывает попытку профсоюза отстоять интересы рабочих. Лесь Степанович видел разрешение такого сюжета именно в трагикомедийном плане. "Бонза" гибнет от рук рабочих, которые его и подняли было на этот пост, а трагикомическая грань должна была раскрываться в переживаниях "бонзы" наедине (это "наедине" можно показать и через любовные взаимоотношения): наедине с собой "бонза" страдает, понимая свою гнусную, подлую роль. "Любовные" варианты, говорил Курбас, могут быть самыми тривиальными. Например: "бонза" влюбляется в дочку капиталиста, открывает ей свои терзания, и девушка, которая любила его, следует своему классовому нутру — выдает настроения "бонзы" его хозяевам. Или, наоборот, — ее честное нутро возмущается, она открывается рабочим, предавая интересы своего класса, но внутренние терзания не минуют и ее. Возможен еще иной вариант: "бонзу" любит девушка из народа, с которой он вместе рос и вместе пошел в революционную борьбу. Она и убивает его. Любовная линия — предательство или верность женщины — значения не имела.
Лесь Степанович, предлагая такой сюжет, заранее говорил: сюжет банальный, но разве есть сюжеты не банальные? Все сюжеты банальны. Дело только в том, каково отношение автора к сюжету и как трактуются образы, творящие сюжет.
Курбаса тянуло именно к трагикомедии. С особенным увлечением работал он над "Золотым чревом" Кроммелинка; думаю, что это тяготение к трагикомедии стало причиной и его увлечения "Народным Малахием".
Его второй трагикомедийный сюжет имел совершенно точный адрес: Винниченко. Лесь Степанович говорил, что давно не встречалось фигуры более трагикомической, чем украинский литератор и политик Винниченко. Написать трагикомедию о Винниченко Лесь Степанович уговаривал не меня одного: Миколу Кулиша, Йогансена, Днипровского. Но Кулиша в националистическом лагере больше интересовала фигура Грушевского; Днипровский после "Яблоневого плена" — спектакля исключительной силы на сцене "Березіля" — не хотел возвращаться к теме национализма; Йогансен, так же, как и я, вообще не собирался идти в драматургию и только отмахивался от настойчивых уговоров.
К теме "Винниченко" Курбас не предлагал никаких готовых сюжетов. Он только подчеркивал "непревзойденные", как он говорил, среди мировых политиков компоненты для лепки образа: всю жизнь у Винниченко слово расходилось с делом, всю жизнь он "боролся за одно, а добивался совершенно противоположного", был, как говорил Курбас, "субъективно — революционер, а объективно — контрреволюционер".
Тут надо заметить, что интерес Курбаса к фигуре Винниченко (а также и наши беседы о нем) возник еще во время активной творческой и общественной жизни Винниченко — почти сразу вслед за тем, как Винниченко сошел с политической арены на Украине, когда он окончательно эмигрировал за границу.
В общем, Курбасу так и не удалось втянуть меня в драматургию, хотя он и уговорил-таки меня принять участие в создании "полнометражной" пьесы "Товарищ женщина". Писали мы ее с Валей Чистяковой, ставили Чистякова и Верхацкий под руководством, разумеется, Курбаса. Была это праздничная агитка ко дню 8 Марта и прошла, кажется, всего несколько раз; содержание ее, конечно, не сохранилось в памяти — было оно, должно быть, убого.
Упомянутый разговор о Винниченко возник у нас с Курбасом, помню, в Кисловодске, куда я из Железноводска, где тогда лечился, приезжал к Кулишу и Курбасу. Зашел разговор в связи с тем, что Кулиш рассказал свой замысел — написать оперетту с Михайлом Грушевским в центре. Винниченко был отведен лишь мелкий эпизод. Именно это — эпизодическая, незаметная роль Винниченко — и подстегнуло Курбаса, заставило его заговорить о Винниченко как о возможной центральной фигуре и именно в трагикомическом плане. Лесь Степанович говорил, что фигура Винниченко для драматургии интереснее Грушевского, ибо многограннее и сложнее — противоречива "в себе" и "в обстоятельствах": образ петель и узлов, действия и противодействия, человек "со всячинкой" — словом, "клад для трагикомедии". А Грушевский — человек одной линии, в "одной борозде", что пролегает, разумеется, через горы и долы, но все равно идет "от точки до точки"; взобрался он на вершину, там и потерпел крах — сорвалось.
Вспомнилось почему-то: мы сидели тогда в "Храме воздуха", беседуя, любовались Эльбрусом в розово-лилово-тусклой дымке, и Лесь Степанович вдруг сказал, прерывая наш разговор о драматургии:
— Мы смотрим снизу вверх — на Эльбрус. Зрелище необычайное, чарующее! Однако же видим мы только Эльбрус — пускай и высшую, но одну точку Кавказа. Вот бы взглянуть на Кавказ сверху — с Эльбруса или хотя бы с какой-нибудь горы пониже… Чтоб увидеть "кавказские мускулы земли"… Увидеть и горы и долины — лишь тогда представление будет полным…
Я предложил:
— Едем сейчас ко мне в Железноводск, наймем "линейку" и двинем на Бештау: оттуда безграничный обзор — и степное Прикавказье, и Пятигорск, и Ессентукская ложбина, и ущелье между гор, что подступает к Кисловодску. Вот вам и будет Кавказ в миниатюре.
Курбаса это предложение привело в восторг. Он сразу же вскочил: едем!
Минут десять ушло на уговоры неповоротливого и медлительного Кулиша, но настойчивость быстрого и порывистого Курбаса была непреодолима — и вот мы уже спешим к станции, чтоб сесть в поезд до Пятигорска, а оттуда — на экскурсионной автомашине отправиться на вершину Бештау.
Когда уже под вечер мы стояли на небольшом плато под крутыми обрывами и острыми скалами бештауских пяти вершин и восторженно любовались действительно несравненным пейзажем — под нами были и бескрайняя степь Прикавказья, и горы, и долины, и хребты с ущельями — в резких светотенях предзакатного солнца и дрожащем сиреневом мареве после дневного зноя, — Лесь Степанович сказал:
— Вот так и в драматургии: сюжет только тогда живет, когда видишь человеческие образы в нем, как здесь, с разных сторон — горы и долины, обрывы и скалы, яркое солнце и черная тень, верх и низ, эдем и ад, красота и уродство, добродетель и подлость, а за резкими перепадами, контрастами — мягкие, мягчайшие полутона…
Солнце между тем зашло, завечерело, водитель экскурсионной машины, он же гид, предложил садиться и ехать, пока не стемнело совсем. Подул свежий ветер, и сразу стало холодно.
Гурович вынул тут же из кармана пиджака бутылочку и хитро прищурился:
— Я знал, что будет контраст: после дневного зноя в долине — холодина на горе. И прихватил для полутона…
То был коньяк. И хотя Лесь Степанович вообще не употреблял спиртного, кроме сухого белого вина, на этот раз пришлось и ему пригубить, потому что холод изрядно пробирал, а на перевалах еще и пронизывал резкий ветер.
Парируя иронию Кулиша, он тоже подшутил:
— Ведь я знал, что еду с драматургом, а уж он найдет выход из положения — к подъему, на мажор. Критик, разумеется, впал бы в минор, а для согревания прихватил плед и теплые калоши.
Впрочем, это уже из области шуток — не всегда удачных и болтовни — не всегда понятной для постороннего уха.
На перроне станцийки Бештау мы распрощались — я поехал в Железноводск, Курбас с Кулишом остались ждать поезда на Кисловодск. Но через полчаса после того, как я вернулся домой (я жил не в санатории, не в пансионате, а на частной квартире), в дверь постучали и… Кулиш и Курбас возникли на пороге. От Бештау до Кисловодска ехать часа полтора, а до Железноводска минут двадцать, и они решили переночевать у меня, потому что возвращаться в их пансионат было уже поздно.
Странно, но я не могу припомнить, о чем мы говорили и говорили ли вообще, укладываясь спать — все трое вповалку на полу, потому что никто не пожелал занять привилегированное положение на кровати. К беседе о трагедии, трагикомедии и сюжетах для них, так же как и к разговору об "опереточном" замысле Кулиша, мы больше не возвращались Не знаю, почему. Просто — не было случая. Да и другое тогда нависло над всеми нами: Кулиша то и дело критиковали, Курбаса еще крепче — вместе с Кулишом и врозь, за "Березіль" и без "Березіля", за его выступления и просто так — без конкретного повода.
Но об этом речь особо.
Запишу, как несколькими годами позднее я видел Курбаса в последний раз.
Он — разруганный и осужденный критикой — переехал в Москву и стал работать в еврейском театре на Малой Бронной (Госете).
Я ехал в Москву по своим творческим делам.
Перед отъездом ко мне забежала моя соседка и приятельница, лучшая актриса украинского театра двадцатых и тридцатых годов — жена Курбаса Валентина Чистякова — и попросила передать Лесю чистое белье.
Приехав и остановившись в гостинице "Балчуг" в восемнадцатом номере (почему-то запомнилось!), я позвонил Курбасу в еврейский театр, и он зашел ко мне за посылкой.
Уже вечерело — синие зимние сумерки за окном, и когда я вошел в номер, торопясь, потому что опаздывал к условленному часу, Курбас был уже у меня. Он стоял у окна и смотрел на улицу — на заснеженном матовом фоне оконного стекла его силуэт вырисовывался удивительно резко и чеканно. Он стоял в профиль, в своей привычной любимой позе — откинув голову, и я невольно залюбовался: боже мой, есть же на свете красивые мужчины! Был бы я женщиной, непременно влюбился за одну только внешность, а если за этой прекрасной внешностью еще столько ума и таланта…
Однако талана — счастья — этому красивому и богатому умом и талантом человеку — не было дано.
Курбас отошел от окна, пошел мне навстречу и — странно! — первый раз в жизни мы обнялись.
Наша встреча была тогда недолгой — Курбас спешил на спектакль, не припомню и содержания всей той последней беседы, сохранились лишь отдельные из нее обрывки.
На мой вопрос о том, доволен ли он работой, Курбас, помню, ответил:
— Довольным я быть не могу: я потерял свой театр; с родины меня изгнали, перечеркнуто, предано позору и проклято все, что я сделал, а я трудился с единственной целью: быть полезным своему пароду, послужить по мере сил мировой революции — пускай лишь средствами искусства.
Это сказано было совсем не высокопарно: "мировая революция" тогда была у всех на устах. А Курбасу к тому же был свойствен приподнятый тон, может быть, даже — несколько экзальтированный. Такова была его манера говорить, такова была его натура. Но никакой напыщенности в этом не было.
И закончил ту памятную мне тираду Лесь Степанович примерно так:
— Но, представьте себе, радость не чурается меня. Поверьте, это большое счастье работать в таком театре, как Госет, Михоэлс, Зускин — это таланты мирового порядка. А весь коллектив живет их прекрасными традициями! Чудесный, чуткий, творческий ансамбль!..
Он говорил об этом еще, расхваливая актеров еврейского театра, их одаренность, их отношение к творческой работе, любовь к родному искусству и т. п. Я не буду пытаться передавать все это подробно, чтобы не допустить домыслов, которых, в таких случаях, насилуя свою память, трудно избежать.
Помню только, я спросил его: не трудно ли ему без знания еврейского языка? Курбас ответил, что, во-первых, он хорошо знает немецкий, а во-вторых, немного разбирается и в жаргоне "идиш", познакомившись с ним еще в Галиции во время гастролей по галицийским местечкам театрального кружка общества "Руська бесіда"и тернопольской труппы, в которой начинал свой актерский путь.
Тут наш разговор, очевидно, перекинулся вообще на пьесы из еврейского быта, потому что, припоминаю, я стал перечислять роли, которые, будучи актером в русском театре, играл в еврейских пьесах. За время гражданской войны я сыграл их добрый десяток в таких пьесах из еврейской жизни, как "Гонимые", "Вечный странник", "Миреле Эфрос", "За океаном", "Мессия" ("Сабатай Цви") — Жулавского, Осипа Дымова, Семена Юшкевича, даже Софии Белой и других драматургов того времени. Мне запомнилась эта часть нашего разговора, потому что Курбас был поражен, что за каких-нибудь пять-шесть лет актерства я успел переиграть столько ролей (всего — больше сотни!). И по этому поводу произошел короткий диалог о старом, дореволюционном провинциальном театре — его плюсах и минусах. Рутиной, бескультурьем, отсутствием настоящих образцов, всем тем ремесленничеством, которое порождалось необходимостью давать каждую неделю премьеру, а в гастрольных поездках по глубинке — и ежедневные премьеры с одной репетиции ансамбля "репертуарных" актеров, то есть тех же "королей" ремесленничества, — всем этим дореволюционный театр убивал таланты и убил их сотни и тысячи. Однако вот этой рабочей нагрузкой, напряженным темпом работы и самой дисциплиной труда театральная дореволюционная провинция воспитывала в актере блестящее техническое мастерство (он в конце концов вынужден был овладеть техникой мастерства в совершенстве, потому что на творческое претворение сценического образа он просто не имел времени!), вырабатывала законченного практика театрального дела.
Вспоминаю еще, Курбас высказал удивление, что он так никогда и не видел меня на сцене. И я — и в шутку и всерьез — уверил его, что он ничего не потерял, потому что актер я был плохой.
Когда Курбас собрался уже уходить, я спросил его: как ему вообще живется и что он делает, когда свободен от работы в театре? И он ответил, что старается свободным не бывать, потому что вне работы слишком много разных мыслей лезет в голову. "Значит, — спросил я тогда, — мысли вы оставляете только для ночи?" "Нет, — ответил Курбас, — и ночью стараюсь не пускать их на порог: свой радиоприемник я еще усовершенствовал и до утра сижу с наушниками на голове, а когда, знаете, бормочет тебе в ухо, так не очень задумаешься — собственных мыслей за этим мировым радиошелестом и грозовыми разрядами не слышишь…"
Мы попрощались — пожали друг другу руку — "до завтра". Больше я Курбаса не видел.
И вот теперь, по прошествии нескольких десятков лет, за которые я из неискушенного юнца стал мужем преклонного возраста, а жизнь прожита долгая и не всегда простая, — я вспоминаю Александра Степановича Курбаса.
Лесю было всего сорок шесть или сорок семь лет, когда оборвалась его творческая деятельность. Сколько он мог бы еще сделать, если б работал весь отпущенный ему век? Я думаю, он много бы сделал. Потому что шел широким шагом человека большого роста.
Разрешу себе небольшую аналогию, скорее — образ. Когда Курбас подымался по лестнице, — а жил он на пятом этаже, — то шагал широко, сразу через две ступеньки на третью, ни разу не останавливаясь на маршах. Объяснял он эту свою "размашистую" походку тем, что у него, мол, больное сердце, семенить со ступеньки на ступеньку — тяжело, одышка одолевает. Но, думаю, причина была другая: такой уж у него был быстрый и порывистый характер, горячий темперамент. Вот так — широким шагом, без отдыха — шел он по своему творческому пути. Вспомним: драматический кружок "Руської бесіди" во Львове — "Театральные вечера" в Тернополе — театр Садовского — "Молодой Театр" — МОБ — "Березіль"… Марш за маршем — через две и три ступеньки. А в самом "Березіле"?.. "Рур" — "Газ" — "Джимми Хиггинс" — "Макбет" — "Золотое чрево" — "Народный Малахий" — "Мина Мазайло" — "Диктатура" — "Мак-лена Граса"… То были шаги через несколько ступенек вверх, а иной раз и… вниз. Пресловутая "европеизация" — рафинированный модернизм — безоговорочный примат идеи и содержания — бескомпромиссная деструкция форм — увлечение экспрессионизмом — поиски синтеза формы и содержания — провозглашение "монументального реализма" (термин "социалистический реализм" тогда еще не был сформулирован)… На этом пути движения вперед и экспериментов были взлеты, были спады, даже — провалы: ошибки "Народного Малахия", кривотолки в "Мине Мазайло", провал "Диктатуры" Микитеико. "Диктатура" — пьеса острых социальных конфликтов, четкой, даже несколько грубоватой выразительности в показе классовой борьбы, — эта пьеса, трактованная Курбасом в плане предельной театральной условности и почти оперной помпезности, потерпела в постановке "Березіля" полнейший крах.
Конечно, приходится принимать во внимание обстановку, в которой создавался этот спектакль, — острейшая критика театра "Березіль" и еще более острая — самого Курбаса: Курбас в ответ искал, кидался, метался, решал головоломки, а иногда и просто становился в тупик. Но сколько ни принимать во внимание обстоятельства, при которых шла работа над спектаклями, — а они, разумеется, толкали в пылу борьбы на фальшивый путь декларирования и патетики, — все равно трактовку классово-враждебной группы персонажей (куркулей) в плане трагедийном, что извращало идейный смысл спектакля, следует отнести целиком за счет самого Курбаса, его политической незрелости, а может быть, и идейной ущербности. Основания для самой острой критики ошибок Курбаса были безусловно, но, разумеется, этого все же недостаточно, чтобы заодно зачеркнуть и все, что сделал Курбас. То были ошибки, срывы, идейные провалы — их надо было раскритиковать и осудить, вернуть художника с ложного пути и указать ему правильный.
Был Курбас не только интересной и талантливой творческой личностью — выдающимся мастером-режиссером, неутомимым инициатором новых и новых начинаний, — но и великолепным педагогом, воспитателем творческой молодежи. Ведь ни из одного украинского театра того периода не вышло столько талантливых актеров и режиссеров, сколько из рук Курбаса. А театральные художники, которые были в театре не просто декораторами, но интерпретаторами спектакля вместе с постановщиком-режиссером? Их имена говорят сами за себя: Петрицкий, Меллер, Элева.
Значение всех сторон творческой и педагогической деятельности Курбаса для широчайших кругов украинских театральных работников трудно переоценить. Ведь тогдашний украинский актер, который только-только вышел из царской "резервации", из-под запрета национального театра, литературы и языка, в массе своей стоял на низком, даже очень низком уровне культуры: актеров да и режиссеров с высшим образованием не было вовсе, редко кто из актеров окончил гимназию, образовательный ценз чаще всего был на уровне четырех классов "городского училища", а не то и двухклассной церковноприходской школы, нередко попадались актеры-самородки и совсем неграмотные, которые даже роли свои заучивали с чужого голоса. В массе на украинской сцене тогда действовал не актер-профессионал, а актер-любитель. Провинция знала главным образом лишь бродячие труппы Колесниченко, Прохоровича, Макарченко и других халтурщиков типа "гаркун-задунайских"; в лучшем случае в больших городах — театр Сабинина или Сагатовского; Садовского видели лишь "избранные", счастливчики киевляне. "Лозунги" Курбаса привлекли в лоно украинского театра молодежь со средним и высшим образованием, а всю театральную периферию заставили тянуться за ней, отнестись к собственной работе критически и искать путей подняться на более высокую ступень — вот так, следуя за шагами Курбаса, через две и три ступеньки. Роль Курбаса на поприще украинского театра — молодого, первого советского украинского театра — огромна. Несмотря на все промахи, которые у него были, несмотря на все ошибки, которые он допустил, несмотря на все срывы в его творческой деятельности, в которых должен разобраться пытливый будущий историк и исследователь.
Будущий, собственно — нынешний, историк и исследователь украинского театра не должен упустить ни одного участка театрального искусства того времени — на каждом он увидит Курбаса, и каждый он должен рассмотреть внимательно и придирчиво. Он должен рассматривать его не только в историческом аспекте, по и отобрать все то, что оставил Курбас для нашей современности.
Вспоминаю мать Леся Степановича. Мы все обращались к неп, по старому обычаю, "пани Ванда", а за глаза привыкли говорить "панн Курбасова". Была она человек минувшего, старого века — с соответствующими, старомодными даже тогда привычками и традициями. Но то была женщина богатой души и щедрого сердца, одаренного ума и горячих чувств. Глаз у нее был зоркий, характер сильный, а язык — острый и язвительный.
Не могу не упомянуть, как однажды — это было уже через несколько лет после высылки Курбаса — ночью, окончив работу, я вышел на площадку перед своей квартирой. У окна стояла пани Курбасова: она часто выходила вот так ночью на площадку — подышать свежим воздухом: у нее было больное сердце, и она страдала бессонницей. Я подошел к ней, поздоровался, стал рядом и тоже глянул в окно.
Было уже за полночь, в окнах дома света не было: жильцы уже улеглись спать.
— На что вы, пани Вайда, смотрите? — спросил я, перехватив внимательный взгляд пани Курбасовой, перебегавший с одного окна на другое.
— Разве уже поздно? — спросила пани Курбасова, не отвечая на мой вопрос.
— Да нет, не очень, начало второго…
— Значит, еще время "робуче" для людей за столом?
Пани Курбасова говорила на характерном галицийском диалекте, иногда вставляя и полонизмы.
— Как для кого, — отвечал я. — Для нас, писателей, еще "робуче".
— Вот я и гляжу, как украинские писатели нынче работают в потемках, — язвительно отозвалась пани Курбасова.
Я посмеялся, сказал что-то. А потом, как всегда в разговоре с пани Курбасовой, речь зашла о Курбасе.
— Лесь вернется! — твердо сказала пани Курбасова. Она всегда говорила о сыне твердо и уверенно, не разрешая себе малодушия и горечи, скрывая боль. Это была мужественная женщина.
— Вернется! — поддержал я.
— Вернется! — еще тверже, с еще большей убежденностью произнесла пани Курбасова. Потом помолчала и добавила: — А если и не вернется, то все, что он сделал, останется народу… И имя его не забудут…
Она это произнесла спокойно и уверенно — голос ее даже не дрогнул.
Это говорила мать, которая верила своему сыну, серила в своего сына. Женщина, которая верила своему народу, верила в свои народ.
Пусть же имя Курбаса на ниве украинского советского театра не будет забыто; пусть останется для нас из его творческого достояния все то, что выдержало испытание временем и может пойти на пользу театру современному.
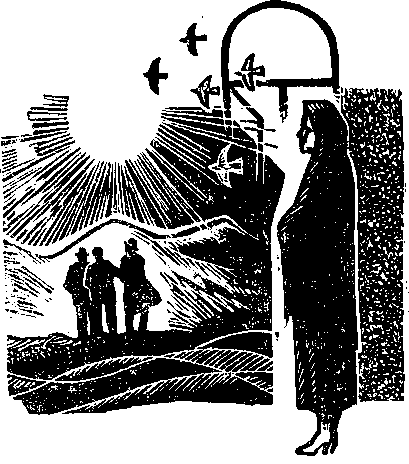
Назад: Десять лет спустя
Дальше: Яновский

