Книга: Том 2. Кащеева цепь. Мирская чаша
Назад: Звено шестое Зеленая дверь
Дальше: Звено девятое Положение
Саксонская фея
Далекий друг мой, не удержусь от соблазна передать вам кое-что из близкого, что сейчас окружает меня. Помните сынишку моего, о котором я говорил вам вначале, что сорок девушек выбрали его старостой: он теперь кончил свою школу и готовится в «вуз». Я прочитал ему эти письма к вам и просил его высказаться о романе Алпатова с Инной Ростовцевой и по возможности представить мне, как отнеслась бы новая молодежь к моему рассказу. Он ответил мне скоро, что лично его рассказ очень волнует, и верней всего потому, что он догадывается немного и о моей личной жизни, но современной молодежью такой рассказ не будет понят, они скажут: «Это не любовь, а только воображение». Долго мы спорили, он приводил мне множество примеров реальной любви в современности, и я каждый раз доказывал, что все его случаи тоже основываются на воображении, только в сторону, нежелательную для творчества на земле хорошего, сильного и умного человека. Но, сказав так, я испугался плена своих лет: ведь все отцы, часто в юности называющие себя материалистами и реалистами, в отношении своих детей потом становятся идеалистами. Итак, очень возможно, что и эти новые реалисты, чурающиеся воображения в любви, готовят Для своих детей какой-то новый идеальный сюрприз. Отбросив в сторону дурные возможности в современности, я стал вместе с моим сыном искать тот хороший смысл его реализма, из которого потом каким-то образом получается «идеализм», и мы вместе с ним решили, что этот реализм есть настойчивое требование современной молодежью новых форм быта, согласного с новой необыкновенной эпохой.
– Но тогда, – сказал я сыну, – мы с тобой далеко не ушли друг от друга: у нас в этом тоже не было примера, и каждый решал эти вопросы по-своему.
– Почему же, – спросил меня сын, – эта Инна у тебя все как-то не дается Алпатову и убегает?
– Уверяю тебя, сын мой, – сказал я, – что чувствую себя в рассказе не больше как маленьким колесом, через которое перекинут ремень от огромного маховика; я ничего не выдумываю: Инна должна убегать от Алпатова.
Я сделал уступку сыну, принимая во внимание обыкновенную склонность молодежи к натуральным законам.
– Я представляю себе, – сказал я, – что творческая сила природы, ставшая личным делом отдельного человека, преображается, но не изменяет общим законам; Инна должна бежать от Алпатова потому же, как в клетке для спаривания животных самка долго бегает по кругам и не дается самцу. И в брачном полете птиц всегда она стремительно летит впереди от него, и он ее догоняет. Вся разница с нами состоит только в том, что у них не обращают никакого внимания на тех, кто погиб в непобедимом стремлении каждого, размножаясь, продолжать свое бытие: роман животных кончается браком. В человеческом же мире, я так понимаю, чувство жизни разнообразней и тоньше, чем у животных, свадьба у нас не единственный конец, напротив, любовный пробег человека по земле интересует нас, как и его смертный пробег.
После этих слов мой сын глубоко задумался.
Друг мой, эта справка с современностью дает мне еще большую смелость отдаваться своему воображению, потому что я убедился, отцы не передали нашим детям готовых форм брака, матери в революцию променяли на хлеб приданое своих дочерей, и в этой пустоте быта мечты и сны Алпатова реальны и найдут своих толкователей.
Бывают повторные музыкальные сны, которые никогда уж больше не привидятся, если хоть раз попробовать их рассказать даже самому близкому или записать: в словах уходит сон навсегда от себя и больше не возвращается. Вот почему, наверно, так все боятся писать о самом близком и дорогом, почему, наверно, и так редки подлинные поэты. Но эти отпущенные на волю слова сами становятся как люди, часто вмешиваются в дела и переменяют отношения.
Вот так и Мина совершенно иначе встретила Алпатова, после того как он намекнул ей о своей необыкновенной любви. Его слова о своем самом близком хотя и показались молодой женщине шуткой или поэтическим сном, но не прошли даром, и она с играющей улыбкой на своем лице почти дружески спросила его:
– Как у вас дела идут, господин Алпатов, нашли вы свою невесту?
Алпатов грустно ответил:
– Нет, добрая фрау Шварц, моя невеста сегодня уехала в Йену и даже адреса мне своего не оставила.
Мина всмотрелась в Алпатова и поняла, что невеста не выдумка. Она тоже серьезно и задушевно сказала:
– Не тужите, пожалуйста, не тужите, радуйтесь, что ваша невеста уехала из этого военного каменного Берлина. Йена – моя родина, это чудесный маленький городок, и русскую фрейлейн вы там сразу найдете.
Потом она рассказала о какой-то Зеленой Германии. Там, в Тюрингенских горах, покрытых милыми лесами, всегда окутанными фиолетовой дымкой, расположились маленькие города, в которых живут садовники, эти города не враждуют с природой, и люди там очень добрые, совсем не такие, как в Пруссии.
Когда Мина сказала слова Зеленая Германия, Алпатову смутно что-то вспомнилось, но только этой ночью во сне он догадался, что это было: эта Зеленая Германия явилась ему как Зеленая Дверь, сон, повторявшийся, как ему казалось, тысячи раз. Зеленая Дверь всегда являлась ему в куще деревьев, обвитых хмелем, закрытых внизу высокой, непомятой травой. И он должен идти в эту дверь, не задевая ни одной травинки, не тревожа ни одного жучка…
Весь этот сон был музыкальный, мелодии всякий раз были те же, и такие отчетливые, что каждый раз тут же в конце являлось решение непременно их пропеть. Но каждый раз неизменно все попытки пропеть ему не удавались. Очень возможно, что те, кто утром, отправляясь на службу, иногда насвистывают какую-нибудь общеизвестную мелодию, заменяют этим свою небывалую. Но Алпатов при всей своей музыкальности был человек с неверным слухом, и, кроме того, собственная мелодия казалась ему такой прекрасной, что и в голову ему не приходила возможность отсвистать вместо нее что-то другое. Вместо этого ему хочется двигаться, что-то переменить, что-то начать. И так «пройти в Зеленую Дверь» превращается наяву в решение ехать в Зеленую Германию, и как можно скорей.
А Мина и не сомневалась нисколько в Алпатове: она с вечера уже решила, что жилец ее непременно утром поедет в Йену, кое-что испекла даже для фрау профессорши: Ниппердай, у которой долго служила. Она уверяет Алпатова, что фрау Ниппердай непременно в тот же день, сегодня же, разыщет ему невесту: ведь она же и ей помогла выйти замуж за Отто.
В передней Мина, прощаясь с Алпатовым, настаивает:
– Нет, вы так забудете, вы запишите на бумажке: «фрау Ниппердай» – и завяжите на память себе узелок.
Алпатов завязал узелок и еще раз пожал руку доброй женщине. И, выйдя на улицу, он не забыл поглядеть наверх, и угадал: Мина была у окна. А потом, на повороте, когда он в последний раз посмотрел, там во всех этажах на балконах хозяйки в белых передниках развешивали под действие солнца и ветра пуховики и ночное белье, из-под крыши махала ему Мина белым платком, а внизу щетками чистили, поливали асфальт, и всюду пахло водою и камнем.
Рахманый лесник
Сон о Зеленой Двери еще не совсем отлетел, когда Алпатов из окна вагона, набитого рабочим людом, женщинами с огромными корзинами, увидел покрытые фиолетовым лесом отроги Тюрингенских гор. В этих горных лесах было столько простого, к чему так легко привыкать, и такого заманчивого и похожего на сон о Зеленой Двери, что Алпатову захотелось обнять одного чистого старика из Саксонии, сидящего на корзине, и в этот самый момент наконец он отгадал значение одного немецкого слова, сказанного о саксонцах Миной при расставанье. Она своих земляков назвала gemuthliche Sachsen, и Алпатов весь день искал в русском языке подобного слова: добрые, простые, уютные – все было не то. Но когда ему захотелось обнять лесника, покрытого добродушными саксонскими морщинами, он вдруг догадался, что значит по-русски немецкое слово: саксонцы рахманый народ. Этот лесник рассказал Алпатову, что в Йене все хорошо, много садов и всяких плодов, и в лесу на каких-то хвойных кустах есть совсем маленькие синие ягоды, они очень рот освежают в жаркое время, и квас из них в Саксонии делают прекрасный. А когда лесник, в свою очередь, поинтересовался, зачем Алпатов едет в Йену, то было так легко и просто сказать ему о невесте и что он прямо из вагона отправится искать адресный стол.
– Не надо время терять, – сказал рахманый старик, – ваша невеста остановилась, наверно, у фрау профессорши Ниппердай.
– Ниппердай! – воскликнул Алпатов. – Но как же вы догадываетесь, что невеста моя у профессорши?
– Очень просто, – ответил лесник, – Йена небольшой город, иностранцы все останавливаются у фрау Ниппердай, у нее комнаты с окнами в горы. Я живу там недалеко от нее, нам по пути, я вас провожу, и вы непременно найдете невесту.
А вишни уже поспели, и когда Алпатов с лесником очутились на дороге-аллее из фруктовых деревьев и некоторые спелые ягоды, висевшие над самой боковой тропинкой, стали заглядывать прямо в рот, то Алпатов с восторгом узнал в этом волшебные рассказы в детстве о европейских дорогах-аллеях. Одна спелая вишня была так велика, что Алпатов не удержался и погладил пальцем ее бархатную кожицу. А спутник, обремененный тяжелой корзиной, заметив это, сказал:
– Кушайте, кушайте!
– Боюсь, – ответил Алпатов, – я слышал, что никому нельзя трогать придорожные фрукты.
Старик до того удивился, что даже опустил на землю корзину и присел отдохнуть.
– Кто это вам наговорил, – сказал он, – мы не трогаем сами, потому что нам незачем: у нас почти у каждого есть свой сад. Но я вас очень, очень даже прошу: кушайте на здоровье. Ведь и саксонцы тоже бывают в России и, наверно, там тоже едят. У нас довольно всего такого, прошу вас, не стесняйтесь нисколько и кушайте, сколько только вам хочется.
Были на пути еще аллеи из груш, яблонь, каштанов и слив. Оставалось уже немного до леса, и показался уже шпиль дачи профессорши Ниппердай, но лесник упросил Алпатова свернуть немного в лес с дороги полюбоваться замечательной, тюрингенской ягодой.
Они прошли немного лесом до полянки с кустами, и тут лесник указал обыкновенные голубые ягоды можжевельника, которыми в России питаются тетерева. Алпатов хорошо знал их по запаху, но никогда не приходило ему в голову попробовать. Ягода оказалась сладковатой, и рот наполнился ароматом леса. Старик заметил, что Алпатову понравилось, и он сказал на прощанье:
– Кушайте, сколько только хотите, это очень рот освежает, а потом идите вот по этой тропинке, мне вот сюда надо, в эту сторону, а вам туда, к невесте, она живет там, вон там!
Белая шаль
Очень хотелось Алпатову побыть одному среди высоких деревьев, слегка шумящих вершинами, но вечерело в лесу, и надо было искать ночлега. Он пошел по тропинке, не думая, что усадьба профессорши находилась так близко. И как-то вдруг деревья расступились, и Алпатов очутился среди клумб против террасы, на которой ужинало много людей. Его оттуда заметили, и, видно, все стали с удивлением ожидать выходящего из леса. Но скоро он не мог подойти к террасе, потому что не было ни одной прямой дорожки, мало того, он попал в лабиринт, и пришлось даже вернуться назад. Все это очень смущало Алпатова, ни разу еще не бывавшего за границей в образованном обществе. Лица на террасе долго не определялись, и только уж когда он был совсем близко, глянула на него властная старушка в сером платье. Алпатов снимает шляпу, приветствует фрау Ниппердай. Он – русский турист, ищет себе комнату для ночлега. Профессорша просто ответила:
– Я сама догадалась, что вы ищете пансиона, есть одна свободная комната, прошу вас к столу.
И Алпатов попадает в непрерывный поток небольших тарелок с копчеными рыбками, с маслом, с сыром, колбасами, с хлебом белым, сладким, черным, кислым и каким-то еще кисло-сладким. Каждая тарелочка приходит с любезным пожалуйста, и на это постоянный ответ благодарю, и самому надо проводить непременно с «пожалуйста» и себе остается «благодарю», и только взялся за вилку, является новая тарелочка, и ее опять надо вежливо встречать и провожать. По всему большому круглому столу не столько едят, сколько угощают, благодарят, и так бегут непрерывные банке и битте. Алпатов, однако, очень скоро определяется в этом потоке, ему вспомнилось, как по торжественным дням к его матери приходила старая дьяконица Евпраксия Михайловна с подрастающей дочкой Нюрой и сидела с ней рядом на стульях возле стены, а потом за столом обе сидели ни живы ни мертвы, приглядываясь к другим: как все, так и они. Алпатов смирился до дьяконицы, и в немецком обществе это как раз и надо было, чтобы показаться воспитанным молодым человеком из хорошего общества. Фрау Ниппердай, очень довольная, сказала:
– Как это счастливо вышло, только сегодня выехала от нас очаровательная русская девушка и уступила свою комнату милому земляку.
– Разрешите узнать ее имя? – спросил Алпатов.
– Имя ее, – ответила хозяйка, – фрейлейн Инна Ростовцева.
– Ах!
И когда потом улыбнулась хозяйка, и все улыбнулись, и Алпатов с недоумением поглядел, профессорша объяснила:
– Вы сказали свое «ах!» совершенно так же по-русски, как фрейлейн Инна, мы все учили ее выговаривать по-нашему, гортанно, и она никак не могла. Но почему же вы сказали при ее имени «ах!», разве вы ее знаете?
– Я с ней встречался в России.
– Она рассказывала нам много чудесного, как в России девушка иногда идет на свидание в тюрьму к не известному ей заключенному, будто его невеста, и что она тоже ходила, и у нее есть жених, с которым она виделась только раз через двойную решетку, и она ждет его теперь сюда. Это было очень похоже на роман Вальтера Скотта.
Алпатов успел овладеть собой и ответил:
– А мне кажутся такие романы скорее в духе Шехерезады, тысяча и одна ночь.
С этим все согласились, и один филолог даже пытался подтвердить это фактами влияния арабской культуры на славянскую в древности через торговые сношения в низовьях Волги. После ужина фрау Ниппердай сама ведет Алпатова показывать ему комнату, самую большую и светлую в ее пансионе. Заря еще не совсем погасла, в огромные окна виднелись холмы, покрытые лесом, и, увидев их, Алпатов решился спросить фрау профессоршу, куда же уехала фрейлейн Ростовцева?
– Вы, русские, удивительные люди, – ответила профессорша, – вы можете к поэтическим вымыслам, всяким художественным и музыкальным образам относиться так же, как мы к деловой действительности: фрейлейн Инна главным образом желает повидать зал на Вартбурге, где состязались певцы Вольфрам и Тангейзер, ее интересует история Веймарского герцога, по-видимому, гораздо больше, чем современного дома Гогенцоллернов или Романовых, а в заключение своей поездки она хочет повидать в Дрездене Рафаэлеву «Сикстинскую мадонну» и некоторые шедевры венецианцев.
Фрау Ниппердай хотела, кажется, еще что-то рассказать о дальнейших планах счастливой русской фрейлейн, но вдруг вскрикнула и всплеснула руками:
– Фрейлейн Инна забыла у нас свою прекрасную шаль!
– Не беспокойтесь, – ответил Алпатов, – в Дрездене-то я уж, наверно, увижу ее, а может быть, догоню еще раньше и передам ей эту шаль непременно, будьте покойны.
– Так, значит, и вы тоже хотите ехать поэтическими следами нашей истории? Какие вы счастливые люди! – сказала профессорша.
И, пожелав Новому жильцу покойной ночи, вышла из комнаты. Алпатов запер дверь на ключ и долго рассматривал старинную шелковую, белой гладью шитую, шаль.
Ступенчатый сон
Бывает, приснится желанное и совершенно невозможное в жизни и так страстно во сне прирастает к тебе, что, пробуждаясь, не сразу расстаешься с видением, а постепенно спускаешься к действительности, как по лесенке в холодную воду. Алпатову еще в раннем детстве, повторяясь потом не один раз, снилась березка с золотыми, гармонично звенящими листьями. Он подходит к певучей березке и на память берет себе несколько золотых листиков. После того он спускается на одну ступеньку и тоже видит во сне, будто пробудился, и оказывается, что в действительном мире не бывает берез с золотыми поющими листьями. Однако рука что-то нащупала в кармане, сердце забилось надеждой: вот пальцы уже определили предмет, и только страх перед новым обманом запрещает вырваться из груди ликующей радости. Вот в руке наконец сверкает золотой листок, и хочется стремительно бежать к людям, скорей, как можно скорей объявлять им существование чудес на земле, означающих в то же время почему-то спасение мира, полное избавление от Кащеевой цепи несчастных, заключенных и осужденных всюду в поте лица добывать себе хлеб и в болезнях рождать новых и предвечно проклятых людей. А после великой радости сон спускается еще на одну ступеньку, и все обнажается: в жизни не бывает певучих берез.
В эту ночь Алпатов видел новый ступенчатый сон. Рахманый саксонец будто бы показывает ему прикрытую кустом можжевельника тайную тропинку в лесу и говорит ему: «Идите, мой господин, туда, ваша невеста там, вон там». По этой тропе Алпатов идет недолго, показывается знакомая Зеленая Дверь, закрытая тончайшим сплетением трав, через которые надо пройти, не задев ни одной. И вот, оказывается, нет никакой трудности пройти между травами и не согнуть ни одного цветка, не потревожить ни одного жучка; нужно только для этого отказаться от всякой выгоды для себя. Оказывается, оставлять выгоду сзади себя, по ту сторону Зеленой Двери, очень легко, и обыкновенный страх перед этим – великий обман. Выгодное – это значит мелкое, совершенно лишнее, а большое свободно проходит между травами, обнимая их, как воздух, не шевеля ни одного лепестка на цветках. А на той стороне все те же самые можжевельники, сосны, ели, тропинки, луговые цветы, и только одним она отличается от обыкновенного мира, что растет музыкально, все совершается музыкально, везде вокруг естественная музыка, которой с таким трудом подражают в обыкновенной жизни, проделывая смешные движения локтями и пальцами. Невеста приходит… Сон обрывается. Остается только слабое воспоминание о какой-то вещи, оставленной невестой у него на руке. Но из этого маленького воспоминания мало-помалу разгорается великая радость, потому что ведь не очень трудно жить и страдать, если знать по какой-то вещице о волшебном музыкальном мире, существующем в простых вещах. Вот она, белая шаль, он ее видит, она перешла в жизнь из музыки. Кажется, нет никакого сомнения, но все-таки лучше проверить и спуститься еще на одну ступеньку. Так он спускается все ниже и ниже, а шаль остается. Вот он уже ясно слышит голоса за стеной и в коридоре, узнает даже голос профессорши, понимает, что это на веранде кофе готовят…
В этот раз Алпатову так и не пришлось спуститься с последней ступеньки, и в жизни осталось, как во сне: в огромном окне сияли холмы Зеленой Германии, на голубом великом небе плавали спокойными кругами два коршуна, на некрашеной сосновой стене висела большая белая шаль…
Зеленая Германия
Алпатов не обратил никакого внимания на Германию военную, о которой с возмущением говорили все либеральные люди. Он смотрел в Берлине на жизнь по линии лучших возможностей, главой государства был ему Бебель, а не Вильгельм, господствующими классами не юнкерство и буржуазия, а только пролетариат. И когда он обернулся в прошлое страны, в провинцию, то на первый план у него выступил не Бисмарк, объединивший все провинции, а веймарский герцог с поэтами Гёте и Шиллером. Волшебная шаль в баульчике, прикрепленном к рулю велосипеда, приглашала русского юношу дивиться земле Зеленой Германии, каждый аршин которой был любовно преображен человеком.
И кто, кроме русского человека, задавленного невозделанной землей, мог бы так понимать по контрасту величие преобразующего труда человека не гениального, а самых обыкновенных людей, которых в России презрительно называют обывателями. Ведь там только врагам говорят скатертью дорога, призывая этим как бы чудесные силы для избавления от врага. Там врагу желают прекрасной дороги, только чтобы он поскорее убрался, а друг осужден всю жизнь тащиться по невылазной грязи. В Германии для всех дорога была скатертью по всей стране, и так было прекрасно катиться по ней на резиновых шинах, так чудесно было остановиться под тенистым деревом и оглянуться с восхищением на преображенную землю. Алпатову казалось, будто библейское проклятие человека – осуждение на подневольный труд – относилось только к России и туда, в черноземный центр России, был низвергнут из рая первый Адам. Сколько слышится там жалоб человека, осужденного обрабатывать землю в поте лица, сколько там стонов женщины, рождающей в муках детей, иногда прямо в полях или на поскотине. Казалось, самому богу наскучили жалобы, и он создал второго Адама, но русская глина не могла дать лучшего, и новый Адам опять согрешил и опять был низвергнут на землю, которая была уже вся занята первым Адамом. Тогда, на удивление миру, в стране бесконечных степей и лесов появился новый человек, безземельный русский крестьянин, возмущенный на бога: осудил обрабатывать землю, а землей обошел…
Алпатов когда-то воспитал еще в себе теоретическое презрение к жизни немецких фермеров и крестьян. Так выходило, что это – самая косная часть населения, закоренелое мещанство.
Что-то мелькало Алпатову теперь еще не совсем ясное, над чем потом, он знал, придется много-много подумать. Волшебная шаль преобразила предметы, и мещанская страна превратилась в прощеную землю, Зеленую Германию. Казалось, вдали везде синели леса, но когда к ним приближался, то все оказывалось рощами, саженными рукой человека. Везде были рощи между полями, но в этих саженых лесах птиц пело гораздо больше, чем в огромных диких русских лесах, и время от времени через лесные поляны перебегали настоящие дикие козы.
Мало-помалу все перекинулось и на себя самого: раз он теперь в прощеной стране, то и он может принять участие в ее радостях, пусть временно, пусть как гость, но хоть временно, а все дай сюда, и потому долой все прежнее: худа от этого нет никому.
Кажется, мечты романтиков до сих пор остались фиолетовой дымкой над лесными Тюрингенскими горами. Белая дорога, как волшебная шаль убегающей невесты, вьется между горами. Русский юноша пьет холодную воду из ключа, возле которого шли пилигримы и своим пением напоминали Тангейзеру его рыцарский долг. Вот и зала на Вартбурге, где состязались певцы и Вольфрам пел о вечерней звезде. Алпатов добился своего, ему здесь сказали: невеста его здесь была. А в Веймарском парке он бродит по тем же аллеям, где Гёте бродил, и читает по-немецки вслух его «Ифигению». Новый смысл открывается ему в знаменитой трагедии на месте ее происхождения. Ифигения была в своем роду проклята, но своей волей, разумом, милосердием разбила Кащееву цепь.
Из Веймарского парка можно по тропинке спуститься в крестьянский трактир и за кружкой пива читать весь день том натурфилософии Гёте, купленный в лавочке за несколько пфеннигов. Алпатов поглядывает, читая, время от времени на фиолетовую дымку германских лесов, и ему кажется, что такого ничего не бывает в России. Большое облако подплывает к горе; в тот момент, когда встречается с горой, вдруг является весь смысл прочитанной книги. Впрочем, он знал, конечно, это и раньше, да не смел выразить, а вот в книге нашел подтверждение: эта книга была о внутренних чувствах жизни. Ведь с чем было больнее всего расстаться – это с чудесами, когда явился на это запрет, как на обман: что мир в шесть дней сотворен, что Моисей мог добыть воду из скалы ударом жезла, что жезл Аарона расцвел. Но вот теперь, если признать законы естественные, как необходимые берега, то внутри берега течет река чудес, и сотворение мира в законах эволюции не лишается прелести чуда, и, конечно, тоже можно понять и воду Моисея, и цвет Аарона, и так все: только перенесть чудо внутрь закона, и чудо начинает свою собственную жизнь, и музыкальная сказка обращается в самый глубокий закон жизни.
Алпатову казалось, что он нашел у Гёте себе целый новый мир, и никак не приходило ему в голову, что и самого Гёте ему открыла волшебная шаль, заключенная в баульчике, привязанном к велосипеду, и в то же время раскинутая необыкновенно ровной, как скатерть, дорогой.
Волшебная шаль, соединенная с натурфилософией Гёте, обещает Алпатову чудеса не только в этих тенистых аллеях, айв самом черном труде. Почему бы ему вот прямо не подойти к этому великану с синими помочами поверх белой рубашки и не расспросить его о творчестве чудес Зеленой Германии? Великан-садовник что-то делает с большой кучей навоза. Алпатов сходит с велосипеда, кланяется. Великан ждет.
– Я иностранец, – говорит Алпатов, – я очень интересуюсь, как в Германии обходятся с навозом.
– Ах, это очень интересно, – говорит великан. Садовник вполне понимает интерес Алпатова, и это понимание кажется русскому юноше совершенным доказательством, что внутри законов природы живут сказки и чудеса.
А великан с большой охотой и радостной гордостью рассказывает о своем простом деле: из этой большой кучи навоза ночью стекает жидкость в бетонную канавку – это драгоценная жидкость. Каждое утро жидкость надо вернуть навозу, и она потом снова стекает в канавку и опять возвращается.
– Это золото прошлого, – сказал великан, – и мы его охраняем: от нашего ухода навозу бывает очень хорошо.
Алпатов схватился за эти слова: он по-немецки еще не может просто понимать слова, и часто они у него одушевляются, как в раннем детстве свои родные слова, ставшие только долго спустя в привычке обыкновенными.
– Вы сказали, – спросил он, – навозу бывает хорошо от вашего ухода, как будто навоз может чувствовать?
Великан улыбнулся иностранцу.
– А, конечно, навоз может чувствовать! – И, немного подумав, прибавил: – Сначала навозу бывает хорошо, а потом и человеку, потому что это известно, если хорошо навозу, то и хозяину потом бывает хорошо.
Вот и все, что Алпатов узнал от садовника, но ему и в этом было немало. Теперь, на что только он ни глянет, ничто от него не отвертывается и не упрекает, как на родине. Прекрасная, совершенно белая дорога по зеленым полям, ровные канавки возле дороги, плоды на деревьях, свисающие до самого рта, красивые коровы, среди которых ходит и египетский Апис, рабочие кони-великаны с огромными телегами, перелески с поющими птицами, белые двухэтажные дома в деревнях и, главное, сама земля, возделанная, удобренная, с верхним бархатным слоем, – все говорит по-своему:
– Мне хорошо, и потому хорошо человеку.
«Сикстинская мадонна»
По всей Зеленой Германии везде в отелях от служащих девушек, в ресторанах от кельнеров, и от проводников по горам, и от старика в домике Шиллера Алпатов узнает о русской девушке, прекрасной, веселой и щедрой. Были ответы на его вопросы «когда проехала?» сначала «позавчера», потом, когда он весь день просидел над книгами Гёте и отстал, ему ответили «третьего дня», и опять он нагнал, и на горе Венеры барышня, торгующая открытками, сказала: «Русская фрейлейн проехала позавчера, накупила множество открыток, долго писала в беседке и поручила отправить на почту». После того Алпатов почти не сходил с велосипеда, и на Эльбе ему сказали на пристани: «Русская фрейлейн вчера проехала в Дрезден, и ее сопровождал молодой швед».
– Как швед? – удивился Алпатов.
А сам смотрит на дорожку, усыпанную желтым песком, туда далеко, где на скамейке под каштанами, кажется ему, молодой швед целует какую-то барышню.
– Это не она! – сказал Алпатов.
– Вы можете точно узнать в отеле, – ответили на пристани. – Там все иностранцы расписываются в книге.
Долго роется Алпатов в книге, но не может найти желанного имени. Его уверяют, что русская фрейлейн вчера здесь обедала.
– Одна? – спросил Алпатов.
– Совершенно одна.
Алпатов очень обрадовался и подумал: «Ну, теперь уж я, конечно, найду ее, если только она заглянет в музей посмотреть „Сикстинскую мадонну“».
День ли удался такой в природе яркий, или у людей был какой-то праздник, или этот праздничный город, как вечнозеленое растение, был сам по себе предназначен для вечного праздника? Алпатов, входя в Цвингер, среди множества людей в богатых одеждах вдруг вспомнил одну, забытую им, прочитанную в раннем детстве сказку-поэму о юноше Нолли и какой-то девушке, разбившейся о скалу в радостном порыве жизни. Юноша несет на руках хоронить любимую девушку, а везде в воздухе пролетают весенние духи радости и зовут принять участие в великом празднике, и никто даже не понимает его земную скорбь. Кто был автор этой волнующей сказки, Алпатов не помнил, как иной и великий художник не помнит, что все его искусство произошло от волнения, испытанного им при нечаянном взгляде на какой-то лубок, как не помнит поэт и писатель свое начало от нескольких слов, схваченных в бульварном романе, и композитор от шарманки, и великий человек от проникновенных слов, услышанных им в детстве от неграмотной нянюшки…
Весь огромный музей предстал Алпатову как воспоминание сказки, и чудом казалось, что ту же самую сказку переживали все художники с далеких времен. И он шел из одной залы в другую очарованный и как бы пьяный от постоянных рассказов в красках и линиях одной и той же своей собственной сказки. Он не обращал никакого внимания на множество празднично разодетых людей, среди которых, может быть, бродила где-нибудь, рассматривая тех же голландцев и венецианцев, его невеста. Если же случалось ему оторваться от картины и бросить взгляд на живое лицо, то в свете живописи лицо это определялось какой-нибудь школой, встречались лица фламандской школы, голландской, венецианской. Рубенс, Ван-Дейк, Тициан распределялись в живой толпе на лицах людей, как на стенах. Но зачем было собирать в толпе пятна отраженного творчества, если на стенах висели оригиналы великих творений? И потому не было ничего странного в том, что юноша узнавал свою невесту по какой-то детской сказке в картинах великих мастеров и совершенно забыл, что она, живая, бродит где-нибудь тут, возле него. И когда он нечаянно вошел в комнату, назначенную одной только «Сикстинской мадонне», то сразу узнал в ней что-то очень знакомое и совершенно простое и прекрасное. Подумав немного, он вспомнил: это было в жаркий день на опушке дубового леса, жнея подошла к люльке, висевшей под деревом, взяла ребенка, стала кормить и осталась в памяти святая, как и мадонна Сикстинская…
Такое простое внутреннее чудо, такое обычное, ежедневное, почему-то выходило на картине бесконечно значительным, и вся картина была большая, как океан. Похоже было с Алпатовым, как если бы странник, долго, мучительно путаясь в тропинках по тундре, совершенно усталый выбрался на последнюю скалу берега и вдруг увидал океан.
Алпатов не заметил в первое время, что по стенам этой комнаты были красные диваны и что на них сидели люди, смотрели на картину-океан. Некоторые из этих людей уходили домой после звонка только затем, чтобы переночевать и потом на другой день опять глядеть в простое и бесконечное. Алпатов это заметил вдруг, и ему стало очень стыдно ходить по комнате и невольно попадать между картиной и чьим-то глазом. Он высмотрел себе свободное место и, опять рассматривая мадонну, стал вспоминать святую жнею, чудесную бабу под Ельцом, у колыбели под дубом. Так в этот день странным образом сходилось все к одному: в Ифигении открывался человек, победивший проклятие свое, а картина Рафаэля раскрывала естественную невинность людей…
Потом в комнату вошел какой-то человек и остановился перед картиной так же, как и Алпатов, не замечая, что должен мешать сидящим на диванах. Но Алпатов не посмотрел на вошедшего и только с досадой чувствовал его близость. Скоро он привык к этой тени в глазу, но тень перешла и о себе напомнила. Она странствовала из стороны в сторону и раздражала все больше и больше. Некоторые стали с досадой оглядываться на тень, и кто посмотрел на нее, почему-то уже долго потом не возвращался к картине. Алпатов, заражаемый всеми, тоже поглядел на человека, бросающего в глаза тень, и, как только глянул, тоже забыл о картине: странствующий по комнате человек был его друг Ефим Несговоров. В первый момент Алпатов подумал, что сходит с ума, – до того невероятным было ему встретить Ефима у «Сикстинской мадонны». Казалось, века прошли с тех пор, как он в тюрьме целые ночи перестукивался с Ефимом, и за эти века так сложилось по-новому, что Ефим вдали где-то в России представлялся самым дорогим на свете существом, а вблизи было почему-то за него стыдно и даже не хотелось бы совсем тут его встречать… А когда Алпатов через какое-нибудь мгновение убедился окончательно, что это Ефим, то ему мелькнула даже мысль незаметно удрать из музея, но он тут же себя на этом поймал и перемог силу беспричинного отталкивания. Ефим был такой же, как в России, в черной косоворотке, опоясанной тоненьким ремешком, в яловочных, не имеющих блеска смазных сапогах, с лицом святого разумника, с улыбкой, от глаз без помощи щек переходящей на губы. Мелькнуло Алпатову при виде Ефима что-то задорное в себе, такое новое, за что он, может быть, еще и постоит и даже вызовет Ефима на бой… Вот Ефим был в Цвингере такой же, как и в Ельце, а у него в одной петличке цветок, в другой жетон стрелкового общества, и там, в баульчике, волшебная шаль, и в голове постоянный образ невесты, переменчиво мелькающий в картинах великих художников. Ефим, очень может быть, в это время и творение Рафаэля старался подогнать в цепь причин и следствий монистического взгляда на историю… Все это мелькнуло в одно мгновенье как неприятное ощущение чего-то слишком домашнего, но в следующее мгновение он смахнул с себя это и встал, чтобы радостно броситься к другу. Но раньше Алпатова к Ефиму подошел наблюдатель и попросил его оставить музей.
– Вы можете, – сказал он, – дома переодеться и вернуться: времени у вас еще довольно.
Ефим улыбнулся по-своему.
– В каком же костюме, – спросил он, – надо появиться у вас в музее?
– В каком угодно, – ответил наблюдатель, – такое постановление администрации: каждый посетитель должен быть прилично одет.
В это время подошел Алпатов и, обнимая Ефима, сказал:
– Все дело, Ефим, в крахмальном воротничке, пойдем купим, ты еще не привык к этому.
Потом они вышли на лестницу, и, спускаясь, Ефим осмотрел Алпатова и сказал:
– Зато как скоро ты привык, совсем неузнаваемый. Алпатов покраснел, Ефим это заметил и улыбнулся. – А впрочем, – сказал он, – по существу, ты все такой же, у тебя все на лице написано.
– Ты знаешь, – болтал Алпатов, чувствуя, как все больше и больше деревенеет язык, – в Германии все так дешево.
– Знаю, – ответил Ефим.
– Тут, – продолжал Алпатов, – все так устроено, что и рабочий может нарядиться.
– Едва ли, – промолвил Ефим.
– Как едва ли? Есть крахмальный воротничок за две марки, но есть и за пять пфеннигов; тоже блестящий белый воротничок, конечно, бумажный, но…
– Все-таки бумажный…
После того Алпатов не знал, что сказать, и шел, как привязанный на цепь, убежал бы охотно, да не мог: Ефим молчал и держал. И так они перешли Эльбу. А потом Ефим совершенно спокойно, очень возможно и не чувствуя неловкости Алпатова, спросил:
– Ты зачем здесь?
Но Алпатов не мог так оставаться и вызвал своего старого друга, он сказал, что в России считал самым отвратительным для революционера:
– Я занимаюсь эстетикой.
– Эс-те-ти-кой, – повторил раздельно Ефим.
И засмеялся по-своему раздельно глазами и губами. Алпатов любил, когда Ефим так смеялся над кем-то, но первый раз с отвращением и ненавистью узнал на себе силу этой улыбки без помощи щек.
– Как же это ты так занимаешься эс-те-ти-кой? – спросил Ефим.
Алпатов ответил:
– Я сегодня видел… – Он хотел сказать – «Сикстинскую мадонну», но злость прилила к его сердцу, и он выговорил: – Я видел матерь божию…
Ефим стал очень серьезным и ничего не сказал. Они прошли немного по бульвару молча. Потом Алпатов спросил:
– А ты учиться приехал?
– Да, между прочим и учиться медицине в Берлине.
– Зачем же ты в Дрезден попал?
– По одному дела.
– А я видел, как ты мадонну рассматривал: мне казалось, ты искал под этой необыкновенной идеологической надстройкой экономический базис.
– Нет, я не об этом думал, – ответил Ефим серьезно и почти грустно, в тюрьме я пережил охоту к этой нашей юношеской схоластике, я думал о другом. – Он остановился в проходе бульвара и сказал: – Я живу в этой маленькой гостинице, там во дворе есть сад, давай пообедаем. Я тебе там скажу, о чем я думал.
Алпатову стало полегче, и, когда кельнер принес, не спрашивая согласия, пива, ему захотелось снова болтать, и он стал объяснять Ефиму значение немецкого выражения Bierzwang – это значит принудительное пиво, хочешь не хочешь, а пей. Выдумывая, Алпатов стал рассказывать историю происхождения этого принуждения, оно будто бы явилось из Пруссии как сопутствующее явление объединения Германии и централизации власти.
Ефим перебил болтовню:
– Ты что-то вертишься и как-то задираешь, мне вспоминается жених из «Дыма» Тургенева, как он тоже вертелся, когда влюбился в Ирину, и вдруг к нему явилась прежняя невеста и теща. В чем дело? Что с тобой произошло? Почему ты разоделся, сидишь среди буржуазии и смотришь на мадонну, как сыч?
Алпатов весь сжался для борьбы и ответил:
– Сознайся, Ефим, ты ведь тоже пришел посмотреть на мадонну, и ты по-своему смотрел с большим любопытством, и если бы не твой костюм, то имел бы время заметить, как ты мешал другим, и тебе непременно пришлось бы сесть на красный диван, и ты бы тоже смотрел на мадонну. Тебя тоже, как и всех, тянет к себе мадонна.
– Меня тянет, – ответил Ефим, – я тебе сейчас постараюсь сказать обещанное: меня тянет затаиться где-нибудь под одним из диванов, на которых сидят созерцатели мадонны, дождаться звонка и перележать там время, пока уйдут сторожа, а потом вырезать мадонну и уничтожить.
Алпатов опустил глаза и, бледный, тихо сказал:
– Я мог бы за это убить.
Ефим стал в упор смотреть на Алпатова и спросил:
– А можешь?
– Я могу постоять за свое, – ответил Алпатов. – Помнишь, у нас, в Задонске, мы не раз с тобой говорили об этом; рыжий мужик захотел по примеру Христа вознестись с колокольни на небо, бросился и разбил себе ноги. Он погиб бесславной смертью, но я предпочел бы бесславие рыжего мужика, чем бессмертную славу грека, уничтожившего храм Дианы.
– Ты вспомнил рыжего мужика, – ответил Ефим, – вспомни же основного безумца, который сказал: «Разрушьте храм сей, и я его в три дня снова создам», – ты как понимаешь эти слова?
– Понимаю просто: Христос о себе говорил, что идея его бессмертна, и если его убьют, она будет исполняться в другом.
– Тогда почему же ты боишься за мадонну, что готовишься за нее убить живого человека? Если ты уверен, что в ней заключается великая идея, то она непременно возродится в том классе, где станет рабочей ценностью жизни, а не предметом созерцания расслабленных людей на диванах. Мне кажется даже, что человек, выпивший яд красоты женщины из картины, не узнает ее, когда встретит живую мадонну.
– Я узнал! – воскликнул Алпатов.
И рассказал, что первая мысль его при встрече с картиной была об одной жнее, в жаркий день кормившей грудью своего ребенка.
– Я прав, – ответил Ефим, – ты встретил жнею до мадонны и потом узнал мадонну в жнее. «Сикстинская мадонна» только напомнила тебе твою собственную, живущую в грязи под Ельцом. Но если бы ты вперед встретил Сикстинскую, то не узнал бы в деревенской бабе мадонну. И вполне понятно: ты бы тогда вперед жизни забежал, и возвращаться тебе бы стало неинтересно, все равно как мужик, соблазненный фабричным трудом, у нас никогда не может вернуться к земле.
– Плохой пример, – поймал Алпатов Ефима, – никуда не годится – я видел немецких мужиков: их ничем не соблазнишь, наши плохие земледельцы, потому и соблазняются.
– Отличный пример, – вступился Ефим за свое, – не надо только придираться к словам и переливать из пустого в порожнее. Жизнь и моя, и даже самого маленького революционера из рабочих дороже этой величайшей картины. В моем примере я фабрику представил как мужицкое небо, а жизнь как землю. И вот эту роль неба играет здесь мадонна. Ее песенка спета давно, все хорошее от нее переместилось в жизнь, и остался на холсте только идол искусства. Потому жизнь маленького революционера и дороже этого идола, что в его крови обращается подлинная мадонна. Посмотри же вокруг себя, какие жалкие, расслабленные люди облепили идола; в одежде рабочего нельзя даже там показаться. Все эти лентяи нашли себе в мадонне счастливый выход, блаженную палестинку для забвения от обязанности к человеку. Вот и ты даже стал говорить матерь божия, когда, наверно, задумал пошалить с какой-нибудь бабенкой.
Алпатов потерял равновесие, побледнел и пробормотал:
– Я вижу, ты серьезно решаешься…
– Успокойся, – ответил Ефим, – у меня обязанности есть посерьезней: я не трону твою картину, ты можешь спокойно заниматься эстетикой. Я тебе только хочу напомнить наше решение. Помнишь? Мы согласились взять на себя долг акушеров и облегчить роды нового мира.
Алпатов не мог ничего сказать и потупился. Ефим встал.
– У меня дело, – сказал он, – завтра я уезжаю в Берлин. Ты зайдешь?
– Не знаю, – ответил Алпатов.
– Не здесь, а в Берлине?
– Не знаю же…
– А я знаю: ты зайдешь, с тобой что-то происходит, и мадонна тут ни при чем.
Алпатов вспыхнул. Ефим на прощанье сказал:
– Мы с тобой акушеры, мы должны человеку пуповину от бога отрезать.
Петух в корзине
После разговора с Ефимом все переменилось Алпатову на улицах саксонской столицы, не звучала ему больше музыкальная сказка, и лица людей не удивляли сходством с оригиналами великих художников. Он был очень смущен и чувствовал, что вступает в какой-то круг, заключающий в себе самое страшное. Вы это поймете, друг мой, если от «Сикстинской мадонны» я перекинусь к более позднему, к другой картине. Напомню вам пережитое сравнительно в недавнее время. Какой-то итальянец, как всегда в этих случаях говорят – безумный, украл из Лувра «Джиоконду» и затаил ее у себя. В ответ на этот отважный поступок человека, влюбленного в картину и страстного итальянского патриота, фабриканты туалетного мыла, конфет и пудры всех стран во многих сотнях, тысячах, а может быть, и в миллионах, воспроизвели «Джиоконду» на конфетах, мыле и пудре и распространили по всему свету загадочный лик женщины Леонардо. Благодаря этим картинкам на коробках в столицах показались женщины, изображающие из себя Джиоконду, потом такие же дамы и в губерниях и, наконец, в глухих городках: была костромская Джиоконда, и харьковская, и киевская, и даже звенигородская, везде – в театрах, в садах, на волжских пароходах и на всех дворянских улицах – можно было встретить дам с поджатыми губами и таинственной улыбкой. Не помню теперь, сколько времени пропадала настоящая «Джиоконда», но только находка ее далеко не произвела того эффекта, как пропажа, как будто каждый уже удовлетворился своей провинциальной Джиокондой и тайну ее про себя разгадал. Но, вспоминая это, невольно думаешь: а что, если бы веселый женский бульвар усвоил бы действительно страшный смысл красоты женщины Леонардо и этим подменил бы свою обыкновенную любовь? Если бы это случилось, мне так представляется, в один бы миг, как при коротком замыкании, перегорели бы все пробки жизни, и весь веселый бульвар в этой любви сгорел бы, как в крематории. К счастью весельчаков, бульвар не подчиняется страшному в красоте, напротив, приспособляет ее для своего удовольствия, обеспечивая нам отдых на лавочке под каштанами или спокойную прогулку на пароходике. В летнее время такие пароходики на Эльбе похожи на большие плывущие букеты цветов, до того много на их палубах девушек, разодетых в цветное. На одном из таких праздничных пароходов, между женщинами всех стран, сидит Алпатов, будто петух в корзине, разглядывает статуи и колоннады чередом следующих на берегу дворцов, не обращает никакого внимания на женщин, не думает, что одна из прекрасных девушек, сидящих возле него, может заменить ему Инну Ростовцеву, такую неясную, что едва ли он мог бы ее даже узнать в этом букете всех наций. А между тем его давно уже рассмотрели, и лицо его, и шляпу, и ботфорты туриста. Одна немочка в прозрачном голубом шепнула своей подруге в прозрачном розовом о петухе в корзине, и та ответила:
– Он и правда похож на петуха, знаешь, которому проводят по носу мелом, продолжают по полу, и он потом, не шевелясь, смотрит на эту черту.
Девушка в голубом серьезно всмотрелась в загипнотизированного петуха и сказала:
– Он очень интересный, и, мне кажется, такой гипноз его возвышает.
Девушка в розовом ответила:
– Да, и я думаю, что возвышает, но вместе с тем почему-то и унижает.
– Занятно, почему это так, – сказала голубая, а розовая решила разгипнотизировать интересного петуха.
Обе встают, прогуливаются. Голубая тихонько напевает «Лорелею», розовая, будто совсем нечаянно, роняет платок на колени Алпатову.
Голубая видела: Алпатов, продолжая смотреть На черту, уходящую в бесконечную даль, все-таки заметил у себя на коленях что-то белое и, приняв это за неисправность в костюме, одним быстрым движением руки отправляет белый платок за ботфорт. Голубая шепнула об этом розовой, и вмиг голубая и розовая барышни стали совершенно красными. А на другом борту полосатая, как зебра, с фазаньим хвостом в шляпе француженка даже руками всплеснула, и тоже все видели, все поняли, но и виду не подали строгие англичанки в сером, все до одной с маленькими букетами незабудок. Алпатов по-прежнему сидел и смотрел на черту.
Конечно, будь тут вблизи остановка, обе затейницы могли бы выйти на улицу и там освободиться от приступа смеха, но тут, на пароходике, даже и места их скоро заняли, и неминуемо им, сделав круг, придется вернуться к Алпатову. Девушки бросаются лицами к мачте и там умирают. Но француженка их понимает, она хочет умирать вместе, бросается туда и объявляет:
– Я все видела!
Девушки поднимают на полосатую француженку глаза, полные слез, но спасительница, метнув на Алпатова быстрым французским глазом, шепчет:
– Кончик платка торчит из-за ботфорта, и можно попробовать вытянуть.
Но тогда обе девушки, не жалея прозрачного голубого и розового, умирая, ложатся на канат. И улыбаются даже строгие англичанки в сером с небольшими букетами незабудок. Алпатов очнулся, оглядел себя и вынул платок.
– Вынул, вынул! – воскликнула полосатая француженка с фазаньим хвостом.
К счастью, пароход приставал. Девушки, не оглядываясь, бросаются к трапу. Выходя со всеми, Алпатов с удивлением находит себя в тесноте среди шляп и делает маленькое открытие для себя, что на шляпах все больше русские птицы. Тут были хвосты от кавказских фазанов, и крылышки тундряных куропаток, и султан из лиры хвоста косача, и хохолок белой цапли с Каспийского моря. Было много цветов: незабудки, ромашки, розы, и у одной на голове целый луг из желтых бубенчиков, и в одном из бубенчиков, как в природе бывает направленное к носу жало осы, тут была острая, направленная в глаза стальная игла…
Пробуждение
На берегу сходящих с парохода дам встретили дамы, желающие прокатиться, получился водоворот, похожий на китайскую игру цветов. Кто-то взял Алпатова сзади за руку возле плеча, он обернулся, но взявший за руку увернулся в толпе, снова взял, Алпатов, приготовленный, схватил за руку, обернулся и увидел Нину Беляеву с поднятой вверх зеленой вуалью.
– Я долго смотрела на вас, – сказала Нина Беляева, – и ужасно смеялась. Можно ли быть таким рассеянным, покажите платок.
Алпатов очень обрадовался Нине, вдруг ему стало так спокойно на душе, как бывает, когда из города после долгой работы приезжают на отдых в деревню к родным.
– Я теперь понимаю, – сказал он, – почему вас в институте звали Чижиком.
– А я не понимаю, – ответила Нина, – почему вы петух, скажите, кто же вас загипнотизировал?
Они болтают. И много им, русским, находится слов для болтовни в саксонском Вавилоне. Под конец они покупают себе еды и отправляются пить чай у Алпатова в комнате.
– Никогда я бы себе там у нас не могла представить, что так скоро можно сойтись, как мы с вами, – сказала Нина, удобно устраиваясь на диване возле круглого столика.
Алпатов сидел возле нее на кресле и отвечал на ее слова:
– Мне сегодня день показался за год, и я не знаю, чем бы он кончился, если бы не пришел такой спокойный конец от встречи с вами.
– Я это заметила еще на пароходе, когда все смеялись. С вами что-то происходит, что это?
– Не знаю, волна несет, и не могу определиться, как в море на лодочке.
– Очень понимаю, но для себя я нашла: я поеду учиться в Лейпциг к профессору Рейну педагогике, ведь мне, так или иначе, придется сделаться учительницей в женской гимназии, мне это гадалка предсказала, и я пойду навстречу этому: буду учиться у Рейна – и потом в Тулу или в Орел.
– Почему же теперь-то вы в Дрездене?
– Я приехала посмотреть «Сикстинскую мадонну», сегодня видела, а завтра в Лейпциг.
– Я тоже видел сегодня, – ответил Алпатов, – удивительно, как мы не встретились. Мне картина показалась большой, как океан, и все смотрел бы, смотрел…
– Мне было то же самое.
– Потом встретился мне старый друг из России и говорит мне: «Меня тянет затаиться под диваном и, когда все уйдут, изрезать картину». Вы понимаете это?
– Очень понимаю, мне тоже перед сном иногда приходит в голову самое невозможное, и я завертываюсь с головой под одеяло; иначе ни за что не засну.
– А я сказал ему, если бы он изрезал, я мог бы убить за это.
– И я бы тоже могла.
Алпатову стало досадно, зачем он все это говорит институтке.
– Вам ничего нельзя сказать, – бросил он раздраженно, – все как будто уже вперед вы знали, и все пробежало у вас в голове фантастически и без всякой задержки для поступка. Смольный, что ли, вас так подготовил?
А Нина даже обрадовалась и словам, и досаде Алпатова.
– Вот вы теперь, – сказала она, – совсем меня поняли, я фантастическая, и потому я решила, что непременно буду учительницей в Туле или Орле, в этом уж нет ничего невозможного, это вполне основательно; если я это достигну, то буду, как все.
В это время в дверь постучали и потом внесли кипяток. Алпатов берет свой баульчик: там сохранилась еще четвертка настоящего русского чаю. Но пакетик оказывается на самом дне, глубоко под шалью, Алпатов шаль вынимает, кладет ее временно на стол, заваривает чай у другого столика, а Нина в это время с удивлением разглядывает, развертывает…
Алпатов стоял спиной к Нине, когда она его спросила:
– Каким образом попала к вам шаль Инны Ростовцевой? Нина не могла заметить, что рука у Алпатова дрогнула, и много у него пролилось кипятку мимо чайника. Он долго молчал, и Нина повторила вопрос:
– Каким образом к вам попала шаль моей подруги? Алпатов ответил, не обертываясь:
– А разве эта шаль принадлежит Инне Ростовцевой? Потом с чашкой в руке он обернулся к Нине и продолжал:
– Вот как удивительно сошлось, что шаль, оказалось, принадлежит вашей знакомой, она забыла ее в Йене, и мне поручили разыскать ее и передать, но я совсем забыл ее имя.
Он вернулся назад, как будто за другой чашкой, и оттуда спрашивает:
– Эта Инна Ростовцева теперь находится в Дрездене? Нина ответила:
– Мы с ней вместе были сегодня в Цвингере, а потом я проводила ее на вокзал: она уехала в Париж с одним шведом.
Алпатов уронил кусок сахару и долго искал его на полу, а потом вернулся на свое место пить чай, и Нина ничего не заметила.
Немного спустя Нина, однако, с удивлением спрашивает, почему он стал таким бледным и такой задумчивый, как на пароходе.
– Мне одна мысль пришла в голову, – ответил Алпатов, – я хочу идти сейчас к своему другу и предложить ему свои услуги. Мы уничтожим «Сикстинскую мадонну».
Нина как будто не очень удивилась и даже обрадовалась чему-то и с большим любопытством спросила:
– А потом что вы будете делать?
– Потом, – ответил Алпатов, – потом мы постараемся человеку совсем отрезать пуповину от бога.
Звено седьмое
Юный Фауст

Имматрикуляция
Не хочу беспристрастия. И настоящий летописец Нестор, описывая свои войны, пожары, небесные явления, не удерживался от личных чувств и домыслов, давая всему и нелепое, и драгоценное для нас теперь толкование. Так и мне хочется самому, каков я теперь, участвовать в объяснении, поступков Алпатова, следующих так же независимо от авторской воли, как явление комет, войн и великих пожаров от воли их описателя Нестора.
Друг мой, мне часто думается при чтении жизнеописания великих людей, что внутреннее существо их поддерживается детской доверчивостью, с которой они раз навсегда отдались своему делу. Да и в личных отношениях, наблюдая повседневную жизнь разных деловых организаций, постоянно видишь, что более крупный человек и более доверяет другому. Конечно, он более часто и ошибается, чем маленький и недоверчивый опытный человек; но, в общем, доверчивость эта при других достоинствах является как бы радиусом круга: чем больше доверчивости, тем больше и несчастие при неудаче. В этом дети и юноши сходятся с людьми гениальными.
Рассказывая все это, я, конечно, имею в виду Алпатова, который отдался влиянию Ефима с такой страстностью, что предложил ему вырезать из рамы «Сикстинскую мадонну».5 Ефим, конечно, отговорил друга от такого индивидуального эксцесса, достойного скорее какого-нибудь анархиста из артистического круга, чем простого серьезного работника социал-демократической партии. Взамен этого он предложил Алпатову ехать учиться в Лейпциг и постепенно организовать там русскую колонию в такой же марксистский кружок, как они устраивали вместе на родине. Ефим обещался потом, когда черновая работа будет закончена, приехать из Берлина и назначить серьезную работу от Центрального исполнительного комитета партии. Алпатов обрадовался и этому, обещался работать, как и на родине, упустив из виду, что сам он стал теперь уже другим, что, упав с высоты личных событий, едва ли он теперь уже удовлетворится прежней работой рядового марксиста в кружках.
Но и то хорошо: есть хоть с чего можно начать строить себе новую жизнь, а там само дело покажет. После всей этой погони за ускользающей невестой Алпатов хочет большой работой изгнать из головы всякую блажь; теперь каждая минута жизни им будет учтена, как трудовая минута. И на первых порах ему повезло. Оказалось, первый семестр прогуливают в Германии почти все студенты и только на втором начинают работать: выходило, что он не отстал. Теперь, вступая в университет по-настоящему, без сопутствующего образа невесты под зеленой вуалью, Алпатов впервые только глаза раскрывает как студент, и ему из редеющего тумана пережитого показываются очертания великого храма германской науки. Сердце его трепещет опять перед возможностью сделаться творцом в какой угодно области наук. Правду кто-то сказал о Германии, что философия там похожа на вымя со множеством сосцов, питающих науку, – и теоретические, и прикладные. В России даже в образованном обществе как-то не всегда удобно сказать: занимаюсь философией, потому что наша философия непрактичная, и философ представляется как бы загипнотизированным петухом. В Германии даже агрономию читают на философском. Стоит только в Германии купить себе черную шляпу с широкими полями, как во всех лавочках будут почтительно называть доктором, и это не будет означать, как у нас, непременно врача, а доктора философии. Социальные науки, уж конечно, на философском, и потому Алпатову факультет предрешен. Ректор вызывает его из толпы студентов:
– Господин Алпатов из Ельца!
Среди студентов некоторые были с разноцветными ленточками на груди, с золотом шитыми шапочками в руках, с рубцами на лицах от дуэльных ударов; в немецкой речи ректора постоянно проскакивали латинские слова, тут современность явно соприкасалась по традиции со средними веками, и вдруг в такой обстановке такие слова: из Ельца! Молодой человек, совершенно такой же приличный, как и европейские студенты, идет по длинному ковру к ректору. Но ему из-за этого Ельца представляется, что он не такой, как другие, что на него все смотрят с особенным вниманием и думают: «Вот они какие в Ельце».
У ректора в руке был пергамент, подавая свободную руку, он спрашивает:
– Философия?
Алпатову очень неловко сказать, но виду он не показывает и бойко отвечает:
– Да, господин ректор, философия.
Потом ректор просто, чтобы не молчать, спросил:
– Из Ельца?
Но Алпатову представилось, будто ректор спросил: «Неужели же вы из Ельца?» – и что глаза ректора насмешливо уменьшились, и что сейчас последует вопрос: «Как же это вы добрались сюда из Ельца?» Ректор, однако, был совершенно бесстрастен и, пожав руку молодому студенту, передал ему пергаментный лист, на котором огромными буквами по-латыни было напечатано:
«VIR JUVENIS ORNATISSIMUS STUDIOSUS RUSSUS».
А после торжественного латинского было по-немецки приписано:
«Из Ельца, Орловской губернии».
Алпатов, однако, был не один русский, их было очень много. Аксенов, барственный блондин с голубыми глазами, очень красивый, с большим достоинством подошел к ректору и сказал, что он из Симбирска. С Аксеновым была студентка такой большой красоты, что в ней совсем исчезала типичность народа, и только по словам «из Гомеля» можно было начать, угадывать ее еврейское происхождение. Алпатов еще обратил внимание на очень высокого брюнета с черными жгучими глазами, с цилиндром в руке, похожего на французского гипнотизера, – это оказался Амбаров из Петербурга. Прямо же после Амбарова странный человек в синей косоворотке под серым пиджаком без жилета, размахивая руками, двинулся большими шагами к ректору, как будто с каким-то дерзким намерением, и заявил: «Чижов из Екатеринбурга». С огненно-красными волосами и веснушками, частыми, как на воробьином яйце, пришла Роза Катценэлленбоген из Пинска! И еще было много разных русских, и все до одного на вопрос ректора, что они хотят изучать, отвечали: «Философию».
Априори
Восторг полного обновления охватил Алпатова. Думается, так бывает исключительно только у русских, что эта способность к обновлению у русского интеллигента происходит от пожаров деревенской России, после которых возникают постройки гораздо лучшие, чем до пожара.
Всегда казалось Алпатову на крайний случай, что если только решиться все бросить, то потом вылезешь на свет, как змея из старой чешуи. Конечно, в этой обычной для русского способности к обновлению нет материального предмета личной жертвы и потому все легче выходит, чем в евангельском совете богатому раздать свое богатство бедным. Алпатову раздавать было нечего, и его все бросить относилось к собственной своей мечте. Правда, волшебная невеста нашей юности дороже всякого богатства, но все-таки раздать это, как в притче о вещественном богатстве, невозможно: что-то надо создать и потом уже раздавать. Бросить куда легче, чем раздать, но и бросить оказалось не так легко. Беда была в том, что раньше Алпатов брался за рабочее движение, как за личное дело, теперь это стало как долг, и он возвращался к тому же, как филантроп. Как личное дело теперь манила его каждая аудитория знаменитого профессора.
Вскоре после имматрикуляции вся колония русских собралась выслушать доклад Аксенова на тему «От Маркса к Канту».
Алпатов встрепенулся: вот случай ему отстоять материализм, как он когда-то сумел так удачно защищать марксистскую идею у народников. Однако теперь все было совершенно иначе, и самый доклад был не как тогда, на тему «Что делать», а скорее на «Как думать о деле». И оратор был настоящий, блестящий, притом окруженный красивыми девушками, как мироносицами. Председателем был Чижов в косоворотке, с блуждающими глазами, похожий на прежних наших народников. Чижов постоянно вскакивал с места, бросался в зал, находил там кого-то, шушукался, записывал, возвращался на место, все что-то соображая, что-то высматривая. Когда, наконец, он так подбежал к соседке Алпатова Розе Катценэлленбоген, то все и объяснилось сразу: Чижов устраивал студенческую кассу взаимопомощи, дело маленькое. Да так и все представилось Алпатову в собрании, что каждый из этих русских за границей был погружен во что-то свое личное, а не так, как это было когда-то… Казалось, что лучшее было давно в подпольных кружках…
В докладе Аксенова «От марксизма к идеализму» была использована вся новейшая модная философия. Алпатов понял, что все его дальнейшее положение в колонии определится сразу, если он выступит против Аксенова более страстно и революционно-победно. Но как выступить, если он не знал ни Риля, ни Зиммеля и ни малейшего понятия не имел о гносеологии, вокруг которой и вертелся доклад. Но внезапно ему вспомнилась прежняя мысль о практическом коррективе всякой философии, он нащупал в себе реальное, как земля, чувство правды жизненной, для чего нужны простые слова, а не модная философия. Так он и начал говорить, что для философии идеализма нет практического корректива, и если миновать материализм, то это значит миновать диктующую необходимость жизни, и дальше будет, конечно, все легко и безответственно, сначала от Маркса к Канту, потом от Канта к Христу, от Христа к церкви…
Последние слова Алпатова были:
– А церковное христианство нам твердит все время: грех и грех. И если я твержу себе постоянно: грех и грех, то я действительно становлюсь грешником. Материализм, правда, учит нас считаться тоже с чем-то, твердит об экономической необходимости и разделении людей на классы, но практический корректив построенного на этом социализма дает нам в руки средство обойти необходимость и сделаться акушерами при рождении нового общества.
Председатель Чижов, вслушиваясь и вдумываясь в слова Алпатова, страстные и, очевидно, не придуманные им заранее, долго не смеет остановить его, не догадываясь, что стоит только перебить Алпатова, и он смешается. Наконец он все понял и перебил:
– Я вас прошу говорить в границах темы.
– Тема, – отвечает Алпатов, – «От Маркса к Христу», и я развиваю ее от Христа непременно к попу.
– Да, – ответил Чижов, – вы говорите с точки зрения практического корректива, а докладчик ставит проблему чисто гносеологическую. Вы можете продолжать, если согласитесь свою идею изложить в аспекте гносеологии, то есть науки о границах познания.
Алпатов ответил:
– Это познать невозможно, все равно как сотворить человека в колбе: для чего же нам разговаривать о гомункуле?..
В это время какой-то очень симпатичный блондин с добрыми глазами и задушевным голосом взял слово без очереди, стал извиняться перед всеми, вроде как бы всенародно каяться:
– Извините, извините, вот я всех перебил, а хочется присоединиться: вполне согласен.
– Иван Акимыч, – перебил Чижов извинения, – ты нам портишь дисциплину, так нельзя, надо слова просить: мы в стране парламентаризма, а не на деревенской сходке.
– За то я и прошу извинения, – продолжал Иван Акимыч, – я только коротко хочу сказать, что поддерживаю предыдущего оратора, как же это можно жить с одним априори, нужно дело, а не априори. Совершенное безумие так жить, мне самому хочется, например, рюмочку водки выпить, а в голове априори.
Все весело засмеялись, поняв наконец, что Иван Акимыч говорит сильно выпивши. Алпатов поспешно сел.
– И вот еще, – продолжал Иван Акимыч, – ко всему этому явилась еще какая-то гносеология, и я так понимаю, что вся эта наука вышла из ненавистного мне до глубины души априори. Так ли я понимаю? Я же вполне присоединяюсь к предыдущему оратору и призываю всех к жизни. Вот все, что я хотел сказать. Извините.
И сел.
После того взял слово какой-то агроном Коль, заика, и тоже присоединился к Алпатову. Смысл его долгой и трудной речи был в том, что России теперь нужна не гносеология, а посев клевера, кредитные товарищества, кооперация и конституция.
– Вот и все, – сказал в заключение Коль и опустился на стул.
Тогда взял слово сам докладчик Аксенов и с улыбкой, обернувшись к Алпатову, сказал:
– Ваше пожелание практического корректива вполне осуществилось: ваш предшественник предлагает на капусте вырастить конституцию.
Этот витс с фамилией Коль-Капуста был так удачен, что все мироносицы стали аплодировать.
Алпатов был совершенно побежден. Чижов предложил перейти к повестке дня на очереди вопрос об организации кассы взаимопомощи. После того многие стали покидать собрание. Алпатов тоже вышел на улицу, подавленный и ущемленный.
Маленькая весна
Бульвар, по которому шел Алпатов, между каштановыми деревьями, к себе на Штернвартенштрассе, был несильно освещен фонарями. Немецкая густая толпа гуляющих ровно гудела, как майские жуки на березах в день массового вылета. Бесконечно далека была в эти минуты Алпатову и эта немецкая толпа, и эти русские за границей. Зато в первый раз еще показалась ему за границей хорошая родина Россия. Только нет, он не сказал бы «родина», это слово никак не отвечало встающему в нем чувству. Сказать «родина» можно только в детском журнале «Задушевное слово», сказать «родина» – значит помириться и вместе с тем опуститься. Настоящая родина очень трудная, и без того, что казалась ему теперь долгом, она невозможна, родина с нищетой и тюрьмой какая это родина. Он это новое, впервые встающее у него за границей, назвал бы просто пейзаж: большие поля ржи, перелески, большак с муравой и, пожалуй, люди, необыкновенно доверчивые и душевные. Потом из всего этого определилась близкая душа, с которой во всем можно советоваться, все ей открывать. Так незаметно для себя Алпатов встретился опять со своей тюремной невестой. Но тут случилось, как иногда бывает с людьми, когда они забываются совершенно в себе: так, гадающей невесте показывается в зеркале гроб, старухе разбойник представится, а юношам – как если бы враг застал врасплох и остается только нагнуть голову, чтобы он поразил и кончил все. И Алпатову так было, когда в самый момент, когда он встретил в себе не допустимую раньше мысль о прекрасной родине вне революции и к этому сочувственно и радостно присоединилась, казалось, совсем уже забытая невеста, вдруг близко от него кто-то сказал, назвал его имя…
Алпатов в ужасе оглянулся. Высокий, в блестящем черном цилиндре, с горящими глазами, стоял перед ним Амбаров и робко, почти застенчиво, как сильный мужчина начинает иногда с интересующей его слабой девушкой, говорил:
– Я осмеливаюсь заговорить, потому что слышал вас на собрании, понимаю вас и хочу предупредить: не надо с ними так искренне, здесь русские все холощеные…
– Имеем ли право, – ответил Алпатов, – мы с вами заключать о всех?
Амбаров подумал и не спеша сказал:
– Вот увидите, через месяц вы будете, как и я, держаться в стороне от русских, вероятно, займетесь чем-нибудь своим, и совершенно отдельно.
– Мне бы это было тяжело и непонятно, – ответил Алпатов, – я в тюрьме сидел целый год в одиночке, и то не было мне, как вы говорите: мы там перестукивались.
– Русскому за границей – более одиноко, чем в русской тюрьме, к этому надо привыкнуть.
Неприятно было, что новый знакомый во время разговора, высматривая себе что-то в толпе, часто оглядывался, и когда Алпатов тоже оглянулся вслед за ним, то встретился глазами с женщиной, которая отвечала Амбарову и тоже оглядывалась. Теперь Алпатов догадывался, что благородный тон, в котором Амбаров вел беседу, был обычный светский тон высшего класса общества, ненавистный Алпатову с детства своим обманом. Он с досадой и почти со злобой спросил:
– Вы, вероятно, кого-нибудь знакомого ищете?
Амбаров мгновенно понял тон Алпатова и засмеялся как-то совсем ни к чему, холодным, неестественным смехом, как смеются сектанты или безумные. Потом он сказал с прежней робкой вежливостью:
– Я ищу свою жену.
– Вот как, – растерялся Алпатов, – я почему-то думал, что вы неженатый.
– Нет, я женат, – ответил Амбаров, – вот вы, я думаю, нет.
На это Алпатов, как это часто бывает с юношами, взамен нечаянной дурной мысли о незнакомом и, оказывается, хорошем, женатом человеке, выпалил со всей откровенностью:
– Я не только не женат, но… я вообще: я не знаю женщину.
– Я так и думал, – сказал Амбаров ласково и сочувственно, – я этот ваш ответ услыхал в первых ваших словах о практическом коррективе, то есть, как я понимаю, о жизни самой по себе, я это очень понимаю: это весна в марте.
В это время вышла из толпы молоденькая немочка, совсем Маргарита из «Фауста».
– Эльза, милая, – воскликнул Амбаров и заговорил с ней по-немецки со всей тонкостью произношения, как будто это был его природный язык.
– Позволь представить, – заговорил он, – тебе моего нового друга из недр России.
В словах из недр России, по-немецки aus dem Schoss des Russlands, слышалась самая легкая ирония, и Алпатов себе это заметил.
– Моя жена, – представил Амбаров свою Гретхен Алпатову и спросил ее очень заботливо и нежно: – Здоров ли наш Отто?
Влюбленная женщина смотрела на мужа светящимися глазами и, счастливая, отвечала, что все идет отлично.
– Иди же, погуляй, – ответил Амбаров, – а я пока пройдусь с моим новым другом.
Отойдя немного, Алпатов спросил:
– Вы искали жену, может быть, я вам помешал?
– О дорогой мой, – ответил Амбаров, – не знаю, почему мне так хорошо с вами и все меня в вас веселит. Так и быть, я вам скажу: я искал не эту жену.
– Неужели у вас есть другая?
Амбаров опять засмеялся тем смехом ни к чему или как бы в отмщение кому-то другому, находящемуся, очень может быть, и в себе самом.
– Другая! – повторил он вслед за Алпатовым. – Да у меня их в одном Лейпциге три, а до этого я жил в Риме, в Париже, в Цюрихе. По тону вашего вопроса я слышу, что вы это считаете безнравственным?
– Не знаю, – ответил смущенно Алпатов, – мне кажется, я это считаю ни нравственным, ни безнравственным… почему вы так страшно смеетесь, как будто над самим собой? И вы только сейчас говорили о весне, что вам у человека весна нравится.
– Вы чудесно слушаете, – мне нравится весна, и я пользуюсь: каждый год у меня бывает своя маленькая весна… Вот она идет, – указал он в толпе на вторую жену.
Он простился с Алпатовым и просил навестить его в технической лаборатории, где он работает ежедневно.
Старушка Vita
В Германии и теперь продолжается, как в старину, что в первое время студент не очень прикреплен к специальности и бегает из аудитории в аудиторию по любопытству ко всему на свете, пока мало-помалу не определится к чему-нибудь его исключительная способность. У Алпатова это любопытство к знанию еще усилено его обещанием работать для революции, которая теперь ему представляется долгом: он знает, что рано или поздно Ефим явится и придется ему отвечать; так вот, пока не началась такая работа и вместе с тем не определится специальность, он спешит послушать и Вундта, и Оствальда, и Бюхера, и Лампрехта, и всех молодых светил философии. Скоро Алпатов с удивлением вспомнит то время, когда в их подпольном кружке метафизика была почти бранным словом. Вундт читает философию, но его слушают больше врачи, так не похожа его философия на беспочвенную метафизику. И химик Оствальд, точный исследователь, посвящает два часа в неделю, чтобы поделиться со студентами всех факультетов своей философией природы. И, может быть, сам Бюхер додумался до ритмической связи работы и музыки только потому, что в юности занимался философией. В самое короткое время Алпатов переменяет свой русский взгляд марксистского провинциального кружка на философию, в кармане у него постоянно маленькие философские книжки, и «Prolegomena» Канта и «Этика» Спинозы. Он читает и во время обеда, и в постели на сон грядущий, и, – что делает внутренняя потребность! – вся эта трудная поэзия понятий дается ему не труднее, чем беллетристика. Часто он идет в одну аудиторию и попадает в другую, потому что через плохо закрытую дверь долетели до него какие-то интересные слова.
Так случилось однажды: у гениального химика Алпатов услыхал нечто поразившее его и вдруг определил себе как специальность – химию. Довольно сухо читал этот химик свой курс и совсем как-то неожиданно для всех заволновался и даже покраснел. Это Алпатов успел уж заметить у всех. Какой-нибудь знаменитый профессор долго читает, и нельзя бывает понять, чем же он знаменит. Студенты покорно записывают лекции от слова до слова, чтобы выучить потом это к зачету и сдать экзамен совершенно без помощи книг. Но, бывает, ученый подходит к изложению того знания, которым он сам обогатил науку, и тут становится неузнаваемым, волнуется, краснеет, преображается даже в своем внешнем облике: совсем другой человек! Студенты, увлеченные, перестают записывать в свои тетрадки и время от времени топают ногами в знак восхищения. Так было и с химиком, когда он вдруг перестал диктовать и даже попросил не записывать: это не знание, это его маленькая догадка в помощь знанию. Речь была о синтезе белка, над которым теперь работал химик: работа эта еще не закончена, но можно предвидеть, что химический белок скоро будет создан и будет совершенно такой же, каким создает его природа в живых существах. И все-таки этот химический белок не живет, как в природе, чего-то ему не хватает, что это такое? Вот тут профессор, этот человек, пепельно-серый от постоянного вдыхания вредных газов, ожил, покраснел, намекнул:
– Не возвратиться ли, – сказал он, – к прошлому, не поможет ли нам немного старушка Vita?
Конечно, если бы профессор эту старую гипотезу о воодушевленной субстанции, называемой жизнью, излагал бы равнодушно, как чужую мысль, то Алпатов бы не попал под ее влияние, но профессор, хотя и очень осторожный, был виталист, и Vita в его творчестве была как Муза в поэзии и, может быть, как для Алпатова была его ускользающая Инна в поисках призвания и личного счастья.
Удивительно было Алпатову, что ученый, сообщая студентам свою догадку о Vita, покраснел совершенно так же, как он сам в детстве краснел, когда свои тайны, сны или догадки рассказывал старшим. Бессознательно Алпатов себя самого узнал, когда профессор, этот с виду железный человек, вдруг обнажился в своей робкой, застенчивой, колеблющейся сущности. В то самое же время явилось Алпатову почему-то ясное распределение всего хаоса из прочитанных книг: Кант, и Спиноза, и Декарт становились на свои места.
Вдруг оказалось, что все эти великие мыслители высказывали свои догадки, тоже краснея. Все это было, однако, неотчетливо, и если бы записать, то получился бы вздор, и если сказать другому, то другой ничего не поймет. Но казалось, если бы подойти к этому ученому и ему сказать, то ему оно сказалось бы, и стало бы все ясным, и через это можно бы определить себе в науке свой жизненный путь.
Вслед за этим Алпатову, как и раньше бывало с ним не один раз, явилась неизбежность поступка: раз если так, то он должен идти к профессору, он должен преодолеть все свое смущение, всю неприятность риска и объясниться во что бы то ни стало. Вот почему, как только кончается лекция, он бежит по коридору за профессором.
…Вы представите себе, мой друг, лучше, чем я умею об этом сказать, весь риск такого поступка. Как можно рассчитывать, что профессор, занятой человек, закаливший свой ум огромной дисциплиной труда, станет возиться с бродячим мальчиком из бескрайной русской равнины? Или, может быть, каждый рожденный для настоящего творчества человек проходит в свою пору юности тоже непременное искание философского камня и так может по себе узнать родное, понятное и в дикаре? Часто я думал об этом, беседуя с нашими мужиками, в распоряжении которых имеется так мало понятий и слов, – из каких источников берется возможность продолжительного общения неграмотного и проводящего жизнь свою на две трети с книгами? Я прихожу к заключению, что в последнем, современном, культурном человеке скрывается тоже как творческий фактор и весь дикарь прошлого, и весь романтик знания и чувства. Вот почему, зная в себе хорошо и дикаря, и алхимика, и романтика, я никогда не вздыхаю о прошлом и не зову с собой никого идти в дикари, в мужики, в алхимики и рыцари: все прошлое все равно и так с нами непременно живет.
И вот замечательный ученый, о котором я рассказываю, если только Алпатов сумеет хоть как-нибудь связать свои мысли и расположить к себе, очень возможно, поймет юного русского искателя философского камня. Профессор бежал так быстро по коридору, что Алпатов не успел догнать его, и так он скрылся в своем кабинете как раз в тот момент, когда Алпатов только-только собирался остановить его бег.
Через несколько минут большого волнения Алпатов решается постучать и слышит в ответ из кабинета: «Войдите».
Был беспощадно прост и ужасен первый вопрос ученого:
– Что вы желаете? Алпатов не сробел и ответил:
– Я, господин профессор, догадываюсь, почему Биту невозможно открыть и она от нас ускользает; потому что мы сами ею живем, мы движемся с ней вместе и потому ее движения не замечаем, как, двигаясь вместе с землей, не замечаем ее движения, и вот почему, наверно, не удается синтез живого белка.
Профессор широко открыл глаза. Было бы и всякому учителю, сколько ни привыкай, поразительно: сейчас только были слова в простой, логической связи, и вот они уже воплощены в жизни этого взволнованного юноши, живут в его крови, повышают температуру его тела, вызывают в его лице краску, и все вместе рождает мысль.
– Вы иностранец? – ласково спросил профессор.
– Я русский, – ответил Алпатов.
– Химик?
– Хочу быть химиком. Но только-вы не примите меня просто за мечтателя; я могу работать и достигать своего. Я бы только хотел работать, имея в виду эту Биту, как небо: я вижу в этом подвиг ученого, достигать недостижимое и не забывать о земле. Я, господин профессор, материалист, вы меня понимаете?
Не подавая виду, совершенно как равному, профессор сказал:
– Вполне понимаю, друг мой, только все это очень опасно.
И почему-то рассказал про одного старого еврея, который, прочитав Канта, сейчас же, как только узнал у него, что нет мира без нас, что мир есть только наше представление, не захотел жить в таком неверном мире и повесился над раскрытой книгой о чистом разуме.
– Так может и с вами случиться, – сказал профессор, – когда ваша Вита окажется не прекрасной девушкой, а женщиной трех К: Kirche, Kinder, Kuche.
– Этого я не боюсь, – ответил Алпатов, – я испытал уже с женщиной гораздо худшее, и, вероятно, только потому, что сам сделал какую-то ошибку, хочу это заменить наукой, в которой есть практический корректив ко всякой мечте: работа с мензуркой и весами.
Профессору это очень понравилось, он, улыбаясь, пожал крепко руку Алпатову и записал его в первую химическую лабораторию.
Появление Мефистофеля
Кто много работал по химии в лабораториях, тому в полях, и лесах, и на воде часто, бывает, пахнет какой-нибудь кислотой или газом, совсем неприятным для всех и очаровательным для химика: запах больше всех наших чувств связан с нашими переживаниями, а что может быть лучше времени естественной молодой нашей веры в прекрасную женщину, мать всего сущего, и в силу философского камня? Пусть каждый современный учебник по химии начинается насмешкой над средневековыми алхимиками, искателями философского камня; юноша, вступая в лабораторию, на первых шагах хоть немного бывает тайным алхимиком, и современные научные методы, сравнительно с теми далекими временами искателей начала начал, дают только новую силу, только новый задор. Мы только что пережили трагедию Северного полюса; еще несколько лет тому назад ученые говорили нам, что все-таки еще возможна жизнь на Полюсе, что встретится там какой-то новый материк и какая-нибудь жизнь, даже люди. И вот оказалось, там нет ничего, одна математическая точка. И все-таки мы с новой энергией строим теперь ракету для полета в межпланетные пространства, с трепетом в сердце предвкушаем полет на Марс и Луну, хотя там, по всей вероятности, найдется то же самое, что и на Северном полюсе. Есть такая же безмерная, реальная сила и в наших детских маленьких тайнах, и особенно в нашей первой юношеской любви.
Милая моя маленькая женщина моей юности, самый драгоценный друг мой, я возвращаюсь к нашему роману, открывая в нем силу всего моего счастья, всей радости жизни, школу моего единства и верности. Я горжусь силой, которая позволяет мне сейчас сдержать слезы восторга, я ликую уверенно, я знаю: есть в пустоте воздух, в тоске радость, в мечте воля к преображению жизни и в первой любви эта живая мать моих живых детей и лучших минут творческого общения с друзьями…
Преобразив свою Инну в какую-то Биту, Алпатов вступает алхимиком в лабораторию: там и тут бесцветное пламя множеством газовых горелок окрашивается красным цветом, зеленым, фиолетовым; стеклянные реторты и колбы, укрепленные в железных штативах на разных высотах, кипят над пламенем, из них по каучуковым трубкам, невидимые, уходят добрые и страшные газы, заключаясь в газометрах на службу человека. Там кто-то в синем фартуке выпаривает в сушильном шкафу платиновый тигель с осадками до постоянного веса, наблюдает термометр, и вот сегодня он рад: он достиг постоянного веса. Ему после долгой работы остается только снять колпак с химических точных весов, взвесить, вычислить с точностью до четвертого знака. Вот подходит к нему профессор, вынимает свою записную книжку, слушает. Студент, волнуясь, сдает найденную цифру анализа.
– Четыре! – называет студент. Профессор кивает головой: верно.
– После запятой: пять, три, семь.
Голос студента дрожит от волнения: если последний даже знак неверен, ему еще придется неделю работать над тем же…
Дальше технические лаборатории, дальше святое святых, лаборатория самого профессора, где будущие ученые вместе с учителем делают общую работу – синтез белка. Вот там вплотную подходят к загадке жизни, заключая следы ее в меру и счет. Когда-то хотели заключить в реторту самую жизнь, здесь знают, что догнать жизнь невозможно, и все-таки идут за ней след в след, вплотную, измеряя следы и строя свое по образу и подобию ее. Алпатову кажется, что в этом деле научном требуется больше и ума, и воли, чем раньше, и даже больше остается свободы, – ведь и солнце, и месяц, и звезды через это не меняются: в ночной тишине, глядя на них, человек может и не думать о счете и мере, а совершенно свободно догадываться…
Так вступил Алпатов в лабораторию с тем же самым благоговейным чувством, как если бы родился в средние века и астролог вручил ему гороскоп. Все казалось ему здесь нужным, и люди в фартуках такими привлекательными, и особенно соседка его, Роза Катценэлленбоген: ни у кого на свете нет таких огненно-красных волос. В весовой лаборатории он встретил теперь трезвого и доброго Ивана Акимыча Априори, из технической сам пришел и очень обрадовался ему красивый и странный Амбаров.
Дело рук профессора видно в лаборатории на каждом предмете, по его тетрадкам студенты делают анализы, но на первых порах новичка учат студенты. Есть, конечно, в этом большое удовольствие для старшего поделиться своим опытом с растерянным и очарованным новичком, но Амбаров делает это с особенным вниманием и даже нежностью, как будто Алпатов был исключительно интересующая его девушка. Он показал Алпатову и Розе, как узнавать металлы по их способности окрашивать бесцветное пламя, и маленькие прозрачные стеклышки буры, включенные в колечко из платиновой проволоки, как разбираться обонянием в различных оттенках запахов, исходящих из тел при нагревании, учил, с какой осторожностью надо пользоваться вкусом, осаждая основания солей и отнимая у них кислоты другим основанием. Особенно обращал он внимание на запах тел как на средство их различения, говорил, что нос не то, что язык, нос около глаза и так близок к мозгу, что всякое чувственное восприятие по запаху надолго остается памятным человеку. И случилось, как раз во время рассказа об этом в лаборатории запахло горьким миндалем. Только Амбаров один из всех это заметил и стал ощупью двигаться, разбираясь по усилению запаха в направлении. Наконец он подходит к одному из сушильных шкафов и достает тигель с препаратом, издающим запах горького миндаля. Кто-то неосторожно поставил препарат с цианистым кали и чуть не отравил всю лабораторию ядовитым газом. Хозяин тигля, бурш с дуэльными шрамами на обеих щеках, выходит, бледный, но Амбаров его успокаивает: в небольшой дозе цианистый кали не приносит никакого вреда человеку. Вот это можно и показать. Все студенты сходятся к Амбарову: русский хочет показать что-то необыкновенное. Из банки с белыми палочками Амбаров берет себе пинцетом частичку цианистого кали, кладет на язык, запивает водой… Через несколько секунд все тело его вздрагивает, он хватается руками за стол, быстро оправляется и, бледный, как бумага, хохочет, предлагая желающим тоже попробовать… Но тут было чего-то чересчур: все, потупив глаза, расходятся на свои места, и Роза, став вдруг чрезвычайно серьезной, осаждает в пробирке гидрат алюминия, усердно потирая ее, как учил Амбаров, о свою упругую коленку.
Третья жена
Очень возможно, что вся беда вышла у Алпатова из-за этой удивительной книги, о которой он ничего не слыхал, а случайно купил в одном магазине. В этой книге каким-то чудесным путем философия соединилась с поэзией, и то самое, что у Канта и других ползло, здесь летело, как метеор, на одно неповторимое мгновенье ярко освещая мировое пространство. Узнав эту книгу, Алпатов не мог больше слушать философские лекции, и каждая такая лекция, с записыванием ее в тетрадки, представилась заседанием людей, из которых каждый в отдельности был просто дураком, а в заседании множества все становились умными. Нет, настоящее знание летит, как метеор, и человек истинного знания сгорает и падает, как метеор; и пусть: старый бог умер. Так говорил Заратустра. Алпатов, собрав в себя все лучи этой книги, устремился работой в одну только точку, забросил все лекции и делал только алализы в химической лаборатории. Там же, в промежутки, когда что-нибудь согревалось или долго выпаривалось до постоянного веса, он читал по теории, далеко забегая вперед. Движение его в лаборатории при такой сосредоточенной энергии приобрело небывалую скорость.
Через месяц он оставляет Розу в качественной лаборатории, титрует в объемном анализе, потом сидит на весах. Профессор давно его заметил и никогда не проходит мимо, не сказав ему несколько одобрительных слов. Но едва ли так можно учиться химии: крепости и баррикады можно брать разом, очень возможно иногда бурным натиском отбить себе прекраснейшую рабыню. Но химия дается мерным трудом. Читая теорию ионов, Алпатов встречается с высшей математикой, – оказывается, она необходима и в химии, а он к ней так неспособен. Но как же он может быть неспособен, он может все! Он берется за высший математический анализ и, пока в этом не достигнет больших знаний, отложит работу по химии. День и ночь сидит он теперь над интегралами, кажется ему, ползет, как черепаха. Но самое главное, что ему показалось при этом занятии, будто у людей два ума, один ум этот по математике, где все только мера и счет, другой ум в мгновенном схватывании без всякого счета и меры. Вспомнилось Алпатову, как ему маленькому мать хотела помочь в арифметике и хуже его решала задачи, а так в жизни все понимала и была, все говорили, необыкновенно умна. И вот еще оказалось, что гениальный автор Заратустры был до крайности, до идиотизма неспособен к математике. Но самое главное, о чем он догадался, что химия берется таким же умом, как математика. Он еще не отказывается, он еще возвращается в лабораторию, а там, пока он возился с математикой, Роза догнала его и сидит, обыкновенная, на тех же его весах, которых он достиг с таким трудом, а Вита бежит в бесконечной дали… С удивлением он обращается к Розе – узнать у нее, каким образом она движется вперед с таким верным успехом, ничуть не изменяясь от работы даже в лице. Она не таится и все объясняет спокойно. Ее отец в Пинске торгует старыми фраками. Ее будущее в пинской аптеке, она изучает химию для фармацевтики и со временем достигнет провизора. Оказалось, что Вита у Розы была внутри и ей не нужно ее догонять…
Алпатов, очень смущенный, выходит из лаборатории, и ему кажется, что все было, как сон, и теперь все прошло: сон забыт. Дома, ни о чем этом больше не думая, свободным движением руки он подвигает к себе книгу «По ту сторону добра и зла» и там, читая до вечера, узнает свою Биту, – это, оказывается, мир в себе, то, что невозможно достигнуть знанием и что если бы это и удалось как-нибудь узнать, то оказалось бы, может быть, очень смешным и ничтожным… Так говорил Заратустра.
Вечером при свете фонарей он идет куда-то неопределенно по бульвару, как бы открывая всего себя для обстрела бесчисленных случаев большого города. Появляется Амбаров под руку с новой женой, и Алпатову кажется – это самый нужный ему теперь человек: у Амбарова, наверно, все было в жизни. Они спускаются в один из подземных келлеров Лейпцига, садятся трое у белого мраморного столика. Ни на минуту не останавливаясь, сходит вниз по ступенькам уличная толпа, делает оборот в огромном подвале, выходит в другую дверь, бесконечно меняясь под музыку. Амбаров не обращает никакого внимания на свою третью жену. Она сидит, все наблюдая с большим интересом, постоянно поглядывает на корпорантов в цветных шапочках, беспрерывно покачивает своей маленькой ножкой. Вдруг Алпатов очень смутился и покраснел: он заметил, что Амбаров поймал его взгляд, следящий за покачиванием ноги его третьей жены. Мало того, Амбаров смеется, подмигивает ему…
Поскорее, чтобы скрыть свое смущение, Алпатов схватился за разговор об умных вещах, он спросил Амбарова, не читал ли он замечательную книгу «По ту сторону добра и зла»?
Амбаров еще сильнее засмеялся. Нет, он ничего не читает, кроме книг по химии, но тема «По ту сторону добра и зла» ему хорошо знакома по жизни бюрократии в Петербурге: по ту сторону находится власть, и к ней постоянно передвигаются люди маленькие, получая за свое терпение ордена различных святых, от Станислава до Владимира. Люди большие берут власть, не обращая внимания на святых.
Однако все это Амбаров говорил как бы шутя и слегка поглаживал кистью мрамор столика.
– Для меня, – сказал он, – большая загадка, почему из этого… – Он глянул на ногу своей женщины и усиленно потер пальцем мрамор. – Из этого простого и чисто физического удовольствия вы делаете себе нечто запретное, почти недостижимое.
Алпатов овладел собой и сказал:
– Как же простое, если от этого рождаются дети; мы не можем посредством химии сделать даже белок живым, а тут дети. У вас-то они рождаются?
– Не от всех, но если родятся, я посылаю содержание: матери бывают очень довольны.
Подали коньяк. Алпатов выпил, и ему очень захотелось во всем договорить до конца: потом всегда можно будет удрать от этого человека. Вот бы хорошо ему все рассказать о невесте, как он ее искал. Быстро, для храбрости, выпил он еще коньяку, но и тогда оказалось, что об этом вслух сказать почему-то нельзя. Впрочем, он расскажет все о Вите в химии, как будто Вита была его невестой.
Очень хорошо пришлось воспоминание о Марье Моревне: он был такой маленький, что не только не задавался вопросом, отчего рождаются дети, но даже не понимал, каких женщин и за что называют красивыми. Явилась Марья Моревна, и вдруг он понял, что она красивая. А после того как он стал все понимать, он чувствует в каждой женщине Марью Моревну, и если этого нет в ней, значит, как будто и невозможно с ней сойтись. Точно так же он не может сейчас выбрать себе специальность без того, чтобы она не являлась делом всей его жизни. Так вот он занялся химией исключительно потому, что профессор увлек его своей догадкой о близости химической реакции к реакции жизни…
Алпатов спросил под конец:
– Как можно сходиться с женщиной и не думать, что в ней находится неоскорбляемая Марья Моревна, научите меня тоже, как можно работать без сладости ожидания последнего ответа. Вы-то как работаете по химии, неужели совершенно без Виты?
Амбаров сидел совсем другим человеком, бледный, как тогда в лаборатории после цианистого кали, верхняя губа постоянно вздрагивает в левом углу.
– Я, вероятно, – сказал он, – больной, есть такая страшная болезнь: я всю сладость вперед мгновенно выпиваю про себя.
Алпатов был поражен действием своих слов, и ему стало очень жалко этого большого и красивого человека. С нежностью, с большим участием он спросил:
– Но все-таки вы живете, сходитесь с женщинами, работаете много по химии. Как это вы можете совершенно бесстрастно переходить туда… по ту сторону добра и зла.
– По инерции, – ответил Амбаров, – но в химии у меня сладость не выпита, я всю вашу Биту разгадал, и все-таки интерес у меня не пропадает это реальность. Я вам открою: это власть, и ее можно добыть только посредством химии. Я работаю над взрывчатыми веществами. Вы понимаете ли, что к власти надо пробиться без ордена, надо, чтобы не давали ее, а взять надо.
Лицо Амбарова исказилось, он наклонился к самому уху Алпатова и прошептал:
– В химии можно добыть такое вещество, начинить одну бомбочку и сказать: «Не подходите близко». Победим мы, химики, и среди химиков – я.
Не мысль, а бледное лицо с кривым, вздрагивающим ртом, и какое-то ужасное напряжение в глазах, и холод, – да, стало в жаре холодно, – вот что страшно испугало Алпатова, он узнал сумасшедшего. Амбаров по лицу Алпатова догадался, что сказал лишнее. Он принял обычный свой вид франта второго разбора, засмеялся, делал вид: он пошутил.
В это время один грузный бурш из Конкордии так внимательно, так нагло следил за качаньем ноги третьей жены Амбарова, что Алпатов с ненавистью стал смотреть на бурша, и тот это заметил. Амбаров шепнул Алпатову, наливая коньяк:
– Вы ему язык покажите.
Алпатов показал. Бурш вспыхнул. Алпатов еще показал. Бурш поднялся, подошел к Алпатову, подал свою карточку. Алпатов подал свою.
Дуэль на шлегерах
В дуэльном уставе всех корпораций есть достаточный повод к дуэли: вызывающе посмотреть одному на другого – provozierend ansehen. И оно правда, если от человека спуститься к боям у птиц и более крупных животных: у них тоже почти всегда бой начинается с глазу, один петух посмотрел вызывающе на другого и клюнул на земле, и другой посмотрел вызывающе и тоже клюнул, еще раз, и бросаются.
Бурш из Конкордии на экстренном заседании буршенгерихта, конечно, утаил, что он сильно заинтересовался качаньем ноги дамы, сидевшей с Алпатовым, и что за это Алпатов два раза ему показал язык. Было совершенно достаточно сообщения, что Алпатов бросил вызывающий взгляд, и буршенгерихт разрешил дуэль с иностранцем. Секундант корпоранта, чрезвычайно вежливый молодой человек, явился к Алпатову и сообщил ему постановление буршенгерихта.
– Я не умею фехтовать, – ответил Алпатов, – а на пистолетах драться из-за такого пустяка смешно: я не буду.
– Нет, – ответил секундант, – мы деремся всегда на шлегерах, это не очень опасно, это вопрос чести, но не жизни. Буршенгерихт, предлагая вам дуэль, делает вам честь как иностранцу, – не со всяким вильдером буршенгерихт разрешает драться корпоранту. И вам будет дано шесть недель на изучение фехтования на шлегерах.
Алпатов очень вежливо, с улыбкой поблагодарил за честь, хотел было предложить извинение, но ему пришло в голову, что немцы не его одного, а всех русских будут считать трусами: это как будто неловко…
Он согласился и сейчас же отправился приглашать в секунданты Амбарова.
– Я буду вместе с вами учиться фехтованию, – ответил Амбаров, – а сейчас я расскажу вам другую смешную историю.
Но история совсем не показалась Алпатову смешной. В какой-то сложнейшей формуле органического вещества, над которым Амбаров работал три года в Париже и Цюрихе, при вычислениях произошла ошибка, какое-то альфа-основание перепуталось с бетой, и вместо взрывчатого вещества получилась чрезвычайно прочная краска. Теперь за хорошие деньги Амбаров продает свое изобретение германскому правительству: краска защитного цвета для германской армии.
Алпатов подумал:
«Выдумка это, чтобы замаскировать вчерашнее признание».
Амбаров как будто догадался, о чем будет думать Алпа–: тов, и сказал:
– Так у меня обернулось, как у Мефистофеля: хотел сделать зло и сотворил добро для германской армии и для своего кармана. Но и у вас не лучше, мой милый: какая эволюция, давно ли вы проповедовали практический корректив в русской колонии, и теперь уже деретесь на дуэли с немцами-буршами. Если все будет у вас так быстро катиться под гору, то, возможно, к новому году мы будем с вами в родстве.
Последних слов о родстве Алпатов недослышал, потому что был очень смущен.
– Я не знаю, что делать, – сказал он растерянно, – если бы можно было как-нибудь избежать глупой истории… разве плюнуть?
– Можно и плюнуть, – ответил спокойно Амбаров, – но только зачем? Вся эта дуэль просто игра, не все же вам сидеть с книгами, постарайтесь немцу хорошенько накласть.
До этого Алпатову никогда не приходилось видеть Амбарова без ломанья: теперь он говорил, как старший, рассудительно и доброжелательно. И глаза его, спустившись к маленькому житейскому случаю, стали умными и расчетливыми.
Алпатов подумал:
«Я в нем ошибся, очень возможно, он играет зачем-то роль сумасшедшего, я серьезно принимаю, а он ломается».
– Покажите мне свою краску, – сказал он вслух. Амбаров не только показал краску, но даже и бумагу с предложением германского правительства купить ее.
Алпатов окончательно решил:
«Представляется».
После того ему стало очень весело. Осталась позади эта страшная русская жизнь, где всю молодость отдают идее, где с презрением относятся к своему телу и даже не украшают его красивой одеждой. Алпатов немедленно отправляется в магазин с рыцарскими доспехами в витринах, покупает себе шлегер, проволочную маску, кожаный фартук и со всеми этими покупками идет по адресу, указанному секундантом противника. Учитель фехтования целых два часа подряд сажает ему синяки тупым шлегером на правое плечо. И все это кажется отличным. На другой день он сносно защищается, на третий ухитрился влепить в маску противника свой шлегер с такой силой, что оторванная проволока насквозь пробила щеку учителя. Потом каждый день Алпатов выходит на улицу после фехтования, весело чувствуя, что все его тело по-своему как-то поет радостный гимн своему существованию и этому отвечает вкусный воздух.
Незаметно приходит назначенный день дуэли, и Алпатов идет туда уверенный, нисколько не думая, что поплатиться придется ему.
Кто видел когда-нибудь правильно подготовленный бой английских боевых петухов, когда на каждого блестящего черным пером, небольшого, но чуть не стального по крепости бойца поставлены значительные деньги и на это смешное петушиное смотрят серьезно страшно взволнованные люди, тому не будет новостью дуэль немецких студентов. В этих дуэлях все проходит, кажется, еще серьезней, чем в дуэлях с смертельным исходом на пистолетах, и это очень понятно: перед смертью люди могут шутить, но если не смерть, а обряд, то какой же смысл в шутке? Единственная опасность остаться без руки, если острый, как бритва, шлегер перебьет плечевое сухожилие axillans, но и то едва ли это возможно: опытный Беспартийный с высоты бочки зорко следит за первой кровью, и как только крикнет свое «halt» – секунданты скрестят свои шлегера между противниками, доктор бросится, схватит своими пинцетами разрезанные концы ahillaris и как-то по-своему устроит все к благополучию.
Как вынимают знатоки дела боевые шлегера из футляра и примеряются ими, как смачивают блестящие клинки карболкой и еще раз примеряются и шикарно пересекают острием клинка в воздухе волос: каждое движение родилось в недрах природы, в петушиных, турухтаньих, оленьих боях – вот когда! – и потом сколько совершенствовалось, утончалось в Риме, освежалось варварами, переходило к рыцарям в средние века, блестело при луне у балкона испанки и в нашем военном строю при свете науки…
…Милый друг, я слышу военную музыку и пение:
Высоко в небе ясном
Вьется алый стяг…
Все в моем доме бросаются к окнам. Вот впереди под звуки марша Буденного важно, сосредоточенно-серьезно идет красный командир и за ним в шлемах революционная армия, все молодцы один к одному, отлично здоровы, одеты и сыты. Никогда я не был военным, но все равно древнее чувство военного просыпается в моей природе, и тело покрывается гусиной кожей от волнения…
Доктор отлично озаботился проветрить большую залу для поединка, воздух свеж и чист. Секунданты с опущенными шлегерами подходят к Беспартийному и заявляют ему: «Все готово». Тогда Беспартийный становится на бочку и высоко поднимает свой шлегер. Противники сходятся с открытыми лицами, плечами и грудью.
Все начинается с такой же осторожностью и затаенным волнением, как у петухов, вооруженных самой природой боевыми шпорами, тоже долго примериваются тот и другой, ожидая на себя нападения, думая: пусть он первый ударит, а я готов отразить удар и потом ударю по-своему. Алпатов первый не выдержал томительного дрожания шлегеров, и удар его стали о сталь рассыпался искрами. Корпорант с мясистой грудью, как у борцов, согнувшись, быстро отступает, парируя, Алпатов наскакивает, стараясь сразу его утомить. Но почти уже у самой стены корпорант внезапно обрушивается на Алпатова, и тот, принимая на ручку шлегера удар за ударом, быстро отступает назад к стене и, так собравшись с силами, тоже нападает, и корпорант больше не хочет отступать. Теперь все должно скоро кончиться. Беспартийный не дышит, впиваясь глазами, секунданты приготовились при первом слове Беспартийного мгновенно скрестить шлегера.
Было одно мгновенье, когда блестящие глаза Амбарова, сверкнув, встретились с глазами Алпатова, и этого было довольно, чтобы шлегер корпоранта кончиком своим немного задел. Алпатов знал, что во рту у него где-то был кончик шлегера и, значит, дуэли конец. В это время и противник, вероятно, заметил свой удачный удар, растерялся, когда не последовало «halt» от Беспартийного, и не успел парировать горизонтальный удар. Тогда закричал Беспартийный, и секунданты скрестили свои шлегера.
Алпатов выплюнул изо рта кровь вместе с зубом, у противника на груди широко развалились мускулы, заливая все кровью. Доктор спешит промывать и сшивать, секундант корпоранта с негодованием бросается к Беспартийному: первая кровь была у Алпатова, почему же он не остановил дуэли? Но оказалось, что первую кровь у Алпатова скрыли усы. Беспартийный прав: он кровь заметить не мог, потому что прямо же вслед за этим ударом сверху Алпатов ударил по горизонтали. Потом корпорант, не обращая на боль и кровь никакого внимания, просит пива и, улыбаясь, приветствует противника. Алпатов чокается с ним весело: прозит и мойн.
Вот этого в петушином бою не бывает: улыбку над всем происшествием и привет противнику прибавили люди.
А между тем фуксы, эти молодые члены корпорации, еще в черных декелях, фуксы первых семестров, красс-фуксы и старшие брандфуксы, сдвигают столы, составляют один большой, во всю залу. Другие тащат свежую бочку, пробивают ее острием, ввинчивают кран, расставляют по всему столу зейдели. Собираются мало-помалу старшие корпоранты, полноправные члены конвента, в шитых золотом цветных декелях и с лентами на груди, корпоранты первых ступеней молодые дома, корпоранты вторых ступеней – старые дома, третьих – почетные головы и вечные студенты, седеющие и лысые, много лысых, разные филистры, давно уже окончившие университет и сидящие на хороших государственных местах, но все-таки в цветных декелях, совершенно истыканных шлегерами на коммершах своей юности, и какой-то совсем старый филистр в чине действительного тайного советника.
Председатель ударяет по столу шлегером. Все поют старинную студенческую песню: «Ob Fels und Eiche splittern wir werderi nichts erzittern!» И пьют, и говорят приветствия филистрам отдельно, начиная с тайного советника, потом опять поют, и пьют, и говорят о неизменных традициях корпорации «Concordia», благодарят за поддержку почетных филистров, всех от высшего к маленькому, нисходя пирамидально.
Начинается ландесфатер. Все берут в руки по шлегеру, становятся парами – друг против друга, прокалывают остриями шлегеров свои цветные декеля и поют:
Декель я колю тобою,
Клятвою клянусь святою
Быть достойным и верным
Своей Альма Матер.
И когда ландесфатер окончился и фуксы внесли третью бочку и стали разносить филистрам, гостям и членам конвента первые ароматные зейдели тяжелого темного баварского пива, сменившие светлое саксонское, случилось маленькое происшествие, которое всегда неизменно случается и всех развлекает всегда: провинился маленький неопытный фукс.
Вина юноши не была так велика, и, пожалуй, ее совсем и не было, а только действительному тайному советнику вспомнилась его юность, когда он был тоже наказан, и ему захотелось пошутить с мальчиком. Юноша пронес мимо самых губ Алпатова зейдель с пенистым пивом и поставил перед тайным советником. Старому филистру было неловко перед иностранцем, и, чтобы загладить неловкость, он решил наказать крассфукса ванценкуришем. Все бросают в кружку несчастного фукса окурки, пепел, спички, объедки, всякую невозможную клопиную дрянь. Фукс на виду всех становится на колени, подносит эту кружку к своему рту. Только сразу выпить и отделаться, как все мы выпиваем касторку, фукс не может, он должен медленно тянуть ванценкуриш столько времени, сколько будет тянуться общее пение, а оно умышленно тянется долго на слове: тяни.
Der Fuchs, der hat
Verschiess gemacht
Zum I'erum, larum, leere,
D'rum bist du scheusslich ausgelacht
Zum lierum, larum, leere,
Ziehe Fuchsschnautz, ziehe-a-i-a,
In Dreck bist du an die Knie-a-i-a,
Ziehe, Fuchsschnautz ziehe-a-i-a…
Последнее слово – «тяни» – на звук «и» тянется беспредельно.
…Друг мой, обратите внимание, как часто в нашей стране бранятся дураками, и с детства я слышу даже от образованных русских людей о немцах, что они дураки. Никогда не называют у нас дураками французов, англичан, итальянцев, китайцев, японцев. Я так разбираюсь в этом противоречии, что дураками у нас считают главным образом людей, у которых традиция преобладает над личными качествами, что позволяет даже действительно неумному человеку провести неглупую жизнь. У нас наоборот, не имея возможности жить чужим умом с помощью традиции, наш дурак так исхитряется, что становится умным. А еще мы приладились юродствовать в положениях, плохо подчиняющихся действию разума, тогда как немцы устраивают и это разумно; я думаю о множестве немецких браков при содействии брачных газет, браков часто многолетних и совершенно счастливых. Точно так же невыносимо нам приспособление рыцарских традиций к современному бюрократическому строю в студенческих корпорациях, где тайный советник дисциплинирует маленького фукса в верных чувствах своему кайзеру и потом приготовляет ему местечко по службе…
Алпатов был оглушен глупостью всего происходящего. Не имея возможности даже посмеяться с Амбаровым, он стал быстро пить зейдель за зейделем золотое саксонское пиво, светлое берлинское, темное баварское.
– Тяни, тяни, – пели студенты во главе с тайным советником.
И Алпатов тянул. Другой маленький фукс, сменивший наказанного, зорко следил за ним, чтобы не попасться, как первому, и быстро ставил ему все новые и новые кружки. Последнее слышал Алпатов, как поперхнулся тайный советник и по-старчески раскашлялся…
Он очнулся поутру на чьей-то широкой двуспальной постели с золотыми шишками, под чистым пологом в кружевах. Рядом с ним спала молодая женщина. Изумленно всмотрелся Алпатов в спящую и с трудом понял злую шутку Амбарова: с ним рядом лежала та самая его третья жена, из-за которой происходила дуэль.
Новый год
Старый друг, был у меня клочок земли, где я провел свое детство, я был страстно связан с этой родной землей и не хотел с ней расстаться. Близилась революция, умные люди, соображая, советовали мне поскорее продать чернозем. Конечно, я говорю о них умные в особом смысле, потому что действительно умными считают не тех, кто умеет соображать, а кто в состоянии обдумать все свои переживания и через это понять жизнь других людей. Я не продавал земли, потому что, казалось мне, мои неспелые мысли только здесь могут созреть и обратиться в плоды, необходимые всем. Но я не мог этого объяснить окружающим меня людям, взволнованным борьбою за землю. Я их сам когда-то поощрял в этом движении и потому скрепя сердце отдал свой удел без борьбы. После того, чтобы не утратить воспоминания о земле моего детства, я выдумал себе, когда не спится, прогулки по саду, вызывал в себе отчетливые представления каждого дерева, каждого куста, сонных белых ночных бабочек, облепляющих днем основания стволов старых лип, неизменно бывающих с ними красных с черным крапом жучков, пурпуровых пауков величиной с булавочную головку… Все это я, лежа на подушке, с закрытыми глазами, представляю себе как-то даже более ярко, чем было в действительности, и потом, как продолжение чувства природы, являются люди… Знаю, конечно, что все эти видения питаются болью, но ясность мысли при этом, углубленное понимание современности обогащают меня, вероятно, больше, чем если бы я теперь обладал любимым уделом. Скажите, друг, мудрее ли меня тот, кто, избегая боли, зная наперед, что всякая страсть вызывает потом страдания, вовсе не стал бы, как я, устраиваться на клочке земли своего детства? Я называю теперь эти мои новые чувства счастьем своим, я понимаю их как награду за мою боль, но скажите, неужели мудрее меня тот, кто не отдавался бы, как я, бессмысленно с доверием к жизни и заморил Оы в себе заранее источник всякой боли и радости? Я не стал бы вас теперь об этом спрашивать, если бы мне не сопутствовал некто через всю жизнь, встречавший каждое мое свободное движение словами: «Грех, грех, грех!» Простите, друг, за это небольшое отступление, вызванное бессонницей. Так в этот раз вышло совсем неожиданное: я закрыл глаза перед сном, отправился в обычную мою мысленную прогулку по аллее, где в действительности теперь стоит ряд новых деревенских изб, сел отдохнуть на несуществующую лавочку, вспомнил вас, начал беседу и… не могу больше заснуть. Вдруг вскакиваю с постели, говорю вслух: «Не надо спать!» Зажигаю лампу и начинаю свою летопись. Так я называю свои писания, потому что, мне кажется, я лет триста прожил, как ворон, и есть мне о чем рассказать.
В свете моих собственных переживаний мне теперь представляется неважным вопрос, было ли что-нибудь у Алпатова с женщиной в эту ночь. Униженный и раздавленный омерзительной шуткой человека, которому неосторожно доверялся, Алпатов, чтобы не разбудить спящую женщину, встает, одевается и выкрадывается на улицу. Время уже близится к полдню, всюду большое движение, все готовятся сегодня вечером встречать Новый год. Как видение из далекого, давно оставленного им мира Алпатов узнает идущую в толпе соседку его в лаборатории Розу Катценэлленбоген. И он решительно направляется к ней, потому что уверен сейчас – в этой рыжей еврейке с предназначенной ей как бы в самом рождении должностью провизора в пинской аптеке заключается и конец его унижения. Роза немного удивлена: почему Алпатов, оказавший такие необыкновенные успехи в химии, вдруг все забросил, куда-то исчез, что с ним происходит? Алпатов ей лепечет что-то и самому себе мало понятное. Они заходят вместе в одну маленькую кнейпе позавтракать, и тут Алпатов начинает объясняться более связно: химией он потому перестал заниматься, что физика обиделась, а когда занялся физикой, то – история человека, а все науки изучить невозможно.
– Если бы я была мужчиной, – воскликнула Роза, – я бы не тратила время даром, я бы за границей изучила, как осушать болота, и потом я бы наши Пинские болота превратила в плодородную страну. Нет, я не стала бы терять время на раздумье, что изучать: наше ученье здесь дорого стоит. Вы думаете, мало нас, фармацевток? – продолжала Роза. – Что можно заработать в аптеке? А инженер и еще болотный, торфмейстер, я думаю, в России может всего достигнуть, и себе хорошо, и людям самое нужное.
Алпатов, слушая Розу, в одно мгновение представил себе, что сладость занятий науками – это личное дело, и потому нельзя ни на чем остановиться, что смотришь в себя, думаешь о себе: сам живешь, переменяешься, и там снаружи все переменяется. А вот если взять болота, как постоянную величину, как у Розы аптека, то действительно можно достигнуть бесстрастия и независимости. Но в то самое время, как он подумал о постоянстве болот, стала навертываться знакомая сладость на достижение независимости, та самая опасная сладость мечты, увлекающая его в беспредельность.
«А что, если закрепить свое решение сейчас, в этот миг навсегда и сделать предложение Розе?» – подумал Алпатов и посмотрел искоса, как она, доедая шницель, вычищала хлебом тарелку.
Выходит как бы ответ трудной математической задачи, ответ – факт: если только он сейчас сделает предложение Розе, то непременно и сделается потом болотным инженером и очень полезным человеком, и ему будет хорошо и совершенно покойно в ту же минуту, как получит согласие.
«Вот тогда все будет кончено», – подумал он в последний раз, чтобы вслед за тем сказать: «Я соглашусь сделаться болотным инженером и осушить потом Пинские болота, если вы согласитесь быть моей женой».
– Кельнер! – крикнула Роза.
Встала, уплатила, подала руку Алпатову и вышла.
Так бывает – на один волосок от себя пройдет что-то огромное и не заденет: не судьба.
«Слава богу, не сорвалось у меня с языка, – подумал Алпатов. – Роза от меня никуда не уйдет».
Он загадывает, с места не сойти, пока не придумает какой-нибудь выход в постоянство сознания, кроме последнего несомненного средства – жениться на Розе. Медленно, чтобы только показывать вид, будто он пьет и, значит, имеет право оставаться на месте, тянет он из кружки пиво и думает, потом еще спрашивает кружку… Мало-помалу вместо думы ввинчивается боль и живет там, внутри, как дума, все растет и растет, переходит в полное чувство физической боли, как зуб болит…
Вспыхивают электрические лампочки. Два кельнера усиленно гремят, сдвигая столы, наконец с поклоном подходит хозяин и вежливо напоминает: сегодня здесь будет встреча Нового года, сейчас закрываются двери, но потом, вечером, он просит гостя пожаловать к нему лично, если только милость его будет, встречать с его семьей и обычными гостями Новый год. Потом, узнав, что Алпатов иностранец, хозяин кнейпе объясняет ему всеобщий обычай в Саксонии угощать под Новый год всех, кто только бы ни зашел. И, конечно, хозяину особенно приятно будет почтить иностранца, который на чужбине вспоминает свою милую родину.
Алпатову сразу же после слов хозяина с небывалой силой и радостью вспомнилось русское Рождество, снега, узоры на окнах. Он очень благодарит хозяина и обещается. А хозяин считает своим долгом еще раз объяснить гостю, чтобы он не подумал, будто он его желает в интересах своего дела, нет: все угощение будет за счет хозяина, такой обычай во всей Саксонии.
В этом внезапном явлении русского зимнего рождественского ландшафта было Алпатову что-то совсем новое, и он это нес в себе домой до самого момента, когда маленьким ключиком повернул замок своей квартиры. Обыкновенно он входил почти неслышно в свою комнату, и хозяйка никогда не встречала его, чтобы не показать виду, будто он ее потревожил. Но теперь, как только он отворил дверь, хозяйка выходит ему навстречу, и у Алпатова является предчувствие какой-то беды. И когда хозяйка прошептала, что у него сидит давно гость, тоже русский, сердце упало у него: он знал, какой это гость, что это Ефим наконец приехал за отчетом в его революционных делах, тот самый Ефим, который, казалось, всегда был ему на родине всех дороже.
Самое ужасное, что Ефим Несговоров ничего совершенно не замечает по лицу Алпатова и так же идет к нему навстречу, как было раньше, и это, что было раньше, представляется Алпатову необычайно прекрасным и как-то родственно связанным с тем, что шевельнулось у него в душе, когда хозяин пивной пригласил его встречать Новый год, что-то русское с праздниками, хотя Ефим праздников не признавал, с морозными узорами на окнах, хотя Ефим узоров никаких не видел и занимался только революцией… Все это промелькнуло мгновенно в одном объятии, хотя никаких объятий не было, и друзья только подали руки, и Ефим улыбнулся только глазами.
Алпатов неестественно ласковым голосом спрашивает:
– Ты меня долго ждал?
Ефим сразу чувствует неестественный тон и спрашивает довольно сурово:
– Где ты был? Алпатов отвечает:
– Так… был в кабаке.
И все кончено, Ефим уже хмурится, уже догадывается.
Спрашивает:
– Ты сделал что-нибудь?
– Ничего, – ответил Алпатов, точь-в-точь как в первом классе гимназии, когда показывал матери журнал и там были одни единицы и хотелось объяснить, что не он виноват, а несправедливые учителя.
– Значит, ты опять в ху-до-жест-ве? – сурово спрашивает Ефим.
– Значит, в художестве, – отвечает Алпатов.
– И не хочешь работать?
Алпатов назло, как, бывало, учителям:
– Нет, не хочу!
Ефим поднимает голову и смотрит внимательно:
– Что это у тебя губа рассечена, ты упал?
– Я дрался на дуэли за женщину, – ответил Алпатов. Ефим поднимается с кресла и, не прощаясь, идет к двери и на ходу говорит:
– Какой ты шалун!
Знакомая дверь там, в коридоре, захлопывается, запираясь автоматически.
Все кончено.
Случилось гораздо большее, чем Алпатов представлял себе, когда вгорячах отвечал Несговорову, но он это не сразу понял и уснул в кресле, как будто ничего не случилось. А когда он просыпается, то ему теперь повторяется совершенно так же, как было, когда его исключили из гимназии. Быстро он одевается, выходит на улицу, идет по круговому бульвару и ничего не видит, впереди только темные стволы каштановых деревьев: все внутри. Выходило немного странным и нелогичным, ведь вместе с этим Ефимом они с детства отрицали все, что называется родным, праздники с попами и иконами, русские неудобные телеги, сохи, овраги – все, даже над русским морозом смеялись всегда, вспоминая: «Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь». А теперь все это явилось прекрасным, почему-то неразрывно связанным с Ефимом и вместе с ним теперь утраченным. Алпатов и теперь не знает в своем словаре родины, но ландшафт является ему картиной, которую, кажется, если бы можно в темноте, он точно бы нарисовал, и при этом все располагается в этом ландшафте под музыку.
Далеко где-то молотилка, будто пчела гудит. А в лесу настоящая пчела летит за последним взятком, будто молотилка вдали гудит. Вот как тихо: земля под ногами, как пустая, бунчит. Миновал перелесок, спустился в низину, вспомнилось ее необыкновенное старинное название: ендова. Тут, в ендове, люди в овчинных тулупах перележали холодную осеннюю ночь возле своих лошадей. Люди эти просты, как полевые звери, и разговор их самый простой и веселый про одного зайца, которому корова наступила на лапу, все очень смеются, вспоминая, как вился под коровьей ногой русак, а она так ничего и не знала о нем, и все жевала и жевала. А за ендовой уж начинается чужой лес, и тут ему встречается обрамленный осенними цветами деревьев светлый водоем, как затерянное начало всего прекрасного на свете. Тут с разноцветных деревьев, кленов, дубов, ясеней и осин, юноша выбирает самые красивые листы, будто готовит кому-то цвет совершенной красоты. «Друг мой, – шепчет голос, посвящающий в тайну, – не входи до срока в алтарь исходящего света, обернись в другую сторону, где все погружено во мрак, действуй тут силой, почерпнутой из источника, и дожидайся в отважном терпении, когда голос мой позовет тебя принять свет прямой».
В полях сгущается мрак, и в душе в ответ большая тревога, что не найти потом больше никогда эту тропинку к светлому источнику. Но тьма не наступила: еще не успела потухнуть вечерняя заря, как с другой стороны поднялась большая луна, свет зари и свет луны сошлись вместе, как цвет и крест в ярких сумерках. Вот тишина! Как пустая, бунчит под ногою земля, зажигаются звезды, пахнет глиной родной земли, невозможная красота является в ярких сумерках, и великий художник, управляя волшебной переменой цветов, говорит:
– Юноша, земля моя усеяна цветами, и тропинка вьется на ней, будто нет конца ароматному лугу. Я иду, влюбленный в мир, и знаю, что после всякой самой суровой зимы приходит непременно весна с любовью, и весна – это наше, это главное, из-за чего живут на земле. Цвет – это наше, это – явное, это день, а крест – одинокая ночь, зима жизни. Я художник и служу тому, кто украшает мир так, что и сам страдающий бог, роняя капли кровавого пота, просит: «Да минует меня чаша сия!» Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли тяжесть своего креста.
Другой одинокий человек шел по круговому бульвару с другой стороны и против фонаря стал у дерева, как будто не решаясь идти дальше. Больше никого и не было на бульваре, все люди, встречая Новый год, зарылись в своих каменных муравейниках. Но вот раздаются шаги, и такой же одинокий человек подходит к тому же самому дереву и фонарю. Алпатов очнулся и, увидев другого, узнал то самое место, где сегодня звали его встречать Новый год. Тогда ему показалось, будто это приглашение к встрече праздника каким-то образом связано с его новым чувством особенной своей музыкальной родины и что он непременно должен быть в этом уличном кабачке. А другой тоже идет туда после раздумья, спускается вниз по каменной лесенке; при свете фонаря видна его скромная одежда рабочего человека, борода большая, как у русского. Алпатов спускается вслед за ним…
Не узнать пивную, в которой сегодня же был, все устроено, как будто это внутренняя комната какой-то семьи. Барышня, вероятно, хозяйская дочь, встречает его приветливо, как знакомого, просит раздеться, гости приветствуют его приход, другая барышня играет на пианино, а третья вот уже подходит к нему с подносом, просит взять его стакан с горячим вином. Он узнает за столом рядом с ним только что встреченного им на бульваре пожилого, в бороде, рабочего и прямо обращается к нему, как будто они с ним давно знакомы, и кажется ему, как на родине, вот сейчас, совершенно как там при встрече с незнакомым человеком, начнется душевный разговор о самом близком. Алпатов спрашивает его так же, как и на родине все спрашивают, откуда он, чем занимается.
Но с виноватой улыбкой наклоняется к нему старый человек и просит погромче сказать: он глуховат. А когда понимает вопрос, вот как он просветлел, вот как приятно ему рассказать о себе. Он глуховат, потому что весь день сидит в котле и пробивает дыры, в этом его дело, всегда грохот.
– У вас громкое дело, – посмеялся Алпатов.
– Что же делать? – смеется старик. – Я ничего другого не умею, но есть работы куда хуже моих, мне теперь хорошо.
– Как же хорошо, если вы теперь глохнете от этой работы?
– Это не беда, а была раньше у меня жена и три дочери: вот было трудно. Жена умерла, дочерей всех я выдал замуж, теперь стало легко, очень легко и хорошо. Я теперь даже книги читаю и думаю. А вы тоже имеете возможность читать и думать?
– Я всегда думаю, я с колыбели думаю, – ответил Алпатов.
Рабочий очень обрадовался:
– О, какой вы счастливый человек! Но чем же вы таким занимаетесь, что у вас есть возможность постоянно читать и думать?
Алпатов ответил не ложно, он в эту минуту как бы подписывал вексель с обязательством непременно расплатиться за свои слова.
– Я торфмейстер, – сказал, – я осушаю болота в России.
– Очень хорошо, – обрадовался старик, – в России, наверно, много болот.
Алпатову есть о чем рассказать. В России есть целые большие края, почти как Саксония, под болотами, и очень возможно их обратить в золотые луга, есть огромные залежи торфа, спящие богатства, которые от избытка своей силы летом вечно дымятся и помрачают свет солнца…
Старик сказал:
– Да, вы счастливый человек, вам есть над чем подумать. Но и я скажу прямо: теперь и мне ничего, теперь и у меня тоже есть время о многом подумать…
А стрелка часов мало-помалу подходит к двенадцати. Все три дочери спешат поскорей обнести гостей новыми стаканами глювейна. Вот начинается бой часов, все поздравляют друг друга, и пьют, и опять наливают стаканы, начинают говорить речи. Алпатов тоже встает, извиняется за свой нечистый язык: он иностранец, он русский… Долго не понимают гости, о какой это говорит иностранец волшебной зеленой стране. В этой волшебной стране странник идет даже по обыкновенным дорогам, и в жаркий день над ним склоняются деревья, обремененные сочными плодами…
– Да это у нас, – вдруг догадываясь, перебил речь иностранца старый котельщик.
– У нас! – обрадовались все.
И бросились поздравлять и обнимать иностранца.
Звено восьмое
Брачный полет
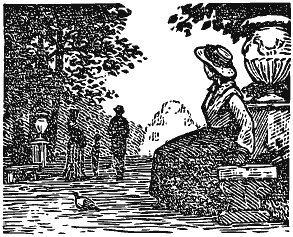
Пуд соли
Пуд соли съесть, чтобы человека узнать, – плохая мудрость в Европе, где в установленных формах общежития можно десятки лет ежедневно обедать с людьми и произносить одно только слово: «Mahlzeit!». Можно и так устроиться, что ежедневно будешь говорить за столом, вечером будешь принимать участие в домашних концертах, вместе ходить раз в неделю в театр, по праздникам прогуливаться на велосипедах, на лодке, и так вместе съесть не один пуд соли и все-таки оставаться совершенно неузнанным. Так жил несколько лет Алпатов на Штернвартенштрассе в Лейпциге в семье одного покойного, известного далеко за пределами Германии композитора. Семья была: вдова музыканта-профессора, седеющая дама с живыми глазами, и студент консерватории, сын ее, для которого она и жила. Не раз, конечно, Алпатов говорил в этой семье о своем плане работать в России торфмейстером, и ни разу никто не поинтересовался интимными причинами выбора им столь скромной профессии. Однако вопрос этот, наверно, не раз уже висел на кончике языка профессорши, и когда наконец она об этом спросила, то поговорка о пуде соли явилась неверной своей стороной. Случилось это под самый конец курса болотных наук. Алпатову оставалось на своем дипломном проекте гидро-торфной машины сделать циркулем мельчайший красный кружок. В чертежной, однако, не находится даже крупинки для этого необходимого кармина. В системе подшипников, где красным кружком подчеркивалось изобретение самого Алпатова, невозможно было ничего так изменить, чтобы обойтись с помощью туши. И вот из-за такого-то пустяка пришлось ехать домой за кармином. В этот час профессорша завтракала в одиночестве. Увидев Алпатова, она очень обрадовалась и просила его побыть минутку с ней за столом. А когда Алпатов сообщил ей, что ему остается только один кружок сделать циркулем и он может наконец-то ехать на родину, то вот тут и спросила профессорша, в какой губернии находятся его болота, сколько их в его владении. Алпатов ответил: в его владении нет ничего. Профессорша глубоко посмотрела на него и сказала:
– Мне казалось, я довольно вас знаю, и думала до сих пор – вы отдаетесь этому скучному и как будто несродному вам делу или как крупный собственник, или как друг человека. Скажите, осушение болот должно сильно изменить жизнь ваших бедных крестьян?
– Мне кажется, – холодно ответил Алпатов, – вы очень ошибаетесь, предполагая, будто хорошо меня знаете: я занимаюсь этим делом по личной склонности.
Тогда у пожилой женщины с молодым инженером произошел разговор.
Профессорша. Такие инженеры, как вы, бывают только у Ибсена.
Алпатов. А какие инженеры у Ибсена?
Профессорша. Инженеры, строители, банкиры, священники у Ибсена все поэты, это даже не легенда о людях, а как бы легенда о легенде норвежских туманов. Так и у вас, мне кажется, ваше болотное дело родилось не в жизненной необходимости, создалось в молодой фантазии.
Алпатов. Без фантазии невозможно никакое дело, и притом, я думаю, существует единство жизни: если бы ваш гениальный в музыке муж не узнал бы о себе как музыканте и занимался бы осушением болот, то и тут сделал бы все не по рутине, а как-нибудь совершенно особенно и прекрасно.
Профессорша. Едва ли. У него были слабые легкие, болотный воздух убил бы его раньше, чем он мог бы что-нибудь сделать. Наша жизнь очень коротенькая – все в этом, и потому надо как можно меньше уклоняться в сторону от своих природных склонностей.
По смущенному и грустному лицу Алпатова профессорша вдруг заметила, сколько она лишнего наговорила.
– Простите меня, господин Алпатов, – сказала она, – я никак не хотела вас задеть и сделать чем-нибудь больно, вспомните, как хорошо мы жили с вами изо дня в день три года.
Алпатов встал, наклонился к руке профессорши, и она поцеловала его в лоб.
Ему стало, однако, не совсем по себе от разговора. Захватив с собой кармин, он вышел на улицу и остановился в ожидании электрического трамвая. По молодости этого дела в то время трамваи ежедневно много давили людей на тесных улицах. Вероятно, теперь как раз и случилась одна из этих катастроф: трамвай не показывался. В далеком конце улицы, как в окошке, явилось на небе летнее круглое облако – первый признак февральской весны. Это облако перенесло Алпатова к далекой его весне света, когда он, глядя в окошко тюрьмы или шагая по камере, отмечал себе каждый миг в движении весны света, потом весны воды, зеленых растений и дожидался себе самому весны человека. Облако было очень знакомое, росло, поднималось, как лебедь, звало сорваться с места, лететь в синий мир. И что же? Единственным препятствием к этому полету теперь была только обязанность поставить на чертеже маленький кружок кармином. Не тюрьма с железными решетками держала человека в плену, а какой-то самолюбивый кружок, весь смысл которого был – подчеркнуть свое собственное пустяковое изобретение. Между тем со стороны, противоположной трамвайному ходу, идет деревенский омнибус, и если сесть в него, то и будешь через малое время в том самом мире, где плывет облако-лебедь.
Алпатов входит в омнибус, и вот такие странные явления происходят в больших городах: там не старухи с корзинами, как обыкновенно бывало, а все только молоденькие девушки. Алпатов не придал этому значения и в рассеянности приписал преображение вагона силам весны. Среди этих девушек была одна с лицом, закрытым зеленой вуалью. Никогда без волнения Алпатов не пропускал лиц женщин в зеленых вуалях, но теперь почему-то отвернулся к окошку, хотя эта девушка смотрела на него упорно. На ближайшей остановке входит рабочий в синем и, вероятно, прямо с большой, очень тяжелой работы: весь омнибус наполнился запахом рабочего пота. Некоторые девушки, переглядываясь, зажимают носы, другие догадываются уйти на площадку. Освобождается много места, рабочий садится против Алпатова.
– Вот как просто можно себе место добыть, – говорит Алпатов.
Рабочий добродушно усмехается. Так даже годы жизни в Европе не могли отучить Алпатова от внимания и сочувствия рабочему человеку. Он сказал:
– Вот наши дамы в России привыкли ко всяким духам. И в то же самое время девушка с зеленой вуалью сказала по-русски:
– Вы русский? Алпатов обернулся.
– Я узнаю вас, – сказала девушка, – вы Алпатов – я помню ваш голос, едва ли только меня вы узнаете…
– Нет, – ответил Алпатов, – я узнаю: вы приходили ко мне в тюрьму.
Алпатов пересел к ней и забыл про рабочего.
Вероятно, так зимующие птицы в далеких краях находят друг друга и потом уносятся в брачном полете на места гнездования.
Назад: Звено шестое Зеленая дверь
Дальше: Звено девятое Положение

