Книга: ДЕСЯТЬ БАЛЛОВ ПО БОФОРТУ (Повести и рассказы)
Назад: БОРИС ВОРОБЬЕВ. ДЕСЯТЬ БАЛЛОВ ПО БОФОРТУ (Повести и рассказы)
Дальше: ЛЕГЕНДА О ГОНЧИХ ПСАХ
ПРИБОЙ У КОТОМАРИ
ПРОЛОГ
Девять человек.
Шестеро — в кубрике, где нельзя по-настоящему разогнуться, двое — в машинном отделении за переборкой, девятый — в рубке наверху.
Но трое последних недолго останутся с нами. Они лишь высадят шестерых на темный и мокрый берег и уведут судно обратно.
Это случится позднее; пока же эти трое заняты своими делами и своими мыслями.
И тот, что находится в рубке, и двое других, в машине, думают сразу о многих вещах:
о течении, которое все время сносит судно с курса;
о минах в черной воде;
о приливе, который независимо от твоего желания начнется ровно через три часа и к которому нужно успеть, потому что только с ним и возможно подойти к берегу;
о пушках и пулеметах на берегу, которые при малейшей оплошности разнесут судно в щепки.
Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе этих троих. Может быть, один из тысячи взрывов, прокатившихся в ту ночь над Великим океаном, был взрывом под днищем их судна; может быть, им удалось возвратиться домой.
Теперь о шестерых.
Они молоды и полны сил. Старшему из них тридцать, младшему — двадцать три. Шесть мужчин: старший лейтенант Сергей Баландин, главный старшина Влас Шергин, старшина первой статьи Федор Калинушкин, сержант Владимир Одинцов, старший матрос Иван Рында, матрос Мунко Лапцуй.
Запомним их, ибо они окончили свой путь. И ни земля, ни море не сохранили их могил.
Мы расскажем о них все, что знаем.
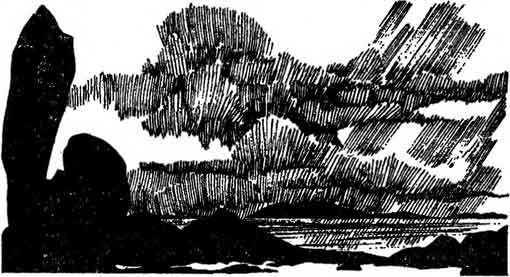
1
— В кубрике!
Металлический голос прозвучал над самым ухом. Разморенный духотой, Баландин не сразу сообразил, что призыв обращен к ним. Чтобы осмыслить это, ему понадобилась целая секунда. Неразборчивое бормотанье в переговорной трубе свидетельствовало о том, что наверху недовольны затянувшейся паузой и готовятся повторить вызов. Баландин наклонился к раструбу.
— Есть в кубрике!
— Старшего в рубку!
Трап. Пять ступенек. Распахнутый прямоугольник двери был едва светлее душной внутренности кубрика.
Крутая зыбь накатывалась из темного пространства океана. Волны с шипением обтекали пузатое тело бота, пробивали клюзы, обдавая водяной пылью палубу и окна наглухо задраенной рубки. Вдохнув соленого влажного ветра, Баландин открыл дверь.
В рубке, освещенной лишь фосфоресцирующим светом приборов, горбился над штурвалом старшина бота.
Протяжно скрипели штуртросы.
Качка здесь ощущалась явственнее, чем внизу, и Баландину пришлось прислониться к стене.
Ничто не изматывает нервы так, как неизвестность. И ничто не тянется так убийственно долго, как ожидание. Самый сильный человек в таком положении рано или поздно начинает испытывать то состояние усталости и внутреннего распада, когда не помогают ни курево, ни попытки отвлечься от тревожных мыслей, ни разговоры вслух с самим собой.
Уже несколько часов бот шел к невидимому в ночи берегу, и в рубке старшина в тысячный раз глядел на хронометр. Роковая медлительность стрелок могла свести с ума хоть кого. Поэтому каждый раз, глянув на хронометр, старшина стискивал зубы и, как от врага, отводил ненавидящий взгляд от медного, холодно светящегося круга.
Старшина устал. У него сводило руки и ноги, ныла натруженная поясница. Звенело в голове. Минуты слабости, когда хотелось нагнуться к переговорной трубе и вызвать помощника, наступали все чаще. Но старшина пересиливал себя. Повисая временами на штурвале, он упорно вел бот к той условной точке в океане, координаты которой были известны только ему.
— Зыбь, — не оборачиваясь, проговорил старшина. — Хуже нет этой зыби.
Баландин молчал, вглядываясь из-за плеча старшины в черные рубочные окна. Он понимал старшину: его ответственность, его раздраженность и усталость, его одиночество в этой тесной и низкой рубке, где, советуясь только с самим собой, старшина принимает решения и сам выполняет их; его напряжение в единоборстве с ночным океаном, когда на сотни миль вокруг нет ни створных огней, ни заранее отмеченных фарватеров, когда каждый звук за бортом кажется подозрительным и вызывает стеснение в груди. Но Баландин также знал, что старшина позвал его сюда не для того, чтобы жаловаться на трудности, и ждал, когда тот наконец заговорит.
— Слышь, старлей? — старшина снял одну руку со штурвала и извлек откуда-то сложенную вчетверо карту. Поднес ее к сиявшему мертвенным светом нактоузу. — Смотри. В точку мы не поспеваем. Сносит, как котят. Но можно сделать финт ушами. Вот эту отметку видишь? Ноль целых хрен десятых? Камни. Перепрыгнуть мы их сейчас не перепрыгнем. Но, — старшина вернул на курс рыскнувший бот, — скоро пойдет вода, и тогда чем черт не шутит. Перескочим — наше дело в шляпе. Попробуем, старлей, а?
— А что, не успеваем — точно?
— Как в аптеке! Течение. И ветер в морду.
«Так, — подумал Баландин, — только этого не хватало: не успеваем! Это значит, что надо либо срочно возвращаться, либо решаться на предложение старшины. Впрочем, возвращение невозможно: они все равно не успеют убраться до рассвета, и их расстреляет любой корабль. Стало быть, придется рисковать. А велик ли риск? Велик. Если бот сядет на камни, утром их выловят из воды, как зайцев в половодье. Хотя… Сколько от камней до берега? Не больше двух миль. От силы — две с половиной. Добраться на шлюпке раз плюнуть. Но бот! Японцы вмиг учуют, откуда дует ветер, и поднимут трамтарарам. Тогда заказывай деревянные бушлаты. А если проскочим? И почему бы не проскочить, в конце концов! Боту нужно всего полметра под киль. Будет полметра. Приливы здесь большие, не то что на Балтике. Только бы старшина не подкачал. Не должен. Старморнач за него как за себя ручался…»
— Когда будем у камней?
— Часа через два, — ответил старшина, понимая, что его предложение принято, и проникаясь симпатией к стоявшему рядом разведчику, за молчаливой внешностью которого угадывалось спокойствие видавшего виды человека. — Через два часа дошлепаем, старлей.
— Может, сменить? — предложил Баландин, — Отдохнешь пока.
— Спасибо, старлей. Только я штурвал, как и жену, в чужие руки не отдаю. Не обижайся. Иди лучше сам покемарь, я в случае чего звякну.
Он отвернулся от Баландина и стал перекладывать штурвал, выводя нос бота на новый курс.
Баландин спустился в кубрик.
— Что там, командир? — это спрашивал Федор Калинушкин.
— Не успеваем. Пойдем напрямую.
— Прямо даже галки не летают, командир.
Баландин сел на старое место. Он понимал, что разведчики ждут от него более конкретных объяснений, и коротко пересказал им содержание разговора в рубке. Разведчики выслушали его молча. Со стороны могло показаться, что они не оценили серьезности положения, но Баландин хорошо знал истинную причину такой сдержанности. Люди, чьи силуэты едва угадывались в темноте кубрика, столько раз за свою жизнь бывали в различных переделках, что уже давно приучились сдерживать эмоции. Но каждый из них — и это Баландин тоже знал — в глубине души сейчас по-своему переживал его слова.
Однако молчание длилось недолго. Из угла снова послышался хрипловатый голос неугомонного Калинушкина, который пытался вызвать на разговор сидевшего рядом Лапцуя.
— Мунко, а почему ненцев самоедами звали?
— Дураки звали.
— Так уж и дураки?
Лапцуй не отзывается. Но от Калинушкина отделаться нелегко.
— А жен у тебя сколько было?
— Одна жена, сколько.
— Одна? — недоверчиво переспрашивает Калинушкин. — А ты любил свою жену, Мунко?
— Ну, любил.
— А бил тогда зачем? Помнишь, рассказывал? — в голосе Калинушкина слышится торжество человека, уличившего ближнего в смертном грехе.
— Надо было, и бил…
Против такого аргумента возразить нечего, и Калинушкин умолкает, погрузившись в философию чужой жизни.
«Отбери ребят поотчаянней, — вспомнились Баландину слова начальника разведки. — Чтоб не моргнув в огонь и в воду. Не к теще идешь — к черту на рога…»
Новый человек, начальник разведки, потому так и говорит. Отчаянных во взводе нет. На отчаянных воду возят. А у него североморцы. Матросы. Всю войну на Севере отгрохали, на скалах Мурмана. Немецких горных егерей вокруг пальца обводили. А уж те — дай бог каждому — вояки были… Пришлось попотеть, когда отбирал. Взвод — двадцать пять человек, ребята один к одному. И самолюбие у всех. Но отобрал. Асы высшей квалификации.
Баландин довольно улыбнулся, представив себе лица тех, кто вместе с ним томился сейчас в духоте и тесноте кубрика.
Ближе других к Баландину сидел главный старшина
Влас Шергин. Этот человек с лицом гладиатора занимал в душе старшего лейтенанта особое место. Больше того — они были друзьями. Четыре года назад, в самом начале войны, Шергин спас Баландина, когда тот, раненный, барахтался в воде рядом с торпедированным кораблем. С той поры ничто не разлучало их.
Родом из поморского села, Шергин из тридцати лет своей жизни почти двадцать провел на море. Он мог бы рассказать о многом. О том, как десяти лет от роду нанимался покрутчиком к деревенским богатеям. Как ходил за тюленями на промысловой шхуне. Как тонул, смытый за борт штормовой волной. Как один зимовал на острове, питаясь водорослями и ракушками. Море калечило и мордовало его, но он не расставался с ним и любил, как однолюб любит женщину. На флот Шергина призвали перед войной. Отслужив два года на крейсере, он был переведен боцманом на «морской охотник», где Баландин был помощником командира.
Почти двухметровый, спокойный и уравновешенный, Шергин обладал мощью и подвижностью медведя. В разведотряде он сдружился с Калинушкиным. Они прекрасно дополняли друг друга, и достоинства каждого из них были лучшей гарантией против всяких неудач.
Под стать Шергину был и Калинушкин, закадычный друг боцмана и непременный соучастник во всех его делах. Баландин любил этого дерзкого, насмешливого и удачливого парня. Сын керченского биндюжника, Калинушкин унаследовал от отца его хватку, его удаль, размах и склонность к горлопанству, которым славятся представители этой отмирающей профессии и которое, кстати говоря, не имеет ничего общего с тем, что называется «подрать горло» или «почесать язык». Горлопанство биндюжников — это знак принадлежности к неспокойному и предприимчивому цеху людей, привыкших надеяться на себя, на свою находчивость во всех случаях жизни, умеющих показать товар лицом, не лезущих за словом в карман, а всегда держащих его, как и кнут, наготове. Это качество приобретенное — такое же, как угрюмость палача, общительность коробейника или словоохотливость комедианта. Но комедиантом или палачом, равно как и биндюжником, может стать не каждый, поэтому словоохотливость первого, угрюмость второго и горлопанство третьего так или иначе отражают свойства этих натур.
Такого же рода было и горлопанство Калинушкина. Он был трибуном по рождению, демагогом в лучшем значении этого слова, и страсти кипели в нем, словно смола в котлах для грешников. Изливалась эта смола частенько, однако ни врагов, ни недоброжелателей Федор не нажил. Искренность его слов и поступков не оставляли у людей места для низменных чувств. Флот Калинушкин любил самозабвенно и был одним из лучших дальномерщиков эскадры. Начальство ценило его, но «фитилями» не обходило, ибо часто обнаруживалось, что ленты бескозырки у Калинушкина намного длиннее уставных, что из самой бескозырки изъята пружина, и бескозырка напоминает скорее блин, чем форменный головной убор, что брюки у Федора шире допустимого. За все это полагалось наказание, и Федора наказывали. Но, увы, его пристрастия оставались незыблемыми: появляясь под розовыми свечами цветущих каштанов Петровского парка, он, как и прежде, шокировал патрулей и длиной лент на бескозырке, и шириной брюк.
На флоте, а затем в разведке Калинушкин был своего рода знаменитостью. Бессменный чемпион по боксу, он поражал всех феноменальной реакцией. Про него ходили легенды. Рассказывали, например, что он потехи ради ловил ртом летящих бабочек. Было это правдой или вымыслом — Баландин не знал, зато он не раз становился свидетелем того, как именно реакция выручала Калинушкина из самых отчаянных положений. Он всегда ухитрялся сделать необходимое на секунду раньше противника. Среди разведчиков не было равных Калинушкину по части добывания «языков». Как и Шергин, Калинушкин был одним из тех, с кем Баландин встретил войну и с кем не расставался все эти трудные и жестокие годы.
Впрочем, не уступал Калинушкину в популярности и Мунко Лапцуй, ненец из Ямальской тундры. Его присутствие в группе избавляло разведчиков от всяких случайностей и неожиданностей. Мунко был глаза и уши группы, ее недремлющей первобытной душой.
С неизменной трубочкой в зубах и ременным арканом у пояса он появлялся и исчезал, как тень. Оленевод и охотник, он был сыном своего племени: мог сутками не есть, с терпеливостью стоика переносил холод и жару, не знал усталости. Он жил, казалось, как и все люди, но на самом деле у него не было своей жизни. Дитя природы, он жил ее жизнью, как олень в тундре, рыба, в озерах, птицы в небе. В его раскосых непроницаемых глазах покоилось равнодушие татарского властителя, а ленивая медлительность тела заставляла думать о медлительности мысли и души. То и другое было обманчивым. Глаза Мунко видели и подмечали все, а его сухое тело могло в любой момент сократиться с упругостью и стремительностью тетивы. Лишь один недостаток числился за ним: нарушая неписаный закон разведчиков, он ни за что на свете не соглашался расстаться с трубкой и курил ее, казалось, днем и ночью. Ни уговоры, ни угрозы начальства отчислить Мунко из разведки на него не действовали. В конце концов на ненца махнули рукой, прикрывшись для видимости тем, что Мунко-де пользуется не спичками, а кресалом. Все понимали, что разница между ними небольшая, но даже у самых ярых гонителей недостало духу лишить разведвзвод его знаменитого следопыта.
Четвертым в списке стоял Иван Рында, самый молодой и внушающий Баландину некоторые опасения. Нет, Баландин не сомневался в Рынде как в разведчике, иначе он не включил бы его в группу; его опасения были иного свойства. Баландина давно настораживали замкнутость Рынды и его неистовость в бою.
Тихий и ничем не выделяющийся в обычных условиях, он преображался в предвкушении любого риска, любого рейда в тыл, становился нетерпеливым и жестким. Его смелости и дерзости удивлялись даже старые разведчики. Баландин знал, что у этого белорусского парня была в жизни трагедия: на глазах Ивана немцы зверски убили его мать и сестру. Это и ожесточило Рынду, и он при каждом удобном случае пускался на такие рискованные дела, которые не могли быть оправданы ни обстановкой, ни человеческой логикой.
Баландин не сомневался, что Рында вызовется добровольцем. И не ошибся. Однако сначала не хотел зачислять его в группу. Но, взвесив все, переменил решение. Рында был первоклассным сапером и подрывником, и это обстоятельство перетянуло чашу весов на его сторону.
Как бы там ни было, а в предстоящей операции Рынде отводилась определенная роль, и Баландин был уверен, что разведчик справится с ней великолепно.
Пятым был радист, и, думая о нем, Баландин вспомнил те события, которые предшествовали появлению этого человека в разведвзводе.
Все началось два дня назад.
— Садись, старший лейтенант, и вникай, — сказал начальник разведки, когда, поднятый среди ночи, Баландин прибыл в штаб. Он пододвинул ближе карту. — Обстановка, скажу я тебе, пиковая. Нехорошая обстановка. Сегодня получена шифровка: флот готовит десант на острова. Куда будет направлен первый удар, думаю, тебе понятно. Сюда. — Начальник разведки ткнул обкуренным пальцем в то место на карте, где красные стрелы, как клещи, обхватывали зелено-коричневое пятно. — Островок, чтоб его приподняло да шлепнуло! Змей Горыныч, а не островок. Как они его брать собираются — ума не приложу. Каждый метр пристрелян. Но это не наше с тобой дело. У нас, старлей, загвоздка похлестче. Видишь ли, десант может высадиться только в одном месте — на юге. Здесь подходящие глубины, и ДБ подойдут прямо к берегу. Но именно здесь и торчит этот чирей!
— Какой чирей? — хмуро спросил Баландин. Он никак не мог согреться со сна, хотя ночь была теплая. Чтобы как-нибудь унять дрожь, он закурил огромную самокрутку.
— Танкер! Не слышал разве?
— Нет, — признался Баландин.
— Э-э, брат, ты счастливчик, на готовенькое прибыл. А я знаешь сколько порток здесь протер? Роту одеть можно было! И всю эту азиатчину насквозь знаю. Народ, я тебе скажу! Так слушай. Вот тут, милях в трех от берега, сидит на рифах наш танкер. Наш, понимаешь? История эта старая, довоенная и до конца не выясненная, но одно установлено точно: судно вылезло на камни не по своей вине. Японцы специально переставили навигационные знаки, что и привело к аварии. Ну команду, естественно, интернировали, а на танкере какая-то умная японская голова догадалась поставить пушки. Ничего номер, а? Батарея, вынесенная в море. Форт. И скажу тебе: он нам всю картину вот как портит!
Вникни: не сегодня-завтра корабли повезут десант, а тут этот дредноут как кость в горле.
— Задачка, — сказал Баландин.
— Задачка! Короче, нам приказано уничтожить пушки. Комфлота крепко надеется на нас.
— Задачка, — повторил Баландин.
— Можно было бы использовать авиацию, и такие предложения были, но вся закавыка в том, что танкер находится в зоне действия береговых зенитных батарей. А их там понатыкано что поганок в лесу. Самолеты где взлетят, там и сядут. В общем, старлей, ты назначен командиром группы. Бери кого хочешь, но пушки уничтожь. Ясно? И еще. По сведениям, на острове базируются гидросамолеты. Не тебе объяснять, какую опасность они представляют для десанта. Надо разыскать их и… — Начальник разведки рубанул рукой воздух.
— А где они, эти самолеты?
— Точно не установлено. Но если покумекать, догадаться можно. На острове три озера. Вот, вот и вот. Два, как видишь, так себе, лужи, а третье перспективное. Большое, а самое главное — вытянуто как по заказу. Факт?! И немаловажный, если учесть, что для разбега гидросамолету нужно не меньше километра. А теперь прикинь и сделай выводы. Здесь они, субчики, больше деваться им некуда!
— Когда планируется выход?
— Завтра в ночь. Срок, конечно, жесткий, но больше нам не дают. Положение на фронте крайне напряженное. Наши войска в Хингане испытывают невероятные трудности. Нет воды. Технику приходится тащить на руках. Но армия продолжает наступление, и флот не вправе тормозить его. — Начальник разведки посмотрел на часы: — Сейчас три сорок, и мы дадим людям доспать, но не позже полудня состав группы должен быть определен. Врать не буду: операция, прямо скажем, смертельная, поэтому пойдут только добровольцы. Пять-шесть человек, включая тебя. Людей ты знаешь, тебе и карты в руки. Отбери ребят поотчаянней. Не беспокойся лишь о радисте. Радиста тебе дают из штаба.
— Я благодарю начальство за заботу, — сказал Баландин, — но радист имеется. Классный. Проверенный и перепроверенный. И заменять его я не собираюсь.
— Не горячись, старлей. Горячность в нашем деле хуже чесотки. Ты куда идешь? В тыл. К японцам идешь, дурья твоя голова. А что ты знаешь по-японски, кроме «банзай»? Ничего не знаешь. И радист твой перепроверенный ничего не знает. Может, «языка» придется брать — что вы с ним делать будете? Кукарекать? А мы тебе спеца даем. Мало того, что ключом, как дятел, стучит, еще и японский знает. А насчет проверенный или непроверенный можешь не сомневаться. Плохого не дадим.
Возразить было нечего. Да и незачем. Все возражения разбивались об один-единственный аргумент: из разведчиков действительно никто не знал японского. Но эта простая мысль даже не пришла Баландину в голову. Действуя в силу инерции, он ни на миг не задумался о том, что перед ними новый противник. Не немцы.
— Ладно, — сказал начальник разведки, наблюдавший всю гамму владевших Баландиным чувств, — вижу: понял. Тогда давай дальше. Высаживать вас придется с мотобота. Лучше бы с подлодки, но в тех условиях это дохлое дело. У острова сплошные банки и почти восьмиметровая высота приливной волны. В проливах, кроме того, сильнейшие глубинные течения. Прет, как в трубу. Ну и мин они, конечно, набросали кругом. Так что лучше мотобота ничего не придумаешь. Осадка у него как у корыта, пройдет хоть по мелководью, хоть по минным полям. Ход, правда, маловат, но, как говорится, тише едешь — дальше будешь. Старшина бота предупрежден. Он, кстати, толковый мужик, так что ты в случае чего прислушивайся. Вот такие пироги, старлей… Есть вопросы?
— Два. Связь и возвращение.
— Связь будешь поддерживать на волне восемьдесят пять. Но особенно не вылезай, засекут как миленького. Ну а снимать — снимем. Бот будет ждать вас через сутки от нуля до четырех вот у этого мыска. Но четыре — это крайний срок. Нужно управиться пораньше. Здесь хоть и недалеко, но если вас обнаружат — пиши пропало. Пойдете на дно и «мама» сказать не успеете. Что еще?
— Все ясно, — ответил Баландин, хотя в тот момент еще не представлял, как можно одним наскоком уничтожить и самолеты, и пушки.
— Тогда иди поспи, если можешь, а к тринадцати ноль-ноль чтоб как штык. Со всеми гавриками. И с планом. Тут у меня кое-какие соображения имеются, но и ты подумай. Как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Перед выходом все обмозгуем вместе.
Спать, конечно, Баландин не лег. Не до сна было. Сидел над картой, смолил цигарку за цигаркой, думал, прикидывал. В конце концов решил: действовать двумя группами. Одна взрывает пушки, другая тем временем разыскивает и уничтожает самолеты. В ходе операции, естественно, могли возникнуть неожиданности и осложнения, но здесь Баландин целиком и полностью полагался на тех, кто следующей ночью вместе с ним отправится в поиск. Досадовал же командир разведчиков лишь на то, что им не удастся «проиграть» операцию. Нет времени. И тут ничего не попишешь: если на все дают только сутки — значит, действительно припекло…
Утром Баландин построил взвод. Сказал, что надо. Вызвались чуть ли не все. А кто не вызвался, на тех косо не смотрели. Тут дело такое — добровольное. Трудно было отбирать. Но отобрал. А на радиста глаза поднять боялся, хотя и понимал: ничего тут не поделаешь. И оттого родилась в душе неприязнь к человеку, которого не знал и не видел, и, когда тот пришел, Баландин встретил его хмуро и недоверчиво.
Новый радист был низкоросл. Защитная вылинявшая форма сидела на нем мешковато и нескладно, словно под ней было не живое человеческое тело, а муляж. Мятые погоны с засаленными лычками топорщились на плечах радиста как ненужные принадлежности, что вызвало особое недовольство Баландина.
«Куда с таким в тыл?! — раздраженно подумал он. — Нянчайся с ним там…»
Сгоряча Баландин решил немедленно отправиться в штаб и со всей решительностью воспротивиться против такого назначения, но вовремя одумался. Тем временем новенький снял с плеч ящик с рацией, аккуратно поставил его рядом с тумбочкой дневального и вскинул руку к пилотке:
— Товарищ старший лейтенант! Сержант Одинцов явился в ваше распоряжение!
— Явился не запылился, — насмешливо откликнулся со своей койки наблюдавший за сценой Калинушкин. — Обмотки-то куда дел, пехота?
— Отставить, старшина! — оборвал Калинушкина Баландин. При всей несимпатии, возникшей у него к новому радисту, он не мог позволить, чтобы так, во всеуслышание, подрывали авторитет армии. К тому же Баландину неожиданно понравилась реакция сержанта на слова задиристого разведчика. Собственно, реакции никакой и не было. Сержант словно бы не расслышал реплики, и эта невозмутимость могла быть отражением некоторых особенностей его характера.
«А он не так уж и прост, — подумал Баландин, чувствуя, как помаленьку улетучивается его неприязнь. — Во всяком случае, на пустой крючок не клюнул».
— Располагайтесь, сержант, — сказал он. — Коек много, можете выбирать любую. Полчаса вам на все устройства, а потом поговорим о делах.
— Слушаюсь! — ответил радист и, подцепив с пола рацию, направился к дальней койке.
— Единоличничек, — тотчас же прокомментировал его действия Калинушкин. — Кулак тамбовский.
Баландин усмехнулся. Он знал, что Калинушкин не питает к радисту никаких определенных чувств, а ворчит в силу врожденной привычки. Правда, он знал и другое: Калинушкина задело такое откровенное невнимание к его персоне, и теперь старшина будет при всяком удобном случае приставать к новичку. Но, судя по всему, удовлетворения он не получит.
Через час Баландин знал о радисте все. Самое смешное заключалось в том, что Одинцов действительно оказался тамбовским. И хотя в Тамбове он только родился, а всю жизнь прожил на Дальнем Востоке, совпадение было настолько поразительным, что Баландин засомневался: не пронюхал ли Калинушкин каким-то образом о некоторых подробностях биографии радиста? Но этого не могло быть, и Баландину оставалось только удивляться всегдашней удачливости пронырливого старшины.
Как бы там ни было, а свое открытие Баландин сохранил в тайне. Ибо, узнай о нем Калинушкин, кто знает, куда бы завела его непомерная гордыня…
Беседа с радистом успокоила Баландина. Одинцов оказался тертым калачом: воевал, прыгал в тыл с парашютом, имел награды. Настораживало Баландина лишь одно: по его мнению, Одинцов слишком восторженно отзывался о японцах и Японии. Конечно, сержанта можно было понять. Недоучившийся студент-японист, он радовался возможности увидеть кое-что своими глазами. Но понимал ли он всю сложность и ответственность операции?
В этом Баландин не был убежден, и, думая сейчас о радисте, он испытывал чувство некоторой неуверенности, которое не возникало у него, когда он думал об остальных…
2
Шорох. Как будто кто-то вкрадчивый и осторожный снаружи поскребся в борт. Так терлась шуга в Баренцевом море. Но так же скреблись о корпус подводной лодки минрепы, когда осенью сорок третьего группу высаживали в Бек-фиорде.
Баландин подобрался. Легкое движение в кубрике подсказало ему, что остальные разведчики тоже оторвались от своих дум и прислушиваются к донесшемуся звуку. Камни? Топляк? Или, быть может, мина, и следующее прикосновение будет смертельным?
И снова шорох. И вслед за тем частые подрагивания корпуса. И скрежет уже под днищем, словно бот тащит по песку. Рифы. Стало быть, они уже у камней, и старшина лавирует среди них в кромешной тьме, полагаясь на нюх и везение. А им пока что остается ждать. Надеяться и ждать.
— Надеть пояса, — приказал Баландин.
Он подумал, что надо бы подняться в рубку и хотя бы своим присутствием помочь старшине, но сразу же отказался от своего намерения, вспомнив недавний разговор со старшиной и его упорное нежелание кому бы то ни было доверить руль. Этот человек был из тех, кто в минуты опасности надеется только на себя. И предлагать ему помощь — значит мешать.
Скрежет под ногами нарастал. Удары в корпус участились, потом бот содрогнулся и, покачиваясь, как будто завис на невидимом балансире, в следующую минуту соскользнув с него. Снова наступила тишина. Баландин понял, что они перескочили рифы. Теперь можно было идти в рубку.
— Полный марьяж, старлей! — встретил его старшина. — Готовь своих, на полчаса делов осталось. Вода хорошая, приткнусь прямо к берегу. Пять минут вам на все тары-бары. Мне еще назад столько же топать.
Дай бог до света управиться. Не поспею — прямым ходом в рай угожу.
Баландин посмотрел на хронометр.
«Полчаса. Значит, в ноль пятьдесят. Самая темень. В такую темень никуда не сунешься — напорешься на мину или еще на какую-нибудь хреновину. Придется часа два ждать на берегу. Пока не посветлеет… Плохо, что они не знают обстановку. Очень плохо. Хуже нет действовать вслепую. Чуть-чуть промахнешься — и все накроется…»
— Жарища, — проговорил старшина, — упарился, как мышь. — Он протянул руку и поднял смотровое стекло.
Гул океана заполнил рубку. Он казался однообразным лишь поначалу, в первые минуты; потом стали различимы по отдельности все шумы огромного океанского тела: тяжелые всплески волн, протяжные вздохи, прерываемые каким-то бульканьем и шипеньем, словно по соседству с ботом выпускали пары паровозы, далекие, похожие на орудийную канонаду раскаты.
— Повезло с погодой, — опять сказал старшина. — Кабы посильнее ветер — ни в жисть не подойти. Однако пора, старлей, берег скоро. Вон наверху темнеет, видишь? Скалы, должно.
Баландин нагнулся к стеклу.
Впереди была темнота, но, присмотревшись, он различил в ней еще более плотные очертания. Это действительно могли быть скалы.
— Наката не слышно, — сказал он.
— Ветер в задницу, — ответил старшина. — Относит. Иди, старлей, не сомневайся. Берег, я тебе говорю!
Баландин спустился в кубрик.
— Смекаю, что приехали, командир? — поинтересовался Калинушкин.
— Правильно смекаешь. Быстро, ребята! Разбирай каждый свое — и наверх. Не торопись, сержант, — сказал он, видя, что Одинцов порывается протиснуться вперед. — Сначала мы.
— Бережете? — с ехидством спросил Одинцов.
— Не тебя, дурья голова. Рацию, — ответил откуда-то из темноты Калинушкин. Даже сейчас он оставался верен себе — был насмешлив и беспечен.
Берег надвинулся, как зверь Апокалипсиса — неотвратимый, бесформенный, безгласный.
Сгрудившись у рубки, разведчики напряженно всматривались в него. Пока все шло без сучка без задоринки, но кто мог знать, что делается там, в темноте? Может быть, именно сейчас, как не раз бывало, матово засветится над головой шар ракеты, раскромсает темень и берег оживет от мертвой тиши и ударит в лицо огнем и громом…
Стали видны буруны. Теперь только двухсотметровая полоса прибоя отделяла их от цели. Бот подбросило, швырнуло вниз, закрутило. Но старшина был начеку и не дал развернуть судно. С шипеньем разбрасывая волны, оно приближалось к берегу.
Толчок, клокотание воды за кормой, свистящий шепот из рубки:
— Пошел, ребята!..
Бесшумный прыжок Шергина, мгновенное раздумье Мунко. И снова шепот:
— Удачи тебе, старлей!..
Захлебывающиеся выхлопы дизеля, запах перегоревшего соляра. Медленно и неуклюже, словно рептилия, бот сполз в море, и ночь поглотила его.
Шестеро остались на берегу.
3
На рассвете пошел дождь. Мелкий и частый, будто его просеяли сквозь сито. Он падал невесомо, с монотонным шуршанием, покрывая лица и одежду серебристо-тусклой холодной пылью. Завернувшись в маскхалаты, разведчики сидели среди валунов, сами похожие на камни своей неподвижностью. В сумраке полурассвета серели лица с темными впадинами закрытых глаз.
Часы показывали три. Надо было уходить с берега. Баландин подкрутил завод часов и тронул за плечо сидевшего рядом Шергина. Тот сразу открыл глаза, секунду смотрел на Баландина, потом неуловимым движением перекинул к нему свое могучее, свитое из одних мышц тело.
— Пора, Влас. Поднимай ребят.
— Они не спят, командир.
— Взрывчатка не отсыреет? Дождь, кажется, зарядил на весь день.
— Все в норме. Своими руками увязывал.
— Тогда двинулись. А то валяемся, как котики на лежбище, подходи и бей палкой.
— Местечко невеселое, что и говорить…
Это было опасно — пересекать открытый, просматриваемый со всех сторон пляж, заваленный камнями и плавником. Ноги срывались с ослизлых бревен и обкатанных водой голышей, и разведчики продвигались медленно, часто останавливаясь, прислушиваясь и приглядываясь к застойной рассветной тишине. Неясное движение мнилось в густой тени нависших над головой скал; валуны казались фигурами людей. Невдалеке маячил темный обрывистый берег, и они спешили к нему, чтобы укрыться в его лощинах и гребнях.
Пляж кончился; глазам предстала узкая, идеально ровная, как нейтральная полоса на границе, песчаная лента — верхний урез воды, на котором не росло ни былинки. Любой предмет на песке отпечатывался словно на фотографии. Один за другим, гуськом, они перешли полосу, а потом тщательно заровняли песок.
Обрыв был рядом — гигантский срез, на котором видны были напластования и птичьи норы, источившие серо-коричневый твердый грунт. Наверху обрыва плотной стеной стояла мокрая от дождя трава. По болотистому непропуску они поднялись на обрыв. И остановились: в пяти шагах из травы высовывалась ржавая сеть колючего заграждения.
— Физкульт-привет! — сказал Калинушкин.
Картина была знакомая. Такая проволока опоясывала весь земной шар, и было бы чудом не встретить ее здесь. Они молча разглядывали проволоку. По виду безобидная, напоминавшая засохшие стебли дикой розы, она наверняка таила в себе разного рода сюрпризы. Задень ненароком один из шипов — и где-нибудь в километре отсюда зазвонит звонок. А может обойтись и без звонка: сработает замаскированная ловушка, и от человека останутся воспоминания. По части таких ловушек великими мастерами были немцы.
— Понакрутили, в гробу я их видел, — с расстановкой сказал Рында.
— А ты думал, тебе парадный трап вывалят? — усмехнулся Калинушкин.
— Полундра! — остановил их Шергин. — А ну сбавь обороты!
— Давай, Ваня, — сказал Баландин.
Он не стал торопить Рынду и напоминать ему о том, что скоро совсем рассветет и тогда их могут заметить, — разведчик знал это и без него. Развязав мешок, он уже доставал из него штангу миноискателя. Состыковав трети, Рында подсоединил к штанге рамку, надел наушники. Затем повернулся к товарищам, махнул рукой.
— Ложись! — приказал Баландин.
Теперь все зависело от Рынды, от его умения и осторожности. Все, вся операция. И, следя за тем, как он приближается к проволоке, Баландин страстно желал, чтобы слепая судьба на этот раз прозрела.
Минуты шли. Светлело все заметней. Мир обретал привычную форму: трава перестала казаться лесом, а камни на берегу — людьми. Где-то пискнула пичуга, ей отозвалась другая. Потом они с порханием вырвались откуда-то и, едва различимые, закачались на упругом стебле. Из травы послышался характерный хруст — Рында резал проволоку. Пичуги вздернули хвосты, но не улетали. Неожиданно для себя Баландин загадал: если он просчитает до десяти и пташки не упорхнут — все будет хорошо. Он начал считать не торопясь, стараясь быть честным. Хруст не смолкал, пичуги тревожно крутили головами. Заканчивая счет, Баландин для верности выдержал паузу, но птички продолжали раскачиваться на стебле. И когда они все-таки улетели, он проводил их благодарным взглядом, словно удача и в самом деле зависела от каприза этих пернатых существ.
Хруст прекратился — видно, Рында уже сделал проход и теперь шарил миноискателем на той стороне заграждений.
«Еще пятнадцать минут, — думал Баландин. — Если через пятнадцать минут Иван не закончит, мы влипли. Будет светло как днем. Нас запеленгуют с любой сопки. Правда, дождь расходится и работает на нас, но все равно надо закончить через пятнадцать минут. Потому что за „колючкой“ — как пить дать траншеи. А их при свете не проскочишь…»
Подполз Рында. Он был перемазан землей, как проходчик.
— Готово, командир…
Через десять минут они лежали в лощинке за проволокой. Пелена дождя застилала все вокруг, и это радовало Баландина: у них появились шансы проскочить траншеи с ходу. Но сначала требовалось выяснить, где они и как охраняются.
— Мунко! — позвал он.
Ненец подполз, проворный, как ящерица.
— Траншеи, — сказал Баландин.
Скуластое, темное лицо Мунко ничего не выразило. Он скинул со спины мешок и тенью скользнул в траву. Она сомкнулась за ним, как вода за ныряльщиком.
И снова ожидание — тягостное и мучительное, когда можно лишь гадать, чем обернутся события. Впрочем, предпосылки для оптимизма имелись. И довольно весомые. Во-первых, думал Баландин, японцы вряд ли серьезно относятся к мысли о заброске кого бы то ни было на остров. Скорее всего такая возможность кажется им невероятной. Они слишком уверены в своей недосягаемости, чтобы думать о диверсантах. Военное нападение, десант, налет авиации, наконец, — это еще куда ни шло. Но только не диверсанты. Однако война идет, и с этим нужно считаться. Готовность, конечно, повышенная, иначе и быть не может. Во-вторых, погода. В такую слякоть никому не хочется лишний раз высовываться наружу. Тем более сидеть в окопах. Часовые? Часовые, разумеется, стоят. Но часовые были и у немцев… В-третьих, Мунко. Здесь почти стопроцентная гарантия. Ненец — прирожденный пластун и следопыт. Если понадобится, пролезет в игольное ушко. Правда, от случайностей никто не застрахован, но шансов на то, чтобы остаться незамеченным, у Мунко больше.
Словом, тактическая обстановка Баландина обнадеживала. Зато отдаленные перспективы представлялись ему скрытыми мраком неизвестности. Танкер, самолеты… Ладно, танкер — на худой конец им известно, где он. А самолеты? Их еще надо отыскать на острове и что-то сделать, чтобы они не взлетели. Что? Взорвать? Сжечь? Но разведчиков только шестеро. Двое, как минимум, займутся танкером. Радиста можно не считать, его дело рация. Значит, трое. Почти ничего, если учесть, что самолетов не один и не два. А в запасе всего лишь ночь. Одна ночь, потому что днем все равно ничего не сделаешь. Днем хорошо бы поспать. Хотя бы часа два. И поесть — сил им понадобится много…
Появился Мунко — бесшумно и внезапно, будто снял с головы шапку-невидимку.
— Что, Мунко? — нетерпеливо спросил Баландин.
— Траншеи. Две. Солдат нет. Был часовой.
— Был?! — Баландин невольно бросил взгляд на пояс ненца, на котором в костяных ножнах висел нож. — Ты снял часового?!
Картина, которую он себе представил, была ужасна: убитый часовой, которого — прячь не прячь — обнаруживают, суматоха, разрезанная проволока, облава…
Глаза Мунко сузились еще больше:
— Дождь. Холодно. Часовой ушел, командир.
Раскаиваться было поздно. Холодок в голосе Мунко не оставлял сомнений: ненец обиделся. А кто бы не обиделся? Хорош командир: подумать, что такой опытный разведчик, как Мунко, мог убить часового и подставить их под удар! Но и Мунко тоже хорош — бухнул так, словно дело уже сделано. Тут кто хочешь схватится за голову… Значит, часовой ушел… Неплохо, неплохо. Похоже, японцы и в самом деле не ждут гостей, если часовые разгуливают как хотят. Но радоваться рано. Часовой как ушел, так и придет — не станет же он до конца смены торчать в блиндаже. За такие дела по головке не гладят. Так что нужно считать, что часовой на месте, и не надеяться на сладкую жизнь…
Часовой действительно был на месте — они убедились в этом, едва разглядели траншею. Он стоял неподвижно, как пугало на огороде, и штык тускло поблескивал у него над головой. И хотя Баландин был готов к такому продолжению, в нем закипела злоба на часового.
«Черт бы тебя побрал, дурак прилежный, — с ненавистью думал он. — Выставился! Не мог еще пять минут посидеть в своем вшивом блиндаже!..»
Но часовому было ровным счетом наплевать на эти проклятия. Он стоял в прежней позе и даже не догадывался, что родился под счастливой звездой, ибо те, кто мог умертвить его в мгновенье ока, больше всего на свете не хотели этого. Шепот Мунко почти слился с шелестом дождя:
— Там поворот, командир…
Путь до него показался шестерым вечностью. Траншея поворачивала почти под прямым углом, и за выступом они могли скрыться от часового.
Мунко первым спрыгнул на дно. Вытащив нож, он встал на повороте, прильнув к стенке траншеи, не сводя глаз с часового. Помогая друг другу, разведчики спускались в траншею. С обеих сторон в нее выходили двери блиндажей, и каждая из дверей могла в любой момент распахнуться.
Шергин еще оставался наверху, когда разведчики услышали тихий возглас Мунко:
— Командир!
Баландин одним прыжком встал рядом с ненцем, осторожно выглянул. Сердце заколотилось где-то у горла: часовой медленно шел по траншее, серо-зеленый и неясный, как призрак.
«Заметил? Нет, идет будто на прогулке. Надоело стоять на одном месте. Дойдет или остановится?..»
Часовой не останавливался. До него оставалось десять метров. Восемь. Пять. Сейчас он дойдет до угла и увидит… Нет, он ничего не увидит, потому что раньше умрет…
Мунко отвел руку с ножом, готовый метнуться и ударить. Но не метнулся, удивленно глядя на Одинцова, который вдруг шагнул вперед и, пошатываясь, пошел навстречу часовому.
— Томарэ! — громко и испуганно сказал тот.
— Нани о донаттэ иру ка? — ответил Одинцов. И Баландин не узнал его голоса.
— Тосиро, омаэ ка?
— Кутабарэ! — грубо сказал Одинцов. Согнувшись пополам, он уперся рукой в стенку, и разведчики услышали такой звук, будто заклокотала засорившаяся раковина. Что-то с громкими всплесками полилось на землю.
— Коно яро, мата нондэ кита на! — брезгливо сказал часовой. — Соко ни кисама но као о цукондэ яритай! — Он повернулся и пошел назад.
Одинцова продолжало рвать. Его прямо-таки выворачивало. Ошеломленные разведчики стояли не дыша, и, когда Одинцов вернулся к ним, ни у кого не нашлось слов.
— Скорее! — сказал радист, пряча за пазуху пустую фляжку. — Пока этот чистюля не вернулся.
Они помогли спуститься Шергину и быстро пошли в дальний конец траншеи, над которым нависал спасительный полог еще вовсю зеленой травы.
Они шли уже больше часа — молча, ступая след в след, как лоси, идущие на водопой. Впереди Мунко, за ним остальные: Баландин, Одинцов, Рында, Калинушкин, Шергин. Последний — тяжеловесный и громадный, с резиновой надувной лодкой за плечами — и впрямь напоминал матерого лося-самца, замыкавшего строй, охранявшего его от всех превратностей и случайностей.
Новый день наступил, но солнце не смогло прорвать плотную завесу дождя и туч; его лучи преломлялись где-то в высоте и, отраженные, возвращались к своему светилу, так и не достигнув покрова земли, не озарив ее тайн, красот и бедствий.
Странный и чудесный мир расстилался вокруг, и они с удивлением и несмелой радостью, от которой давно отвыкли и которая, как упорный росток, пробивалась сейчас наружу, смотрели на этот мир: на траву выше их роста, блестевшую от дождя и трепетавшую от каких-то тайных внутренних содроганий; на гигантские папоротники и хвощи, непривычные и чуждые глазу, будившие смутные воспоминания о миллионолетних бессловесных эпохах, о гадах в морях девона, в чьих неповоротливых мозгах уже созревала дерзостная мысль о переселении в иную юдоль; на невиданные цветы, тяжелые головки которых тускло мерцали под темными и влажными сводами стоявшей, как лес, травы.
В этом мире не было и не могло быть войны. Храмы не оскверняют, а это был храм тишины, спокойствия и высоких дум, и мысли каждого из шестерых возвращались к тому высокому, что было в их жизни и что не состоялось; что выражало ее средоточие и смысл; от чего пронзительной и светлой печалью занимались сердца и одухотворялись лица.
И каждый из шестерых старался подольше удержать в памяти дорогие картины, словно предчувствуя наступление той ночи, во тьме которой померкнут краски, растворятся звуки, исчезнут лики, образы — все…
Приноравливаясь к валкому, скользящему шагу Мунко, Баландин старался не сбиться с ритма и время от времени незаметно поглядывал на компас. Но всякий раз убеждался, что его опасения напрасны: Мунко вел отряд как по нитке. Способность ненца вслепую выдерживать маршрут вызывала изумление.

Вспоминая прошлое, возвращаясь к временам трехлетней позиционной войны на Севере, Баландин пытался припомнить хоть один случай, когда бы Мунко ошибся. Бессменный проводник разведчиков, ненец всегда оказывался на высоте. В пургу ли, в туман, которым так славится теплое Кольское побережье, летом и зимой Мунко находил дорогу, как находят ее вожаки птичьих стай, и беспокойство Баландина было лишь данью опыту городского жителя, привыкшего на каждом шагу встречать стрелки и указатели. Всерьез же Баландин думал лишь об одном — об отдыхе.
Нагруженные взрывчаткой, продуктами и оружием, не спавшие уже больше суток, вымокшие и грязные, разведчики представляли невеселое зрелище. А основные события ждали их впереди, и вопрос об отдыхе, хотя бы кратковременном, становился насущной необходимостью.
Но пока Баландин откладывал его осуществление. Оглядывая открывавшуюся за очередным поворотом местность, он не находил мало-мальски пригодного угла, где бы можно было расположиться и со спокойным сердцем поспать. Он грезил о бастионе, о неприступной Бастилии, а кругом была только трава. Высокая, густая, годившаяся разве что на силос. Поэтому, когда Мунко вдруг согнулся и полез куда-то вниз, Баландин понял, что им в конце концов повезло.
Он не ошибся.
Глубокая и узкая котловина — классический среднерусский овраг, по глинистым склонам которого журчали ручьи, тянулся на добрую сотню метров. Все та же трава росла на дне котловины, но не это было главным. Бастионы существовали! Ибо только так можно было назвать высокую, вдававшуюся в овраг площадку, крутые бока которой напоминали своей монолитностью башню. Заросли корявого и прочного кустарника не хуже спиралей знаменитых МЗП преграждали подступы к площадке. При случае здесь можно было задержать полк.
С трудом выдирая ноги из ветвей кустарника, они поднялись наверх и по краю оврага прошли на площадку. И лишь теперь в полной мере оценили ее достоинства: открывавшийся с высоты обзор, идеальную скрытность и потенциальные возможности площадки как позиции.
— Шабаш! — сказал Баландин.
И это знакомое любому моряку слово напомнило им многое: довоенный Кронштадт, могучие обводы стоящего на рейде «Марата», ряды шлюпок на воде, над планширами которых отлаженно и четко, как звенья коленчатого вала, мелькают обнаженные торсы гребцов, бешеный темп, кипенье воды под форштевнями, лес вскинутых на валек весел, с которых в лицо летят брызги, толпы людей на набережных…
— Да-а, — протянул Калинушкин, стаскивая с плеч вещмешок, — была жизнь, командир… Эх, помню в Петергофе! Придешь в парк, а там — мама родная! — ну все тебе: и раки, и воблушка, и лучшее в мире пиво под названием «бочковое». Сядешь за столик, а кругом фонтаны и девушки в белых платьях. Сидишь как у Христа за пазухой! Помнишь, Влас?
— Насчет Христа не знаю, а уж девушек ты не пропускал! Тебя медом не корми — дай за коленочку подержаться, — засмеялся Шергин.
— Где уж нам, — скромно сказал Калинушкин. — Мне бы вашу комплекцию, Влас Зосимович! А я что? Как говорил командир нашего славного «бобика»: семь лет на флоте и все на кливершкоте…
Хитрый разведчик явно прибеднялся. Он как раз не принадлежал к категории тех людей, относительно которых была сложена поговорка, но, как всякий везунчик, любил иногда поплакаться и повздыхать. Если же следовать истине, то многие женщины довоенного Кронштадта так или иначе принимали участие в судьбе Калинушкина.
Знакомые у него имелись во всех сферах. Официантки бесплатно кормили его. В ларьках ему отпускали пиво в кредит. Медсестры в санчасти выписывали освобождения по любому случаю. И даже на гарнизонной гауптвахте уборщица снабжала его папиросами. Женщинам нравился отзывчивый и веселый нрав Калинушкина, и они тянулись к нему. Им казалось, что без их хлопот и ухаживаний Федор пропадет. Он не разубеждал их, принимая заботы как должное. Наверное, многие женщины любили его и мечтали прибрать к рукам, но от семейных уз Федор шарахался, как необъезженный жеребец от упряжи. Так он был создан. Постоянство тяготило его; женщины это чувствовали и прощали ему все измены и увлечения.
Лишь один раз Калинушкин чуть не влюбился. Она работала билетершей в горсаду, а ему как раз понадобились билеты на аттракцион. Он пришел в горсад с друзьями, они стояли позади и жаждали прокатиться на самолетах.
Деньги у Калинушкина были, но он хотел еще раз продемонстрировать друзьям свою неотразимость. И попросил билеты в кредит. Она отказала. Слова оправдания в данном случае никакой роли не играли: за спиной стояли «кореша», которые могли стать свидетелями его поражения. Калинушкин не колебался ни секунды. Окошечко в кассе было узкое, а плечи у Федора — широкие. Он загородил ими кассу и, отстегнув часы, протянул их в окошко. Она посмотрела на него и вернула часы вместе с билетами. Вечером он провожал ее. Они шли по гулкой булыжной мостовой, и он вдохновенно рассказывал ей о пассатах и муссонах, о шквалах и альбатросах в грозовых тучах, о смуглолицых женщинах далеких южных морей. В подъезде он сделал попытку поцеловать ее, но она вырвалась и убежала.
Их роман длился ровно три недели. Дожидаться воскресений у Калинушкина не хватало сил, и он ходил в «самоволку». За это полагалось двадцать суток ареста с содержанием на гауптвахте, но Федор рисковал не задумываясь.
Но однажды он встретил ее в парке с курсантом. Наверное, у нее ничего не было с тем парнем, но «измена» смертельно обидела Калинушкина. Он назвал курсанта салагой и толкнул его. Курсант не знал о громких титулах Калинушкина и полез в бой. Нокаут последовал на первой минуте. Вспоминая потом эту историю, Калинушкин во всем винил соблазнителя-курсанта. А что касается девушки, то он признавался, что она ему действительно нравилась…
Зная по опыту, что сейчас начнутся душещипательные воспоминания, Баландин сказал:
— Разговорчики отставить! Пятнадцать минут на прием пищи — и спать. Всем. Дежурить буду я. Подъем — в двенадцать ноль-ноль.
Когда ели, Калинушкин, отправляя в рот румяный кусок американской колбасы, спросил:
— А правда, командир, что союзники ее из опилок делаю? Мне один баталер в Питере травил.
— Неправда, ответил Баландин. — У твоего баталера в голове опилки.
— Я ему то же сказал, а он мне загнул что-то насчет круговорота элементов в природе. В будущем, говорит, все будет делаться из подсобного материала. Лежит доска, к примеру. Ты ее в аппарат особый. Кнопку чик — получай бифштекс с кровью. Даже водку, говорит, из нефти делать станут. Тут уж я натурально не поверил.
Одинцов засмеялся.
— Про колбасу поверил, а про водку нет?
Калинушкин, как конь, повел на радиста фиолетовым огненным глазом.
— Колбаса, серый ты человек, для желудка. Он гвозди переваривает. А водка для души. С нее и спрос особый. Хотя для кого как. Для тебя небось лучшая рыба — колбаса, а, пехота?
— Угадал. Дают — не мохаю и ем не охаю, — ответил Одинцов, игнорируя выпад Калинушкина. — Очень даже полезный продукт.
— Продукт! — передразнил Калинушкин радиста. — Ты еще про мануфактуру вспомни! До чего ж ты скучный человек, сержант, ну прямо божья коровка!
Чтобы остановить готовую вспыхнуть перепалку, Баландину пришлось опять применить власть командира.
— Спать! — приказал он. — А по тебе, Федор, «губа» плачет. Давно не сидел? Могу похлопотать, когда вернемся.
— Данке шён, командир. У начальства всегда так: чуть что — сразу «губа». Как будто нет других методов воспитательной работы…
Но вскоре все затихло на площадке. Никакие труды и потрясения не могли заглушить в молодых организмах потребность в отдыхе, и, разморенные сытной едой и навалившейся усталостью, разведчики уснули. Их сон был непродолжителен, но глубок, и это краткое отдохновение, это недолгое пребывание на грани реальности и небытия восстановило их силы и приблизило к событиям, которым уже был задан ход, которые назревали медленно, но неотвратимо.
4
В бинокль танкер был виден как на ладони.
Зажатый рифами, он лежал с небольшим дифферентом на корму, отчего казалось, что судно пытается и не может вытащить из воды свое громоздкое железное тело. Над танкером ярусами кружились чайки. Время от времени они устраивали на воде баталии из-за какого-нибудь огрызка, брошенного с борта, и поднимали такой крик, будто их уже настиг день страшного суда. Потом птицы успокаивались, вновь взмывали в воздух, усаживались плотными рядами вдоль бортов, не обращая внимания на снующих по палубе людей. Война сюда еще не дошла, и птицы были непуганы.
Баландин подрегулировал резкость.
Итак, четыре пушки: две на носу, две ближе к корме. Пулеметы на мостике не в счет, с ними можно разделаться походя. Главное — пушки. Интересно, какой калибр они поставили? Кажется, неплохо видно, но точно не определишь. Здешний воздух так пропитан водой, что даже цейсовские линзы отпотевают, как обыкновенные стекла. Сотки? Вряд Ли. Сотка — это уже внушительное орудие, и ее надо ставить основательно. Скорее всего — семидесятипятимиллиметровки. Или даже сорокапятки. Что ж, батарея таких пушек, вынесенная на три мили в море, совсем неплохо. Действительно, не дурак придумал. Начальник разведки прав: авиации здесь делать нечего. При такой погоде и плотности зенитного огня с берега шансы на прицельное бомбометание практически равны нулю. Зенитчики угробят самолеты… И ведь как стоит, стерва, — точно на пути десанта! Ни с какой стороны не обойти, расколошматит из пушек за милую душу…
Баландин опустил бинокль и обвел взглядом лежавших рядом разведчиков. Они тоже разглядывали танкер — Шергин упорно, не отрывая бинокля от глаз; Калинушкин, наоборот, то и дело протирал линзы; лицо
Ивана Рынды выражало почти детскую заинтересованность; Одинцов смотрел в окуляры, не прислоняя бинокль к лицу, словно следил за представлением в театре; один Мунко, как видно, не доверял технике, полагаясь на дальнозоркие рысьи глаза, — бинокль болтался у него на груди.
Кого послать? Впрочем, едва оформившись, вопрос уже звучал риторически. Роли были распределены давно, но Баландину нужна была пауза, чтобы еще раз и окончательно утвердиться в правильности выбора и сказать об этом вслух. Пойдут, конечно, Влас и Калинушкин. Лучше их никто не сделает того, что предстоит сделать. Шергин с его силой при необходимости голыми руками согнет орудийное дуло, а сверхреакции Федора завидовали в свое время все флотские боксеры. Прдрывное дело оба знают как таблицу умножения, и ко всему прочему — закадычные друзья. Все правильно, Влас и Калинушкин.
Баландин положил бинокль на камень перед собой и знаками подозвал обоих разведчиков. Когда те подползли, спросил, кивая на танкер:
— Как думаете, какие там пушки?
— Трехдюймовки, — тотчас отозвался Калинушкин. Это было в его манере — говорить и действовать так, словно он находился на ринге, где на размышление даются доли секунды.
— Точно, — подтвердил Шергин. — Большие без хорошего фундамента не поставишь.
— Вашими бы устами… — усмехнулся Баландин, довольный, однако, тем, что мнение разведчиков совпадает с его собственным. — Значит, говорите, трехдюймовки? Я тоже так думаю. А теперь давайте кумекать вместе. — Баландин помолчал, собираясь с мыслями. — На танкер пойдете вы. Сейчас полный прилив, так что время на размышление у вас есть. Готовьте лодку, заряды, кошки. С отливом двинетесь.
— Вопросов нет, командир. Есть предложение. — Калинушкин, как примерный ученик, поднял руку.
— Давай.
— До отлива, командир, что до морковкина заговенья — шесть часов. А там темень как в канатном ящике. На нашей галоше шибко не разбежишься, в темноте зальет того гляди. А чуток просчитаешься — вовсе в море унесет. Вот я и думаю: может, пораньше отчалить? Часиков в восемнадцать. Как раз и темнеть начнет. В такую хлябь нас ни один дальномер не засечет, ручаюсь как представитель бэчэ четыре.
— Хорошо, — сказал Баландин, — кладем полтора часа на всю дорогу. Значит, к двадцати часам доберетесь. А там что будете делать? Возле танкера болтаться или, может, сразу к японцам полезете?
— Зачем к японцам, командир? Вон на том камушке отлежимся. — Калинушкин показал на хорошо различимую глыбу, торчащую из воды в кабельтове от танкера, размером и формой напоминающую ту, на которой стоит в Ленинграде конный Петр. — Оттуда в любой момент в гости собраться можно.
Баландин задумался.
План Калинушкина был очень неплох. Действительно, вместо того чтобы нырять в темноте на утлой лодчонке, можно было простым способом снять этот вопрос с повестки дня. Единственная угроза — что лодку заметят. Опять риск? А что лучше: ожидание опасности, которую предвидишь, или полное неведение? К тому же Калинушкин прав: дождь, видимость нулевая. Разглядеть крохотную шлюпку будет трудно. Все равно что искать иголку в стогу.
— Влас?
— Чего думать, командир! Федор в яблочко попал.
— Заряды связать успеете?
— Черта свяжем, не то что заряды!
«Ну вот, — подумал Баландин, — вот и начинается. Сколько раз уже это было? Не вспомнить. И все равно чувствуешь себя как на вышке, с которой нужно прыгнуть».
Он отчетливо представлял себе все трудности, которые ожидали Шергина и Калинушкина.
Нелегко будет добраться до танкера. Волна порядочная, потом еще рифы перевалить надо. А там — танкер, железный скользкий борт. Не по трапу подняться. И за спиной автоматы и взрывчатка. Правда, на Севере было и потруднее, когда доты с моря брали. Из воды — и прямо на скалы. Как альпинисты. Егеря генерала Дитла остались тогда с носом… Когда японцы выставляют часовых? По логике — с темнотой. Значит, часов с девятнадцати. А сменяют? Через два часа? Три? Гадай не гадай — не узнаешь. Надо прикинуть оба варианта. И сколько их, этих часовых. Двое? А если больше? В общем, как всегда, уравнение со многими неизвестными…
Калинушкин и Шергин вязали заряды. Брали толовые шашки, связывали их по десять штук, вставляли внутрь капсюли. Вес зарядов получался солидным — пуд.
Четырехсотграммовые шашки, похожие на куски хозяйственного мыла, в руках Шергина казались детскими кубиками. Привыкший возиться с разного рода узлами и канатами, боцман работал споро, изредка бросая недовольные взгляды на Калинушкина, который, обычно сноровистый и разворотливый, на этот раз еле-еле шевелил руками. Такое положение вещей добросовестного Шергина не устраивало, и он наконец не вытерпел:
— Чухайся, Федор, чухайся! Не картошку на камбузе чистишь.
Калинушкин посмотрел на друга безмятежным, обезоруживающим взором.
— Ты в судьбу веришь, боцман? — неожиданно спросил он.
— Здрасьте, я ваша тетя! Это тебе зачем?
— Да так, для общего кругозора. Вдруг шлепнут? Так и не узнаю вашего отношения к тайнам природы.
— Я тебе шлепну! — разозлился Шергин. — Я тебя так шлепну, что ни одна санчасть не склеит!
— А все-таки? — не отставал Калинушкин. — Веришь или нет?
— Не верю. И тебе не советую… Ну куда ты капсюль суешь! Куда, я тебя спрашиваю?!
— А хоть бы и посоветовал, — невозмутимо продолжал Калинушкин. — Мне цыганка в Керчи нагадала, что я в двадцать пять лет мослы отброшу. Как видишь, третий год в женихах перехаживаю.
— Чего тогда треплешься? «Шлепнут», «шлепнут»!..
— К слову пришлось. Жалко, если дуба врежем. Молодыми и красивыми.
— Тьфу! Дурак был, дураком и остался! На кой ляд ты тогда мелким бесом перед командиром юлил? Боялся, что не возьмет, вспомнит, как ты в Бек-фиорде выпендривался?
— Дробь, боцман! Был грех, правда, боялся. Командир, сам знаешь, скажет — и точка. А куда я без вас?..
— Ну и не чирикай. Тебя за хвост не дергают, ты и не чирикай.
Негромкий свист прервал их разговор. Разведчики переглянулись.
— Мунко, — сказал Шергин. — Стряслось что-то.
Пригибаясь, они нырнули в заросли и через минуту были на площадке. Все, кто находился там, сгрудившись, напряженно всматривались в противоположный конец оврага.
— Что, командир?
Баландин молча показал рукой вниз.
Раздвинув траву, Шергин и Калинушкин посмотрели в образовавшийся просвет. В нем, как в прицеле, четко обозначилась фигура человека. Балансируя руками, человек осторожно спускался по скользкому склону в овраг.
— Солдат, — прошептал Мунко, чьи зоркие глаза уже разглядели то, чего еще не видели остальные.
Солдат с грехом пополам одолел склон и теперь шел по дну оврага. Из травы виднелись лишь его плечи и голова.
Баландин сомневался всего мгновение. Такой случай упускать было нельзя. «Язык» сам шел в руки.
Мунко глядел выжидающе. Баландин кивнул. Ненец снял с пояса свернутый в кольца аркан и скользнул в траву.
Солдат уже прошел половину оврага и приближался к тому месту, где, поворачивая, тропинка упиралась одной стороной в подножие площадки и где, они знали, его поджидал Мунко. Теперь разведчики видели солдата хорошо — от обмоток до какой-то легкомысленной шапочки на голове. Солдат был безоружен, а в руках нес что-то похожее на обыкновенную уздечку.
— Тоже мне, жокей! — хмыкнул Калинушкин. — Иди, иди, сейчас Мунко заделает тебе козью морду!
Они не видели ненца, взмаха его руки: просто из травы вылетела стремительная серая змея и упала на плечи солдата. Он рухнул как подкошенный и отчаянно забился, пытаясь сбросить с шеи аркан. Но Мунко не давал ему слабины и уже подтаскивал к себе солдата.
— Помоги, Влас, — сказал Баландин.
Шергин юзом скатился с площадки.
— Кино, — сказал восхищенно Калинушкин. — Раз-два — и ваших нет. Ковбой, а не человек! Командир, мои сто грамм — Мунко. Премия от Балтфлота.
Отдуваясь, на площадку поднялся Шергин. На руках он, как ребенка, нес скрученного арканом солдата. Во рту у пленного торчал кляп — кусок его же обмотки. Черные раскосые глаза солдата были открыты. Он переводил их с одного разведчика на другого — без страха, скорее с удивлением.
— Выньте у него эту тряпку, — велел Баландин.
— Заорет, командир, — усомнился Рында. — Пусть немного очухается.
— Заорет — по кумполу, — сказал Калинушкин, недвусмысленно подбрасывая на ладони гранату.
— Выньте, — повторил Баландин. — Развязывать пока подождем, а портянку выньте.
Кляп вынули и усадили пленного поудобней.
— Спроси у него, кто он такой, — спросил Баландин.
Радист перевел пленному вопрос. Тот повертел шеей, на которой уже вспухал сине-багровый рубец, потом быстро заговорил. Разведчики как один уставились на радиста, следя за выражением его лица. Только Мунко сидел на корточках в отдалении и лениво посматривал по сторонам. Пленный замолчал. Одинцов спросил еще о чем-то и повернулся к Баландину. Он был явно растерян.
— Это не японец, товарищ старший лейтенант. Кореец. Его зовут Ун Да Син. Он ездовой. А здесь искал лошадь.
У разведчиков вытянулись лица, а Шергин даже плюнул с досады. Нестроевой пленный, конечно, не был подарком. Ладно бы писарь, штабист какой, а то — ездовой! Что он мог знать, кроме сена и лошадей?
— Я же говорил — жокей, — презрительно сказал Калинушкин. — Он и весит-то тридцать два с пистолетом!
«Да, не повезло, — подумал Баландин. — На кой черт нам этот конюх?» Но все равно спросил:
— Знает ли он, где самолеты?
Выслушав Одинцова, пленный утвердительно кивнул. Кивок был понятен и без перевода, и разведчики посмотрели на пленного уже с интересом.
— Плакали твои сто грамм, Федор.
— Шут с ними, командир! Я Мунко и закуску бесплатно выставлю!
Пленный снова заговорил — возбужденно, пробуя даже жестикулировать.
— Развяжите его, — приказал Баландин.
Одинцов едва успевал переводить:
— Самолеты недалеко, километрах в восьми. Там озеро. Пятнадцать машин. Летчики живут там же, в казарме. Все они — камикадзе. Ун Да Син часто бывает там. Возит летчикам продукты и белье. Он ненавидит японцев. Они убили его брата. Это было еще до войны, когда строились укрепления на островах. Их строили китайцы и корейцы. Потом рабочих уничтожали — вывозили ночью в море и топили. Ун с братом работали на соседнем острове. Весь их отряд тоже утопили. Четыре тысячи человек. Ун спасся чудом. Его подобрали в море рыбаки. Так он попал сюда. У него не было ни документов, ни жилья, и он стал батраком. Потом пошел в армию вместо сына хозяина. Он не мог отказаться: хозяин грозил его выдать. Тогда бы Уна расстреляли.
— Ничего себе житуха, — сказал Калинушкин. — Либо к рыбам на корм, либо к стенке. Ну и паразиты!
— Самурай, он самурай и есть. Сам себе кишки выпускает, не то что другому. Фашист, в общем, — заключил Рында.
Разведчики замолчали, глядя на пленного с откровенной жалостью. Даже они, сами убивавшие и видевшие убийства, были поражены жестокостью услышанного. Молчал и пленный. Его руки нервно шарили по одежде, а по смуглому, отмеченному печатью страданий лицу пробегали мгновенные судороги. Казалось, корейца терзают какие-то тайные видения.
— Как охраняются самолеты? — прервал Баландин молчание.
— Хорошо. Кроме летчиков, караульный взвод. Пулеметы на вышках. У плотины — в дотах.
— Плотина?
— Да. Там есть плотина.
Баландин едва сдержал радость. Плотина, плотина… Это уже было кое-что. Вернее — все. План отчетливо складывался в голове.
Самолеты уничтожать не придется. Нет надобности жечь или взрывать эти летающие лодки, когда можно взорвать плотину. Уровень озера упадет, и самолеты обсохнут, как киты на отмели. Впрочем, обязательно ли взрывать? Раз существует плотина, существуют и шлюзы. Это элементарно. И стало быть, их можно открыть. Вопрос — какие шлюзы? Плотина скорее всего самодельная. Значит, и шлюзы простейшие. Клинкеты. Обыкновенные задвижки и шпиндели. Тоже элементарно, как закон Архимеда. Но здесь-то и зарыта собака. Допустим, откроем клинкеты. Ну и что? Ну потечет водичка и будет течь до второго пришествия. А дальше? Озеро большое, за час не вытечет. Рано или поздно придут солдаты и закроют клинкеты. И постараются узнать, кто их открыл… Нет, плотину надо взрывать. Ухнуть так, чтобы всем чертям стало тошно. Тогда попробуй заделай. Тут на неделю работы, а за неделю можно десять десантов высадить…
Баландин ликовал. Проблема решалась просто и, как ему казалось, наилучшим образом. Самолеты не поднимутся. К утру от озера останется грязная лужа. Правда, горячие головы наверняка попробуют взлететь. Пусть взлетают! На здоровье! Садиться все равно некуда. Разве что в океан. А это — гроб с музыкой…
Но радость неожиданно померкла. Простая мысль обдала Баландина холодом. Взрывчатка! У них не хватит взрывчатки! Плотина — не пушки. Чтобы своротить ее, нужен центнер тола. Если даже заложить в плотину все, что у них есть, они пробьют только дырку. Дырку, которую можно заткнуть задом. Все летит кувырком, весь план. План, в котором не было изъянов. И вот извольте бриться — взрывчатка!..
Баландин испытывал полную опустошенность. Как гипнотизер после сеанса, вложивший в заключительный номер все силы души и тела, он отрешенно смотрел перед собой, и в его потрясенном мозгу не возникало никаких мыслей.
Подошел Мунко, сел рядом с пленным, стал сматывать аркан. Баландин машинально следил за движениями ненца. Какой-то неясный образ мелькнул в дальних далях сознания. Исчез. Вновь возник, неуловимый, как нетопырь. Баландин напряженно думал. Он уже знал, что расстановка сил изменилась, что в цепи событий появилось новое звено, но не мог понять, чем вызвана такая неожиданная перемена. Не хватало какой-то детали, чтобы неясная пока мысль приобрела видимые контуры.
Мунко смотал аркан, засунул его за пояс. Снял пилотку, изнанкой вытер мокрое лицо. Прямые жесткие волосы ненца рассыпались, как солома. И тут Баландин уразумел: Мунко! Если обрядить ненца подобающим образом, он сойдет за стопроцентного японца! Выход, черт побери! Плотина все-таки взлетит, или он ровным счетом ни в чем не смыслит!..
План был предельно прост и на первый взгляд совершенно невыполним, ибо в его основе лежала невероятная мысль. Или почти невероятная. Но Баландин не думал так. Как игрок, на которого снизошло наитие, он в один миг объял внутренним взором и видимое пространство, и отдаленные перспективы. И сделал ставку.
Итак, они отпускают пленного. Именно отпускают, потому что никто, кроме него, не принесет обмундирование для Мунко. Можно, конечно, раздеть корейца, но проку от этого никакого. Даже переодетый, Мунко один ничего не сделает. А пленный знает все: и где самолеты, и как туда добраться, и как пройти посты. И только вдвоем они смогут сделать невозможное — добыть взрывчатку и взорвать плотину.
Это был предел мечтаний; в душе же Баландин не сомневался, что товарищи не согласятся с его предложением. Но на этот случай у него имелось свое собственное мнение. И доводы, которые он считал немаловажными. Он изложил план. Разведчики выслушали Баландина внимательно, но он сразу понял, что никто из них не верит в серьезность его затеи.
— Сказки, командир! — решительно сказал Калинушкин. — Про белого бычка. Разжалобил нас этот жокей. Да отпусти мы его, он через час полк сюда приведет! Кореец! Он нам паспорт показывал? Припечет — арапом назовешься!
— Не вернется он, командир, — поддержал Калинушкина Рында. — Что он — дурак?
— Должен вернуться! — убежденно сказал Баландин. — Надо только растолковать ему все. Не забудьте, что Корея была захвачена японцами. Для самураев корейцы, как и китайцы, — низшая раса. Это во-первых. Во-вторых — брат. Не думаю, чтобы это было выдумкой. Такие штучки японцы проделывают не впервые. В свое время они уничтожили строителей бактериологических лабораторий в Маньчжурии. Так что, если подумать как следует, Ун должен вернуться. Ему терять все равно нечего.
— Шкуру, командир. Завалится — из него же кишмиш сделают.
— Все будет зависеть от него самого. А ты что скажешь, Влас?
Боцман сосредоточенно соскабливал грязь с сапога.
— Отпустить недолго, командир. Только гарантий, что он вернется, — с гулькин нос. Все это правильно — низшая раса, брат. Однако Иван тоже прав, жить пленному хочется. Продать, может, и не продаст, но чтоб вернулся… Тут характер нужен. А что он за человек? Лучше самим все сделать.
— Как? — спросил Баландин. — Ты же слышал: пятнадцать машин. Как ты их сожжешь? Туда пробраться чего стоит — охрана, летчики, пулеметы. Ну одну, ну две машины от силы сожжем. А остальные? Пока будешь мотаться от самолета к самолету, подстрелят, как чирка. А плотина — дело верное.
— А я и не спорю. Но в нашем положении дороже синица в руках, чем журавль в небе. А если продаст? Представляешь?
Баландин представлял. Неудача с корейцем означала полный провал операции и несомненную гибель группы. Японцы не выпустят их живыми. Они здесь как в мышеловке. Но еще не дернули за крючок. Однако дверца может захлопнуться в любую минуту. И не опередят ли они события, отпустив пленного?
Все это Баландин понимал. Очень хорошо, без всяких натяжек и иллюзий. И тем не менее настойчивая мысль о возможности взорвать плотину не покидала его.
Нет гарантий, как говорит Шергин? Есть. Пусть небольшие, но есть. Человек, у которого отняли родную землю и убили брата, не может питать верноподданнических чувств к захватчикам и убийцам. С этим надо считаться. Верно: жить хочется всем, и проще всего предположить, что кореец удерет, если отпустить его. А если вернется? Если он смелый человек?
Рассуждая так, Баландин внимательно присматривался к пленному. Тот сидел, поджав под себя ноги, глядя на разведчиков без страха и тревоги.
Баландин видел многих пленных. И неплохо знал их психологию. Как правило, они раскрывались в первые же минуты. Цепляясь за жизнь, большинство из них заискивали, торговались, юлили и в конце концов без утайки рассказывали обо всем. Некоторые не говорили ничего. Но таких было немного. Такие чаще всего вели себя нагло: пытались угрожать, выставляли нелепые и невыполнимые требования, становились в позу. Собственно, это было то же торгашество, лишь прикрытое громкими словами.
Кореец не походил ни на тех, ни на других. В нем не чувствовалось ни заискивания, ни готовности лизать сапоги тех, от кого зависела его жизнь, ни угодливого мельтешения. Встретив взгляд Баландина, он не отвел глаз, ничем не выразил своего беспокойства.
«Нет, он не трус, — подумал Баландин. — И не предатель. Те ведут себя по-другому. На этого парня можно положиться…»
Назвав пленного «парнем», Баландин только теперь заметил, что тот действительно молод.
«Ему нет и тридцати. Он мой ровесник, если не моложе. Наверное, его тоже где-то ждет мать. Его и брата…»
Баландин больше не колебался.
«Нельзя думать о людях хуже, чем они есть. Иначе можно разувериться во всем. Даже среди немцев были честные и порядочные ребята. Как тот ефрейтор, который приполз однажды к нам в траншеи. Он ничего не принес с собой, никаких документов. Просто он сказал, что ненавидит войну и Гитлера. Его накрыло миной, когда он выступал по радио. Его и операторов. Вместе с установкой…»
— Сержант, — сказал Баландин, — объясни ему все. Все — от альфы до омеги.
— Зря, командир, — сказал Калинушкин, — Как бы локти не пришлось кусать,
— Не каркай, — оборвал его Шергин. — Не один ты кусать будешь. Поживем — увидим.
— Поживешь тут… — пробормотал Калинушкин,
Шергин молча показал ему похожий на гирю кулак.
Одинцов говорил долго. Кореец слушал не перебивая. Когда радист остановился, он некоторое время молчал, потом что-то сказал — решительно и резко. Одинцов обернулся к разведчикам:
— Он согласен. Он принесет одежду и пойдет с Мунко. Он просит верить ему.
— Хорошо, — сказал Баландин. — Пусть идет. Мы будем ждать его здесь.
Никогда Баландин не испытывал такого нервного напряжения, как в эти нескончаемые минуты, когда, лежа у края площадки, он, не отрываясь, смотрел в дальний конец оврага, куда сбегала блестевшая от дождя тропинка. Час назад на ней появился человек; по ней он ушел обратно и теперь должен был появиться вновь. Или не появиться.
Временами Баландин готов был раскаяться в содеянном, и только затаенная надежда, как рефрен звучавшая в нем, удерживала его от последнего шага. Да и чем могло помочь это запоздалое раскаяние? Оставалось одно — ждать. Ожидание стало уделом всех шестерых, и никто из них не мог сказать, что грядет с ним — успех или ярость последней отчаянной схватки.
Ун Да Син появился неожиданно. Мунко успел лишь предупреждающе поднять руку, а кореец уже скатился в овраг и, не разбирая дороги, устремился к площадке. Шуршала и волновалась раздвигаемая быстрым телом трава. Сверху казалось, что по дну катится сорвавшийся с обрыва камень.
— Во прет! — удивился Рында. — Как наскипидаренный!
— Застукали, — убежденно сказал Калинушкин. — Чтоб мне сдохнуть, застукали!
Все невольно сжали в руках автоматы, ожидая увидеть тех, кто нагнал на корейца такого страха. Но склон был пуст. Кореец между тем уже взбирался на площадку. Слышалось его тяжелое дыхание и чавканье размокшей земли под ногами. Затем над краем площадки показалось его лицо — мокрое и тревожное. Однако эта тревога исчезла с физиономии корейца, едва он увидел разведчиков. Одним махом преодолев последние метры, он протянул Баландину перетянутый ремнем узел.
— Что случилось, сержант? Почему он мчался как угорелый?
Радист перевел вопрос.
Кореец принялся объяснять, возбужденно блестя глазами и показывая рукой назад.
— Факт, застукали, — сказал Калинушкин.
— Да подожди ты! — остановил его Одинцов. — Никто никого не застукал. Просто Ун боялся, что мы не дождемся его. Ему пришлось запрягать лошадь, и он задержался.
— Какую еще лошадь? — спросил Баландин.
— Он приехал на лошади. Повозка осталась вон там, за оврагом. Он говорит, что на озеро лучше ехать. Если они придут пешком, их могут спросить, зачем они пришли. А так никто не спросит, все привыкли, что Ун приезжает на лошади.
— Молоток! — сказал Калинушкин. — Не гляди, что глаз узкий, а котелок варит. Слышь, Ун? Котелок, говорю, у тебя варганит что надо. Тебя бы к нам на Балтфлот. Адмиралом. Пошел бы в адмиралы, Ун?
— Ну что ты талдычишь? — с неудовольствием сказал Шергин. — Ему же твои слова как мертвому припарки.
— Много ты знаешь, боцман! Кровь из носа: насчет адмирала он усек. Усек, Ун?
Кореец вежливо улыбнулся.
— Видал! — обрадовался Калинушкин. — А ты говоришь!
Баландин все еще держал узел в руках. Напряжение схлынуло, он предчувствовал удачу и не боялся отпугнуть ее неосторожным словом или поспешностью. Однако времени было в обрез. День клонился к закату, а еще ничего не было сделано.
Баландин протянул узел Мунко.
— Давай, — сказал он, — облачайся.
Мунко взял узел и скрылся в траве. Когда он появился оттуда, разведчики не могли удержаться от смеха: ненец выглядел как заправский японец. Форма пришлась ему впору и была, что называется, к лицу.
— Ну, Мунко! — только и вымолвил Шергин.
А Калинушкин фертом прошелся перед ненцем, кланяясь и разводя руками:
— Комси-комса! Наше вам с кисточкой!
Кривляние Калинушкина не понравилось Мунко.
Он посмотрел на него потемневшим взглядом:
— Не знаешь ты жизни, Федор! Глупый, как сиби-
ко гуся! — В устах ненца эти слова звучали как самое сильное ругательство.
— Вот те раз! — притворно удивился Калинушкин. — К нему с уважением, а он тебя матом! Какого-то сибико придумал.
— Сибико — это самка, — сказал Одинцов.
Разведчики снова засмеялись, на этот раз над Калинушкиным.
— Ладно, — пригрозил тот, — я ему эту гусыню припомню! Не мог по-человечески обозвать, змей!
— Все, — сказал Баландин, жестом прерывая веселье. — Порезвились, и хватит. — Он достал из-за пазухи планшетку с картой. — Где твое озеро, Ун?
Кореец помедлил, прикидывая, потом ткнул пальцем в нижний обрез карты.
— Так, — протянул Баландин. — По прямой — километров десять. Учитывая рельеф и вид транспорта, кладем два часа. А? — Он посмотрел на разведчиков. Те согласно кивнули. — Отлично, — продолжал Баландин, — поспеют как раз к темноте. А нам что ни темней, то лучше. Теперь главное — взрывчатка. Ун, что можно раздобыть на озере?
— Он говорит, — перевел Одинцов, — что не знает, есть ли там тол. Но бомбы есть. В складе на берегу.
— Что в лоб, что по лбу, — сказал Шергин. — Бомбы даже лучше. Две дуры килограмм по полста — и хватит. А для затравки пяток шашек с собой возьмут.
«Лошадь кстати, — подумал Баландин. — На себе бомбы не попрешь».
— Далеко от склада до плотины?
— Не очень. Ун говорит, что можно доехать за час.
— Добро. Теперь слушай внимательно, Мунко. Приедете — пусть Ун тебя куда-нибудь спрячет. Маскарад маскарадом, но лучше не лезть на глаза. Дальше. Склад берите ночью, когда все уснут. Часового хочешь не хочешь — придется снимать. Дождись смены и снимай. Тогда у вас часа два, а может, три в запасе будет, смотря через сколько они сменяются. Грузите бомбы — и к плотине. Ну а там сами сообразите, что к чему. Да не забудьте колеса обмотать. Чтобы ни стуку, ни скрипу, понял?
— Понял, командир.
— Тогда собирайтесь. Влас, давай шашки и шнуры.
— Лучше целый заряд взять, командир. У нас есть готовые.
— Неси. Заряд так заряд.
— Товарищ старший лейтенант, — сказал вдруг Одинцов, — а если к Мунко кто-нибудь пристанет? Разговорчивый какой-нибудь, вроде того в траншее? А Мунко по-японски ни слова.
— Это уж точно, — сказал Калинушкин. — Ни в зуб ногой.
Баландин пожал плечами.
— Тут ничего не поделаешь, сержант. Будем надеяться, что любителей поговорить не найдется. А потом с ним Ун. Догадается, как выкрутиться в случае чего.

