Книга: Сингулярность. Образы «постчеловечества» (сборник)
Назад: Константин Фрумкин. Комментированная реальность
Дальше: Часть 3. Социология будущего
Юрий Визильтер. Закат буквы, или Несколько гипотез о бытовании литературы и поэзии в постписьменную эпоху
«Цивилизация текста» завершается. С каждым следующим годом писать будут все меньше и меньше. Больше будут говорить, действовать и показывать. В наступающую постписьменную эпоху традиционная литература практически прекратит свое существование. И не потому, что некому будет читать в силу общей наступившей безграмотности, а потому что те базовые творческие потребности, которые сегодня удовлетворяются путем написания литературных текстов, в новую эпоху будут удовлетворяться другими способами. Как следствие, место традиционной литературы займут такие творческие практики, которые в настоящее время еще не существуют, либо считаются внелитературными или «паралитературными». В постписьменную эпоху пути прозы и поэзии, ранее искусственно объединенные понятием «книги» и «публикации», вновь и окончательно разойдутся.
Часть 1. Закат буквы. О хорошем отношении к лошадям
Все, что написано в данном разделе, не особо ново. Если что и поразительно – так это то неколебимое страусиное спокойствие читающей и пишущей публики, с которым она раз за разом игнорирует подобные прогнозы и предупреждения.:) Поэтому, если типовые аргументы в пользу высказываемой точки зрения вам уже знакомы, смело пропускайте этот раздел и переходите прямиком к следующему, то есть ждите второй части этой статьи, которая вскоре воспоследует.
О закате «эры Гуттенберга» говорят уже давно. Прежде всего, в связи с тем, что современные технологии распространения текста делают бессмысленным бумажное книгопечатание. Во-вторых, в связи с тем, что другие медиа (телевидение, радио, интернет) стремительно вытесняют печатные средства массовой информации с тех позиций, которые они занимали ранее в качестве информационной основы и связующей силы общества. Большинство исследователей сходится на том, что проблема это чисто техническая – смена одного носителя информации другим, одного канала передачи информации – альтернативным и заведомо более эффективным. Некоторые даже радуются упомянутому «закату»: мол, никогда раньше не публиковалось столько текстов, сколько публикуется их теперь в интернете, никогда раньше тексты не были столь доступны, никогда не был так эффективно организован текстовый поиск и т. д. и т. п.
Между тем, необходимо ясно понимать, что ни о какой «технической проблеме» здесь не может быть и речи. Человеческая цивилизация (именно как цивилизация) находится на пороге одного из серьезнейших своих изменений за всю достоверно известную нам мировую историю. Потому что уже на протяжении жизни ближайшего поколения мы вступим не в «постпечатную», а в «постписьменную» эпоху. В глобальной перспективе это, вероятно, приведет к изменению самого способа мышления, присущего человеку – от абстрактно-языкового на базе слов и упрощенных символов (формул) к смешанному абстрактно-образному на базе мультимедийных конструкций. В локальной (и очень близкой) перспективе нас ожидает серьезная мутация и даже естественная смерть целых областей традиционной культуры. И первой жертвой этого процесса станет традиционная литература, имеющая своей целью создание и распространение художественных текстов, предназначенных для визуального прочтения.
Конечно, куда интереснее было бы поговорить о глобальных последствиях «заката буквы», попробовать представить себе этот неведомый еще мультимедийный язык, этот новый стиль мышления, объединяющий мощь понятийной абстракции с конкретностью образа… Но своя рубашка, как известно, ближе к телу. И раз уж так случилось, что и я, и значительная часть моих знакомых посвятили существенную часть своей жизни литературе и разнообразным окололитературным занятиям, тема возможной скорой «смерти», и напротив, возможные формы «посмертного существования» литературы в этой новой бесписьменной цивилизации как-то сильнее затрагивает чувствительные фибры нашей души. Возможно, и ты, уважаемый читатель, имеешь какое-либо отношение к литературе – например, любишь детективы или изредка почитываешь стихи. В таком случае данные «записки Кассандры» могут оказаться небезынтересными и для тебя – хотя бы в качестве интеллектуального упражнения и развлечения.
Собственно говоря, утверждая, что «цивилизация текста» на наших глазах завершается, я на самом деле имею в виду очень простые, понятные вещи, которые практически без доказательств очевидны каждому, кто даст себе труд оглянуться по сторонам и непредвзято оценить происходящее. Причина: образованные люди (а именно они и составляли всегда того обобщенного «читателя», которого имела адресатом своим литература) в массе своей все менее склонны читать, и все более склонны смотреть, слушать, непосредственно ощущать и даже соучаствовать. Следствие: с каждым следующим годом писать будут все меньше и меньше, зато все больше будут говорить, действовать и показывать. Это будет смертью той литературы, которую мы знаем, и началом чего-то нового, пока еще не определившегося и совершенно неизведанного.
Вы скажете, как же так? Это противоречит всем фактам! С одной стороны, никогда еще не издавалось ежегодно столько книг, и количество их продолжает расти. С другой стороны, не то что читателями – уже и писателями-то стали практически все! Даже если говорить только о профессиональных писателях (то есть о людях, официально издающих свои книги и получающих за это деньги), то в последние десятилетия число их как раз возросло, причем возросло неимоверно. Если говорить о писателях и поэтах любителях, заполонивших Интернет-сайты – счет уже пойдет на миллионы. Если же, как это теперь модно, причислить к родам литературы также Интернет-блоги, SMS-послания и рекламные слоганы, то о какой смерти текста можно говорить?! Это самый настоящий расцвет! Просто какое-то буйство, вакханалия текста. Куда ни плюнь, на что ни кинь взгляд – непременно попадешь в какой-нибудь торжествующий письменный текст.
И все это безусловно так. Только, представляется мне, это как раз тот предсмертный расцвет, который предшествует полному и окончательному увяданию и исчезновению, причем в самое ближайшее время. Попробую объяснить, почему. С методической точки зрения, чтобы выяснить перспективы, нужно исследовать причины возникновения каждого из перечисленных признаков «расцвета» текста, и задаться вопросом – сохранятся ли они впредь. Давайте разбираться по порядку.
Почему издается все больше наименований книг? О том, что писателей становится все больше, мы ниже поговорим отдельно. Сейчас же речь о том, почему издатели готовы издавать все больше новых и разных книг, часто даже совсем неизвестных авторов. Коротко говоря, ответ на этот вопрос сводится к тому, что суммарные тиражи падают. Общество в целом стало меньше читать, а учитывая, что младшее поколение (на западе нужно говорить о двух, если не о трех последних поколениях) уже практически не читает, то ясно, что тенденция эта будет только усиливаться. Все реже книга может стать бестселлером (то есть лидером продаж, затрагивающим весь читательский массив) сама по себе, без помощи других видов искусства и масс медиа (прежде всего – кино и телевидения). «Код да Винчи», да «Гарри Поттер» – вот и все примеры. Остальное – от «Секса в большом городе» до «Ночного дозора» – пришло к массовому читателю уже в отраженном свете кино и телеэкрана, хотя были успехи и до того, но гораздо скромнее, с аудиториями на несколько порядков меньше. В этих условиях, когда рынок в целом падает и неуклонно сжимается, издатели, следуя строим законам бизнеса, стараются делать ставку на издание уже не литературы «вообще» для массового читателя «вообще», а как можно более адресной, нишевой литературы, которая в общей сложности способна будет хотя бы частично, но зацепить каждого еще существующего потенциального читателя, где бы он ни находился. Отсюда и резкий рост разнообразия (номенклатуры) издаваемых книг, и готовность рискнуть, издавая книги странные, экспериментальные, откровенно плохие – а вдруг и у них найдется аудитория, хотя бы и самая скромная? Это общий закон поведения производителя на «схлопывающемся» рынке. Однако, рано или поздно этот рынок перейдет к следующей фазе – «схлопнется» до такой степени, что работать на нем станет уже и вовсе нерентабельно, и тогда на место «пышноцветущего разнообразия» придет вполне однородная пустота, то есть полное отсутствие какого-либо присутствия. Причем произойдет это разом, лавиннобразно – магазины и лавки просто закроются, а производители перейдут на другие рынки, станут выпускать другие товары.
Вы скажете, так не бывает, чтобы целая отрасль, охватывающая и затрагивающая миллионы людей, вдруг в одночасье перестала существовать. Если люди чем-то занимаются, они будут этим заниматься всегда. Увы, примеров полно. Вот один из достаточно недавних: лошади и все, что связано с ними. Лошади были основным транспортом, источником энергии. Лошадей разводили, продавали, корм для них растили, упряжь изготавливали, также изготавливали повозки, телеги, омнибусы, дилижансы, конные трамваи, одежду для верховой езды, верховой езде обучали и т. д. и т. п.… Ни городскую улицу, ни сельский пейзаж, ни поле боя вплоть до начала двадцатого века нельзя было представить себе без лошадей. Без миллионов лошадей – и миллионов людей, которые ежедневно жили и работали рядом с ними. Внезапно для всех этих людей, на протяжении всего лишь двух десятилетий между первой и второй мировыми войнами лошадиный мир исчез. Все, кто были связаны с лошадьми, были вынуждены искать себе другое занятие (особенно показательна, например, судьба шорников). Осталось спортивное коневодство, но это уже совсем другая песня и совсем другие объемы. Когда вы спрашиваете, как же мир обойдется без печатных книг, газет журналов и других письменных текстов для чтения, представьте себе, что сто с небольшим лет назад вашим предкам кто-нибудь рискнул бы рассказать о мире без лошадей.
Итак, мы разобрались с тем, почему так много сегодня издают, и какая у этого издательского бума перспектива. Попробуем теперь обсудить, почему в последние годы люди стали так много писать. Опять же, если говорить коротко, писать так много стали потому, что (а) появился эффективный канал для передачи письменных текстов и соответственно появился смысл и повод побольше и почаще писать, и (б) у нынешнего поколения есть такие возможности (время и средства) и умения (навыки).
Что я понимаю под «эффективным каналом для передачи письменных текстов»? Разумеется, я здесь нисколько не оригинален, и говорю об Интернете. Опять же замечу – ничто не ново под луной, и нынешний всплеск массового текстописания – не первый в новейшей истории человечества. Предыдущий аналогичный «бум» приходится, пожалуй, на эпоху регулярных почтовых сообщений. Регулярно и гарантируемо доставляемая бумажная почта была для своего времени не меньшей революцией, чем нынешний Интернет. Она также связала страны и континенты, дала возможность постоянно общаться на расстоянии разлученным родственникам и влюбленным, оживила научные и культурные связи, многократно усилила эффективность управления в бизнесе и торговле, и так далее, и так далее. В области культуры регулярная почта, как техническое средство, естественным образом породила соответствующий специфический жанр, а именно – эпистолярный. Начав вести почтовую переписку по делу, люди достаточно быстро поняли, что и это занятие может быть не лишено изящности, а избранные собрания из личной переписки – вполне достойны опубликования как истинные литературные шедевры. Заметим, что дань эпистолярному жанру отдавали те, у кого были, во-первых, такие возможности (свободное время и средства для посылки множества писем) и, во-вторых, необходимые умения (грамотность, приличный почерк, навыки, как прежде говорили, «чистописания»). Так в литературе возник новый жанр, а миллионы «любителей» так или иначе практиковались в этом жанре ежедневно по необходимости, по делу, по обстоятельствам жизни или просто личной склонности (есть ведь такие, кто излагает свои мысли на бумаге гораздо лучше, чем в личной беседе). В эту эпоху практически все грамотные люди умели достаточно прилично изъясняться на бумаге, и в среднем писали очень много (вероятно, больше, чем даже нынешние блоггеры – адресатов было меньше, зато письма были длиннее).
Что было дальше – известно. Изобрели телефон – средство мгновенной передачи живого человеческого голоса на расстояния, аналогичные почтовым. Возник конкурирующий канал передачи информации, пользоваться которым было проще и быстрее, и эпистолярный бум сошел на нет в течение тех же десяти-двадцати лет. Чуть раньше, кстати, изобрели телеграф – средство мгновенной доставки коротких текстовых сообщений (ну как тут не вспомнить нынешние SMS?), но канал был слишком «узким» (всего несколько слов в сообщении, знаменитый «телеграфный стиль» – ЛЮБЛЮ ЗПТ ЖЕНЮСЬ ТЧК). Поэтому предыдущий, эпистолярный расцвет «массового текстотворчества» похоронил именно телефон – как теперь сказали бы, первое мультимедийное средство, передававшее человеческую речь от источника к адресату именно в той модальности (звучащее слово), в которой она используется нами в быту. Более того – и это даже важнее, когда мы говорим о литературе – звучащее слово это именно та модальность, которой человек использует слово в процессе своего мышления. Когда человек думает, он ведь не видит перед собой написанного текста своих мыслей – он слышит свой «внутренний голос». Аналогичный «внутренний голос» слышит читатель, когда он «про себя» читает книгу. (Известны, конечно, техники скорочтения, которые как раз специально подавляют «внутренний голос», чтобы информация воспринималась непосредственно из текста. Это позволяет читать намного быстрее, но зато полностью убивает всякое эмоциональное восприятие прочитанного, так что к восприятию литературных произведений скорочтение отношения не имеет, и даже считается в этом смысле вредным.) Именно возможность передавать голос, с его интонациями и личными особенностями, напрямую слушателю, без посредства омертвляющего письменного текста (на написание которого ведь еще и времени тратится гораздо больше!) и сделал телефон столь популярным средством общения. Первое же поколение, выросшее в эпоху массовой телефонизации, решительно и бесповоротно перестало писать письма. Кстати, и «актуальная грамотность» (в смысле умения не только читать, но и качественно писать тексты) в этот момент радикально снизилась.
Любопытно посмотреть, что в этот момент происходило в искусстве. Прямым аналогом телефона (как средства общения) здесь было, конечно, радио (как масс медиа). И надо отметить, популярность радиопьес и других «звучащих форм» в первой половине двадцатого века была чрезвычайно высока. Достаточно вспомнить работу на радио многих известных писателей, например, Брехта. С другой стороны, чтобы почувствовать силу воздействия на массового слушателя радио (то есть аудио) модальности достаточно привести хрестоматийный пример постановки «Войны миров» Герберта Уэллса его не менее знаменитым однофамильцем Орсоном Уэллсом, повергшей в панику половину Америки, уверовавшей в реальную высадку воинственно настроенных марсиан. Однако, «радио-литература» практически не стала специфическим жанром, не дала каких-то важных специфических ростков (кроме, разве что радио-пьес того же Брехта), поскольку, во-первых, начиная с сороковых годов прошлого века, радио как мономедиа (заметим, что и литература – мономедия), опирающееся на единственную звуковую модальность, по всем статьям проиграло битву за аудиторию альтернативным ему мультимедиа – кино и телевидению, опирающимся сразу на две модальности восприятия (аудио и видео), занимающие в сумме 90 % человеческого внимания. Во-вторых же, и это еще интереснее – внутри битвы за радиоконтент (программу передач) – литература (fiction texts) во всех своих формах столь же радикально проиграла, с одной стороны, новостям и аналитике (non-fiction texts), а с другой – музыке, которая в итоге и заняла 80 % времени радиоэфира (остальные 20 % примерно поровну делят новости и реклама). Почему музыка (иногда со словами, если это песня, но все равно слово играет здесь явно вторичную и вспомогательную роль) вытеснила из основного аудиоканала (радио) собственно слово – предмет отдельного и важного разбирательства, имеющий существенное значение для предсказания будущего литературы после «заката буквы». Впрочем, нельзя не отметить и противоположный факт – в кино и на телевидении литература (тексты и фабула) дала музыке решительный бой и, похоже, окончательно похоронила мюзиклы и музыкальные передачи под грудой телесериалов и юмористических шоу. Ниже, во второй части, мы еще вспомним об этих фактах и тенденциях, пока же – двинемся дальше.
Итак, перед нами последняя четверть двадцатого века. Все пользуются телефонами, никто не пишет писем, количество писателей и престиж профессии писателя – предельно снижается. И в этот момент появляется Интернет… Впрочем, отступим еще на несколько лет назад. Появляется персональный компьютер. Вы скажете, причем тут ПК? Это же не канал передачи информации. Действительно, нет (сеть ПК – да, отдельный компьютер – нет). Но переход к массовой компьютеризации вновь заставил миллионы людей обрести навыки, необходимые для создания текстов, короче говоря, научиться печатать. Вы помните, что такое «машинописное бюро»? Раньше оно было в каждом уважающем себя учреждении, в каждой фирме (десятки, а то и сотни машинисток). У каждого начальника была секретарша, обязательно владеющая стенографией и машинописью, дабы запечатлевать высокий полет начальственных дум в печатные знаки. Вы помните, наконец, исходный смысл слова «рукопись»? И то, как прежде, чем сдавать рукопись в издательство, ее нужно было перепечатать? Я – уже не помню. Но моя мама одно время подрабатывала машинисткой на дому. (Вот вам, пожалуйста, еще одна профессия, полностью исчезнувшая практически у нас на глазах, на памяти одного поколения). Все это роскошное и громоподобное великолепие (не зря же помещения машинописных бюро обивали звукоизолирующими материалами – представьте себе весь этот шум, когда десятки машинисток стучат по клавишам своих пишущих машинок) стало ненужным только потому, что новое поколение пользователей ПК поневоле научилось печатать – не бог весть как, зато самостоятельно. Столь необходимый для возрождения эпистолярной эпохи навык создания письменных текстов вернулся – на новом витке спирали, а тут подоспела и «новая почта» – Интернет. Возникновение распространяемой через Интернет электронной почты, а затем и блоггерских ресурсов типа ЖЖ породили новый всплеск массового «текстотворчества», сопоставимый с эпохой прежних эпистолярных коммуникаций. Но новый всплеск массового «литературно направленного писательства» (не будем говорить о графомании) все-таки породил тот элементарный факт, что множество людей, благодаря ПК, одновременно научились печатать. «Почему птицы поют? – Потому что у них есть голос». Умеют писать (печатать) – вот и пишут. Пишут, как умеют. А почему их публикуют, мы уже разбирались выше.
Каковы же перспективы этого нового бума текстовых коммуникаций (и сопутствующего ему бума литературного творчества масс)? Увы. Технический прогресс неумолим. Мы видели, как в первой половине двадцатого века мультимедиа в ипостаси телефона убила текстовые коммуникации в ипостаси бумажной почты. В то же время кино, телевидение и музыка последовательно отнимали аудиторию у печатных книг, журналов, газет и всех остальных средств распространения письменного слова. Боюсь, нет никаких рациональных оснований предположить, что спустя сто лет, аналогичная история будет иметь иной финал. Интернет, как средство передачи информации на расстояние, изначально был в значительной степени ограничен передачей текстовых сообщений (и соответственно – построением текстовых ресурсов) исключительно в силу «узости» канала передачи. Чем более «толстым» (скоростным) становится канал передачи – а наращивание технических возможностей происходит в этой сфере постоянно, тем больше вероятность того, что в самое ближайшее время звук и видео снова вытеснят текст, на этот раз – из виртуального пространства Интернета. Уже сейчас нет никаких проблем с передачей по сети речи (телефонные компании всерьез озабочены конкуренцией со стороны skype и других подобных IP-служб, сетевые геймеры без проблем общаются друг с другом в реальном времени в голосовом режиме), кабельные телевизионные каналы также начинают переходить на цифровое вещание через Интернет, фирмы устраивают регулярные сетевые пресс-конференции. Похоже, через несколько лет Интернет может с полным правом сказать нынешнему текстовому буму: «Чем я тебя породил, тем я тебя и убью».
Для того, чтобы эра текста в сети закончилась, и реально началась эра мультимедиа, необходимо, чтобы, помимо возможности самого канала (Интернета) эффективно передавать мультимедийный контент пользователям, у пользователей, в свою очередь, появилась возможность легко и быстро такой контент создавать и посылать – так же просто и естественно, как мы привыкли говорить по телефону. Пока это еще не так. Не у каждого пользователя компьютер оснащен микрофоном и видеокамерой, не все носят с собой КПК, но ожидаемое в самые ближайшие годы (если не месяцы) новое поколение мобильных устройств, сочетающее в себе свойства мобильных телефонов, фотоаппаратов, видеокамер и сетевых коммуникаторов, безусловно решит эту проблему. И это станет началом заката текстовых сервисов и ресурсов Интернета, а с ними – и «новой эпистолярной эпохи». Люди снова перестанут в массовом порядке создавать письменные тексты, и будут просто говорить, смеяться, корчить друг другу рожи, в общем, получать удовольствие от общения. И слава богу, что технический прогресс в очередной раз дает им такую возможность.
Однако вторым очевидным следствием распространения мультимедийных благ станет то, что люди перестанут не только писать, но и читать. Почему люди не перестали писать (в быту), но не перестали читать с появлением телефона, радио и телевидения? Беллетристику, как мы знаем, стали читать существенно меньше, но совсем читать не разучились. Прежде всего потому, что получение профессионального образования, да и сама профессиональная деятельность во многих сферах по-прежнему требовали навыков получения информации из печатных книг, навыков работы с новыми публикациями и так далее. А это, в свою очередь, было связано с тем, что печатный текст на тот момент все равно остался наиболее удобной формой хранения и передачи деловой информации. Но сегодня это уже не так! Все данные (включая и текстовые) уже давно хранятся в цифровой форме. Числа хранятся как числа (а не как значки на бумаге), схемы, графики и диаграммы – как схемы, графики и диаграммы (то есть опять же как числа, воспроизводимые в виде соответствующих графических форм), видео и аудиоматериалы – как видео и аудиоматериалы… Записать, сохранить и передать, например, доклад руководителя в виде презентации с живым звуком и всеми сопутствующими видео и фотоматериалами проще, быстрее и полезнее, чем записать его в виде текста. То есть теперь не только в бытовой, но и уже и в профессиональной сфере мы пользуемся письменными текстами в качестве средства представления, хранения и передачи информации скорее по инерции (потому, что мы так умеем, так привыкли, так нас научили), а не потому, что иначе нельзя или иначе менее эффективно. А раз так – следующее же поколение, которое не сковано инерцией наших навыков и нашего мышления, изменит эту практику и полностью откажется от устаревших текстовых средств. Это и будет настоящий закат буквы.
Что же произойдет тогда с современной литературой, как с областью человеческой деятельности, направленной на создание письменных текстов? Увы, видимо, и она исчезнет. Останется частью прошлого – как многие другие человеческие практики, столь милые сердцам тех, кто был в них в свое время вовлечен. Возможно, новые книги будут создаваться и даже читаться некими группами книгопоклонников (подобно тому как существуют и доныне, в «постлошадный период» и конный спорт, и конный туризм, и даже конная милиция), но все это будет происходить уже на периферии человеческой культуры, играя в общей картине интересов и духовных устремлений человечества крайне малую и незначительную роль.
Постойте, как же так?! – спросит упорный читатель. А куда же денутся тогда все те души прекрасные (и прочие) порывы, которые всегда толкали людей на сочинение стихов, романов и вообще литературных произведений? Неужели и они сразу отомрут только потому, что никто не захочет распространять и читать книги? Должны же они как-то реализовываться и в эту вашу гипотетическую постписьменную эпоху?
И вот здесь я наконец-то могу радостно согласиться с вами, уважаемый читатель. Безусловно, творческий потенциал, ранее реализовывавшийся в виде письменных литературных текстов, никуда не денется. Просто на первый план выйдут другие средства его реализации. Какие именно? Читайте вторую часть этой статьи.
Часть 2. Заре навстречу, или Куда податься безработному писателю после кончины литературы
Допустим, я вас в чем-то убедил, и вы хоть на минуту поверили, что письменные тексты скоро исчезнут из нашей жизни, как некогда исчезли из нее, казалось, вечные спутники людей, лошади (см. первую часть статьи «Закат буквы или О хорошем отношении к лошадям»). Что же дальше? А дальше, уважаемые [пока еще читатели], начинается самое интересное. Потому что и лошади ведь не просто так исчезли из нашего обихода по прихоти кучки злодеев-конефобов. Потребности людей, которые ранее удовлетворяли лошади, никуда не делись, но в двадцатом веке для насыщения каждой из них было найдено новое, более эффективное средство. Лошади были вытеснены в результате жестокой конкурентной борьбы, и их место заняли автомобили, мотоциклы, метро, двигатели внутреннего сгорания, электричество… Заметьте – не появилось единое техническое средство «заменитель лошади» или «лошадь-робот». Появилось несколько новых средств, каждое из которых отвечало только одной потребности – возить на себе седока, толкать транспортную повозку, приводить в движение механизмы – но уж этой функции оно отвечало идеально, или, как минимум, значительно лучше, чем прежняя «универсальная» лошадь.
Также, я думаю, случится и с литературой в грядущую «постписьменную» эпоху. Все те различные творческие потребности человека, которые сегодня удовлетворяются единым путем написания и опубликования литературных текстов, в новую эпоху будут удовлетворяться другими, причем несколькими и различными способами. Место традиционной письменной литературы займут такие творческие практики, которые в настоящее время еще не существуют, либо считаются внелитературными или «паралитературными». И первое, что здесь кажется очевидным, пути прозы и поэзии, ранее на некоторое время искусственно объединенные понятием «книги» и «публикации», вновь и окончательно разойдутся.
Для того чтобы представить себе, что ждет в будущем литературу как вид искусства (более точно – художественную литературу, fiction), следует, прежде всего, разобраться в том, какую функцию она выполняет по отношению ко всем тем «лицам», с которыми связано, и которыми определяется ее существование. Иными словами, зачем пишет писатель, зачем читает читатель и зачем издает издатель. (Критиков, кураторов окололитературных мероприятий и прочих персонажей этого ряда в данном случае можно смело вынести за рамки рассмотрения как явления второго порядка малости.)
Поведению и намерениям читателей и издателей мы достаточно много времени посвятили в первой части. Как выяснилось, тенденция здесь волне определенная – читают и будут читать письменные тексты все меньше; издают пока неплохо, однако в какой-то момент (и достаточно резко) издавать практически перестанут, поскольку это станет просто нецелесообразно с точки зрения бизнеса. Таким образом, в рядах тех, кому все еще нужно, чтобы литературные звезды зажигали, остаются только писатели. Вот мы и попробуем далее разобраться, зачем нужна литература писателям, и так ли она им нужна на самом деле.
Зачем пишет писатель? Задайте писателям этот вопрос (как-то я уже проделывал этот эксперимент, результаты его многие помнят:)), и в 90 % случаев вы услышите в ответ ничего не значащую пафосную фразу «Пишу, потому что не могу не писать!», которая на самом деле означает либо «Я так привык», либо «Я все равно больше ничего не умею». Также популярны псевдо-циничные ответы типа «Пишу ради денег» и кокетливо-гендерные типа «Стал писателем, чтобы привлекать внимание противоположного (вариант – своего) пола». Все эти ответы по очевидным причинам не относятся к теме обсуждения специфических функций литературы. Для того чтобы зарабатывать деньги или добиваться внимания потенциальных сексуальных партнеров, вовсе не обязательно что-то писать – это можно делать и множеством других, причем гораздо более эффективных способов. Так почему же писатель именно пишет? Из всего множества ответов, которые я некогда выслушал и записал, лишь два представляются мне действительно ответами по существу вопроса (разумеется, в формулировках возможны вариации). Один: «Я хочу что-то сказать людям» (вариант: «Я люблю рассказывать истории»). Другой: «Я пишу для себя. Так я выговариваюсь, решаю свои внутренние проблемы».
На первый взгляд, кажется, что утверждения «Я хочу что-то сказать людям» и «Я люблю рассказывать истории» – это два разных ответа, соответствующих двум различным типам писателей. Первая формулировка означает: у меня есть определенные идеи и представления, я хочу убедить людей в их истинности, в конце концов, я хочу изменить мир! Вторая подразумевает существенно меньшую претензию, а именно: мне интересно наблюдать за людьми (варианты – я много пережил, много повидал, знаком со многими интересными людьми, прожил длинную жизнь и т. д.), у меня в запасе множество историй, и я хотел бы поделиться ими с другими людьми. Объединяет эти два подхода, в первую очередь, то, что это экстравертные мотивировки. Для писателя-экстраверта создаваемый им литературный текст – средство коммуникации, способ связаться с другими людьми и донести до них свои истории или свои взгляды. Второй момент, объединяющий эти ответы, заключается в том, что ведь и тот писатель, который хочет распространять свои идеи и изменять мир, тоже вынужден делать это, рассказывая истории. Яркий пример такого рода – Лев Толстой. Толстовские проповеди в чистом виде способны читать разве что собственно толстовцы. Однако когда они обличены в форму «Войны и мира», «Анны Карениной» или «Воскресения», их становится способно с интересом прочитать и воспринять существенно большее множество культурных людей, и в такой обертке толстовская проповедь становится действительно всемирной. Людям в большинстве своем интересно «читать истории», да еще и не просто истории, а истории, написанные хорошим языком, с захватывающим сюжетом, живыми персонажами, волнующими проблемами. Под таким «соусом» они вполне готовы воспринять и немного абстрактных истин. Количество же тех, кто готов усваивать те же истины в виде сухого экстракта моральных, философских или научных статей, ныне, как и всегда, крайне невелико. Почему природа человека такова – не предмет нашего сегодняшнего обсуждения. Просто примем это в качестве аксиомы и двинемся дальше.
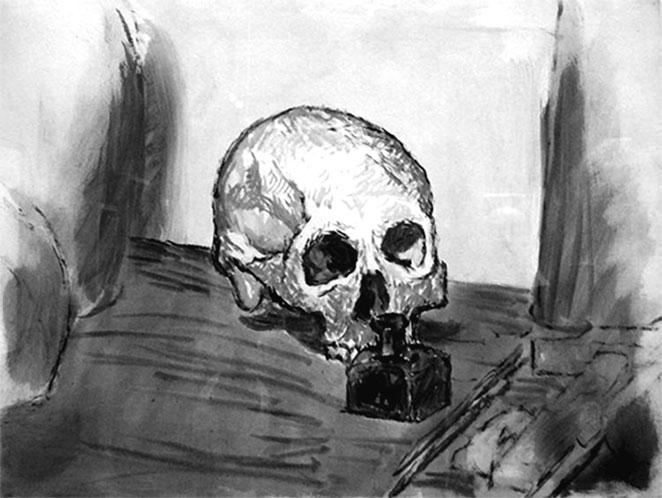
Череп, чернильница и молоток. Пабло Пикассо
Итак, для писателя-экстраверта важен читатель. Воздействие на читателя – цель его занятий литературой. Более того, читатель ему нужен предельно массовый. Писатель-экстраверт всегда мечтает написать бестселлер. Не потому (не только потому), что он так любит славу и известность, а потому, что таким способом его слова достигнут максимально возможного количества умов и сердец. Писатель-экстраверт никогда не откажется от экранизации своего бестселлера – ведь так его мысли и чувства узнают еще большее количество людей (зрителей-то в нашем мире заведомо больше, чем читателей, да и кинореклама куда назойливее и всеохватнее, нежели реклама книжная). Иногда, конечно, писатель-экстраверт не без оснований опасается того, что в ходе экранизации режиссер и продюсер могут существенно «извратить» произведение: изменить развязку, выкинуть важные смысловые и сюжетные линии, выхолостить мораль и т. д. и т. п. Но это опасение никогда не перерастает в фобию и не препятствует последующим возможным попыткам экранизации. А уж если бы писатель-экстраверт мог сам руководить экранизацией своих произведений – это был бы истинный предел его мечтаний.
Отсюда следует два важных вывода касательно описанного подвида писателей. Первый: если в какой-то момент читательская аудитория резко схлопнется, а книги принципиально перестанут издавать существенными тиражами, писатели-экстраверты в тот же миг перестанут заниматься традиционной литературой (в смысле «создания художественных текстов, предназначенных для прочтения»). Они скорее будут писать сценарии для кино и театра. Потому что придуманные ими истории и созданные ими смыслы должны доходить до других людей. И второй вывод: если бы писатели этой категории вдруг смогли без экономических и прочих проблем в любом количестве сами снимать кино по собственным сценариям, они предпочли бы это занятие написанию текстов, поскольку как коммуникативное искусство, как медиа кино в наши дни дает литературе сто очков вперед: кино ведь смотрит гораздо большее количество народу, нежели читает художественную прозу. А в перспективе, как мы уже видели, этот разрыв станет и вовсе непреодолимым. В этих условиях писатель-экстраверт просто не сможет добиваться своих коммуникативных или пропагандистских целей прежними средствами, и потому предпочтет скорее перестать писать, нежели перестать сочинять истории для людей. Функция сохранится, пережив и преодолев прежние (литературно-текстовые) средства.
Вероятно, на этом месте внимательный читатель данных заметок поспешит поймать меня на слове и строго спросить: «Если ваши рассуждения верны, почему же до сих пор мы не наблюдаем столь массовой переквалификации писателей в кинодеятели?» Верно, не наблюдаем, отвечу я. И тому есть целых три серьезных причины.
Рассмотрим следующую аналогию. Почему типичный средний бард (пардон, автор-исполнитель) всегда сам, явно не бог весть как, играет свои песни на гитаре и поет их собственным, очень средним голосом с невнятной дикцией и невеликим диапазоном? Неужели он считает их недостаточно хорошими для серьезного исполнения – с ансамблем или оркестром, с профессиональным вокалом? Если отвлечься от традиций жанра и сопутствующих сентиментальных комментариев типа «так песни звучат душевнее», ответ здесь заключается в трех основных причинах. Во-первых, откуда у него деньги на оркестр, певцов и студию? Иными словами, первая причина – экономическая. Во-вторых, если он отдаст свою песню какому-нибудь профессиональному певцу, и она вдруг станет популярна, то вся слава достанется этому певцу, а об авторе песни никто и не вспомнит, его имя нигде не прозвучит, поскольку так устроен современный шоу бизнес. Назовем эту причину честно – стремлением к личной известности и популярности. И наконец, в-третьих, сделав свою песню, первоначально всецело являвшуюся плодом его личного индивидуального творчества, предметом творчества коллективного, автор полностью теряет контроль над процессом. Аранжировщик самовыразился, дирижер самовыразился, музыканты и певцы самовыразились – глядишь, от первоначального замысла остались рожки да ножки. Кого это устроит? Кого-то и устроит, но далеко не всех. Таким образом, третья причина «самостийности и незалежности» автора-исполнителя заключается в том, что автор хочет творить сам, а не в команде. Пусть даже результат получится объективно хуже, зато на 100 % творение мое. Позиция ясная и заслуживающая всяческого уважения.
Совершенно также обстоит дело и с литературным творчеством. По очевидным экономическим причинам никто не станет экранизировать все книги, которые ныне пишет все большее количество писателей. Вторая причина тоже понятна. Вот сняли «Турецкий гамбит» и «Статского советника», а слава досталась вовсе не Акунину, и даже не режиссерам, а почему-то в основном актерам. Хотя почему это «почему-то»? Актеров зритель видит, они даны ему в непосредственном ощущении, а режиссер и сценарист – они за кадром, скорее подразумеваются, чем воспринимаются. Вот и все объяснение. Правда, Лукьяненко после «Ночного дозора» поимел-таки славу русского фантаста номер один, но это скорее исключение, подтверждающее правило. В общем, кино явно отбирает возможную славу у писателя, и тем более – на 100 % – у сценариста, и щедро перераспределяет ее по оси «режиссер – актеры». Наконец, как мы уже говорили выше, писатель в еще большей степени (по сравнению с автором-исполнителем песен) привык единолично контролировать и творческий процесс, и творческий результат. Писатель сочиняет свой мир. Он один знает, как выглядят в этом мире герои, здания, машины, деревья и все остальное. Он один знает, как его герои разговаривают, какие у них голоса, как они ходят, как спят, как пьют чай. В этом мире писатель – полноправный и единоличный демиург. Расстаться с такой властью или даже поделиться ей, пустить на свою законную территорию каких-то продюсеров, режиссеров, актеров, художников по костюму и декораторов, да еще бог знает кого – всю киногруппу! – вряд ли захочется даже под угрозой тотального падения тиражей. Так что даже если каким-то чудом удастся разрешить первые две проблемы, писатель никогда не поступится своим интеллектуальным статусом единоличного творца. Киношники могут сколько угодно смеяться над «кустарями одиночками без мотора», но, как ни крути, писатель – единственный из всех «деятелей искусств», кто способен создавать столь объемные иллюзии в одиночку. В этом смысле (КПД = количество затраченных денег и человеческих усилий, деленное на произведенный эффект) литература – наиболее экономичное и наиболее мощное из всех искусств. Кто же от такого добровольно откажется?!
– Тогда к чему были все предыдущие рассуждения? – резонно спросите вы. И в ответ я сперва привлеку ваше внимание к слову «добровольно», а затем вновь напомню, что эффективность литературы сохраняется лишь до тех пор, пока значительное число людей не только пишет, но и читает книги. А если книги читать и издавать перестанут? То-то. Вот тогда и состоится окончательная миграция писателей в сценаристы. Да что там миграция. Это будет исход. Горестный, со стенаниями о золотом веке и земле обетованной, которые приходится оставлять позади. Где вы – независимость, слава и статус Творца в собственном выдуманном мире? Остались в прошлом вместе с гордым именем «Писатель». Другие будут отныне рассказывать (точнее, показывать) человечеству истории и навевать/ развеивать сон золотой.
Не правда ли, печальная картина. Между тем, наш предыдущий анализ показывает, что она подготовлена всем предшествующим ходом истории, и избежать ее позволило бы разве что чудо. И то еще непонятно – какое такое чудо могло бы спасти умирающую писательскую профессию. В самом деле, представим себе, что к отчаявшемуся писателю-экстраверту эпохи победившего мультимедиа вдруг явился… ну, допустим, Старик Хоттабыч и предложил бы исполнить его самое глубинное желание. Чего бы попросил этот гипотетический писатель для себя и своих собратьев по отслужившему свой век перу? «Дорогой Хоттабыч, – взмолился бы, я думаю, он. – Посрами проклятых киношников. Сделай так, чтобы мы сами могли снимать фильмы – не затратив ни копейки, без помощи режиссеров и актеров, и за тот же срок, за какой обычно пишем книги!» Конечно, Хоттабыч только рассмеялся бы ему в ответ. Но совсем не по той причине, по какой вы думаете. «О, несчастный отсталый гуманитарий, – сказал бы ему мудрый джинн. – То, о чем ты просишь, и так уже возможно благодаря вашим современным технологиям, без всяких чудес и заклинаний. Лучше я сохраню волос в моей драгоценной бороде для кого-нибудь, кто больше нуждается в моей помощи!»
Конечно, речь идет о будущем. Но особо расслабляться не стоит, поскольку будущее-то это не такое уж отдаленное и фантастическое, а скорее как раз наоборот – весьма вероятное и достаточно близкое. Уже не как литературный критик-любитель, а как специалист в области анализа изображений, компьютерной графики и систем виртуальной реальности я со всей ответственностью заявляю: в течение ближайших 10–20 лет на рынке появятся программы-генераторы виртуальной реальности, при помощи которых любой человек на своем домашнем персональном компьютере сможет самостоятельно снимать полнометражные цифровые виртуальные фильмы, причем качество анимации и визуализации виртуальных персонажей будет сопоставимо с игрой реальных актеров и к качеством реальных киносъемок. Как это будет выглядеть? Примерно как в современных компьютерных играх и программах 3D-анимации. Вы выбираете из библиотеки трехмерных образов необходимый пейзаж или набираете из готовых элементов интерьер помещения, в котором будет происходить будущее действие. Расставляете внутри подготовленной сцены персонажей, формируете их внешность (лица – при помощи фоторобота или на основе реальных фотографий, фигуры – из набора параметрически настраиваемых типовых трехмерных «кукол»), выбираете подходящую одежду, настраиваете особенности движения, определяете траектории и хронометраж перемещений и т. д. и т. п. Если чувствует в себе пластические таланты, можете даже, одевшись в специальный сенсорный костюм, пройтись «в кадре» за одного или двух, да хоть за всех персонажей – компьютер зарегистрирует ваши передвижения и заставит анимированных героев воспроизвести их в точности, вплоть до мельчайшего жеста. Затем расставляете «виртуальные камеры» и «виртуальные софиты», определяете траектории движения камер, «наезды» и «удаления» виртуального объектива, запускаете все это великолепие на счет (процесс генерации фильма называется «рендеринг»), и через некоторое время уже смотрите видеофрагменты, которые «снял» (сгенерировал) для вас компьютер с точки зрения каждой камеры. Если что-то не понравилось – меняете все, что хотите, и делаете новый «дубль» – и так до тех пор, пока ваше творческое эго не будет удовлетворено. Потом, используя монтажные программы, которые вполне доступны на персоналках и сейчас, эпизод за эпизодом монтируете свой фильм, добавляете специальные видеоэффекты, титры… Вот только озвучивать каждого персонажа вам придется самому. Для этого, сидя перед снабженной микрофоном веб-камерой и глядя на экран, на котором прокручивается соответствующий эпизод вашего виртуального фильма, вы должны будете в нужные моменты произносить необходимые реплики. При этом программа анализа видеоизображения автоматически распознает вашу мимику и синхронно перенесет ее на лицо выбранного персонажа, а программа обработки звука придаст записи вашего голоса необходимый (выбранный вами для этого персонажа) тембр. Вуаля, фильм готов!
Можете сомневаться сколько угодно, но мне кажется, я все-таки обязан донести до вас эту информацию, чтобы вы знали, чего следует ожидать: технически это вполне возможно. Более того, это возможно уже сегодня! Только, во-первых, пока еще очень дорого и доступно разве что кинокомпаниям (правда, уже не только крупным, но и достаточно мелким). А во-вторых, качество создаваемого изображения пока еще не является настолько натуральным, чтобы можно было обмануться и принять симуляцию за живого человека. Кто смотрел, скажем, «Небесный капитан», меня поймет. Но ведь мы говорим про ближайшее будущее. А в современном мире 10–20 лет технического прогресса – все равно что столетия в прежние века. Вспомните. Кто бы мог в 1975-м году поверить, что компьютеры, эти громоздкие и дорогостоящие махины, станут маленькими, дешевыми, персональными и окажутся у каждого из нас на столе? И произойдет это не в 2095-м, а все в те же ближайшие 10–20 лет, не позднее 1995-го! А мобильные телефоны? В начале девяностых мобильный телефон был размером с бутылку, весил примерно столько же, стоил как «Жигули», принимал только в городе, да и то не везде, встречался крайне редко и служил предметом гордости малочисленной новоявленной элиты. Прошло десять лет, и сотовый телефон стал также дешев, миниатюрен и распространен, как обычные наручные часы. Стоит ли продолжать перечисление примеров? Технический прогресс действует именно так: то, что сегодня в научной лаборатории, завтра окажется в опытном производстве; то, что сегодня громоздко, дорого, недоступно и существует в единичных экземплярах – завтра обязательно станет миниатюрным копеечным предметом массового потребления. Было бы желание.
А желание – и здесь мы снова возвращаемся к теме будущего литературы и писательского ремесла – желание обязательно появится! Представьте себе те обширные легионы писателей, число которых, как мы уже выяснили, перед закатом книгоиздания будет все увеличиваться, и которые после резкого и неизбежного схлопывания книжного рынка вдруг разом останутся не у дел. Думаете, они откажутся попробовать свои силы в создании нового вида искусства – то ли «визуальных книг», то ли «литературных мультфильмов», а со временем – все более и более реалистичной виртуально-литературной продукции? Вряд ли. Они ведь по-прежнему останутся сочинителями, рассказчиками историй, полноправными единоличными творцами. Только теперь у них будет больше шансов достучаться до избалованной мультимедийными зрелищами аудитории.
– Допустим, – скажет все тот же критически настроенный читатель, – молодежь (которая и сейчас-то уже не особо читает, да и пишет все меньше), может, и увлечется подобными новациями. Нынешнее поколение, овладевшее компьютерной премудростью едва ли не с пеленок, вероятно, и с такой техникой, как вы описали, тоже сладит без проблем. Но как быть с писателями более старшего возраста? Неужели у них в эту грядущую эпоху останется один путь – на кладбище литературных мастодонтов? Как-то не по-людски получается…
Что можно ответить на подобное замечание? Увы, никто не обещал, что прогресс будет гуманен и обходителен. Спросите у шорников и машинисток, был ли он гуманен по отношению к ним. И все же мне кажется, судьба «не освоивших виртуальность» писателей не будет столь уж печальна. Никто ведь не отменял такой профессии как литературный секретарь. Не секрет, что и сегодня, в эпоху, когда и машинисток-то не осталось, и казалось бы, все худо-бедно умеют печатать, многие писатели все еще по старинке записывают свои тексты от руки на бумаге, после чего специально обученные люди все это исправно перепечатывают. Некоторые мэтры даже не утруждают себя бумагомаранием. Они просто надиктовывают свои тексты – либо непосредственно секретарю, либо на диктофон, и затем все это опять же кто-то переводит в печатную форму. Аналогичным образом, компьютерно подкованный литературный секретарь грядущей эпохи сможет воплотить на экране все коллизии, причуды и фантазии, которые только сможет вообразить себе его литературный патрон. Заметим попутно любопытный момент, связанный с институтом литературных секретарей.
Почему-то их присутствие никак не ущемляет сознания писателя в его литературном самодержавии. Литературный секретарь не создает у писателя давящего ощущения «команды». Это бесправный раб. Марионетка, лишенная собственной воли. Вторые руки писателя – не более того (сами секретари так, естественно не думают, но благоразумно помалкивают). Поэтому присутствие литературного секретаря тире специалиста по технологиям трехмерной анимации – вполне возможная и даже, вероятно, почти необходимая деталь существования «нового писателя» в постписьменную эпоху. Более того, я думаю, со временем, те, кто способен только сочинять, но не исполнять на компьютере свои «виртуальные пьесы», станут относиться к тем, кто это может и потому не нуждается в услугах литературного секретаря, немного снисходительно и даже слегка презрительно. Автор-исполнитель, скажут они, ну, что с него возьмешь. Жалкий любитель. Графоман… Впрочем, это уже не относится к теме данной статьи.
Итак, я сформулировал свой прогноз. Все, кто пишет для публики, кому не безразлично число читателей и слушателей – все они в наступающую постписьменную эпоху превратятся в жрецов нового искусства, сочетающего элементы литературы, театра и кинематографа на базе компьютерных технологий виртуальной реальности. Как будет называться это новое искусство – «виртуатура» или «литератограф» – не суть важно. И дело даже не в том, что письменный текст, стиль изложения перестанет играть в нем решающую самоценную роль. Самое главное – изменится сам процесс сочинительства. Виртуальное моделирование неминуемо сделает его более похожим на постановку пьесы или фильма. Гораздо большее значение приобретет визуальная картинка, пластический ряд, который уже нельзя проигнорировать, оставаясь только на уровне диалогов и закадрового текста. В общем, готовьтесь увидеть нечто!
Будет ли это новое искусство «лучше» или «хуже» прежнего? Не берусь судить. Думаю, оно будет просто другим. Поживем-увидим. А в том, что мы с вами, уважаемый читатель, обязательно застанем описываемые времена, лично у меня нет никаких сомнений.
– Постойте, неужели это все! Хорошо, все «литературные мессии» и «рассказчики историй» переквалифицируются в создателей «виртуальных историй». Но ведь помимо них есть и другие писатели! Те, кто пишет для себя, кому не важна реакция публики. Они-то будут продолжать писать и после того, как наступит ваша пресловутая «постписьменная эпоха».
Конечно, это еще не все. И действительно, помимо писателей-экстравертов, есть и большой отряд писателей-интровертов, для которых писательство – на самом деле способ решения собственных, внутренних задач, часто – вопрос личностного и физического выживания, упорядочения и осмысления жизненного опыта и так далее. Спорить с этим трудно. Формат личного дневника, исповеди, блога, отчета на кушетке психоаналитика – неистребим. И более того – востребован. Коротко говоря, потому, что писатели-экстраверты, «рассказчики историй» показывают нам внешний мир таким, каким мы могли бы его увидеть, оказавшись на их месте, но оставаясь при этом собой, а писатели-интроверты, «психоблоггеры» передают, транслируют нам то, что у них внутри, причем в таком именно виде, в каком мы воспринимали бы это, не просто оказавшись на их месте, но непосредственно став ими. Это становится возможным потому, что, как я уже отмечал в первой части статьи, звучащее слово это именно та модальность, которую человек использует в процессе своего мышления. Когда человек думает, он слышит свой «внутренний голос», который «проговаривает мысли». Аналогичный «внутренний голос» слышит и читатель, когда он «про себя» читает книгу. И в этот момент, если он читает не описание окружающего пейзажа, а, к примеру, бурную исповедь или печальные размышления героя книги, написанные от первого лица, то на бессознательном уровне читателю кажется, что это он сам в данный момент так думает. Ведь внутренний голос звучит? Звучит! Отсюда и та поразительная способность вызывать сопереживание и эмпатию даже к заведомо отрицательным персонажам, которая столь свойственна художественной литературе и не присуща более ни одному другому виду искусства (во всяком случае, в столь концентрированном виде).
Что же случится с этой, «исповедальной» ветвью литературы в обсуждаемую нами постписьменную эпоху, когда число потенциальных читателей художественных письменных текстов вдруг неожиданно станет исчезающее мало? Как уже отмечалось выше, самим писателям-интровертам обычно совершенно безразлично, будут ли их произведения опубликованы, и станут ли они широко известны. Писатель-интроверт решает собственные сугубо внутренние задачи. Однако если в итоге такой писатель окажется до конца последователен, и его текст так и не будет нигде опубликован, он, следовательно, так и не станет действительным фактом литературы. Потому что обсуждаемыми фактами – и литературы, и искусства вообще – становятся только такие произведения, которые по воле автора становятся публичными, доступными для ознакомления и восприятия. И в этом смысле их опубликование («делание публичным») в какой бы то ни было форме – необходимо. Получается, даже писатель-интроверт не может игнорировать тот факт, что каким-то образом, рано или поздно его текст, его монолог должен будет хоть как-то дойти до читателя. А если читатели перестали читать? Тогда для публикации «внутреннего монолога» остается единственная адекватная форма – звучащее слово, записанное и распространяемое в цифровом виде. Более того, если вдуматься, эта форма даже более адекватна для сохранения личных переживаний, чем привычная нам форма «собственноручно записанной исповеди».
Во-первых, для внутреннего монолога очень важна скорость записи. Чтобы символьная запись не мешала потоку мысли, нужно владеть навыками стенографии (вспомните, часто ли вам удавалось в институте записать за профессором все, что он говорил на лекции:)) В то же время, наговаривать свои мысли на диктофон или в микрофон компьютера – самое простое и обыденное дело. Во-вторых, в аудиозаписи остаются живые интонации, паузы и другие приметы «естественной речи», иногда столь важные для установления душевного контакта со слушателем (который часто не устанавливается между читателем и печатным текстом именно в силу его книжной «официозности»). В-третьих, в настоящее время аудиозаписи столь же легко сохранять, распространять и воспроизводить, как и письменные тексты. Собственно, именно из-за невозможности сохранять и воспроизводить живую речь, европейская культура некогда ушла от устной традиции к письменному общению, в том числе, и в литературе. Нынешний виток технического прогресса вернул нам возможность полноправного существования литературы и в устной форме. И наконец, предоставляемые современными компьютерами возможности редактирования, изменения структуры, правки и всевозможной другой работы со звучащими текстами уже сейчас ничуть не слабее, чем аналогичные средства для редактирования печатных текстов. Не сомневаюсь, что с наступлением постписьменной эпохи появятся и специализированные редакторы звучащих текстов, по сравнению с которыми нынешний Word покажется детской игрушкой.
Итак, мой следующий прогноз: я уверен, что естественной формой существования «интровертной», доверительной литературы в постписьменную эпоху станет аудиозапись живой авторской речи.
Вы скажете, что же здесь нового? Аудиокниги и так уже во всех магазинах. Скоро их продажи превысят печатные тиражи. – Вот и отлично, замечу я. Это есть безусловный признак скорого наступления постписьменной эпохи. И все-таки пока это еще не совсем то, о чем я говорю. Пока что аудиокниги – это инсценировки, актерское прочтение текстов, которые все-таки предназначены были для чтения глазами с листа. По-настоящему интересное здесь начнется, когда аудиокнига станет самостоятельным жанром. Когда сочинители станут сочинять тексты специально для аудио прослушивания. Пожалуй, первой ласточкой этого возникающего на наших глазах аудио-литературного жанра является то, что делает в театре, на радио и телевидении Евгений Гришковец. Но все же и это пока еще только переходные формы, нечто межеумочное, не освободившееся до конца от исходной своей и явно «письменной» литературности.
Вы спросите, в чем здесь разница – предназначен текст изначально для чтения с листа или сразу для аудио прослушивания – разве это не будет по сути точно такой же текст? Мне кажется, это не совсем так. Дело в совершенно иной пропускной способности слухового канала восприятия по сравнению со зрительным. Когда тренированный читатель читает глазами с листа напечатанный текст, он, во-первых, читает существенно быстрее, чем может воспринимать ту же самую по содержанию речь на слух, и, во-вторых, способен запомнить и «держать в оперативной памяти» существенно больший объем только что прочитанного текста. Это позволяет литературному стилю письменных художественных текстов, предназначенных для чтения «с листа», допускать такие вольности, какие никогда не могла бы позволить себе речь устная. Например, предложения длиной в полстраницы, специально затрудненную грамматику, вычурную лексику и так далее, и так далее. Попробуйте воспринять на слух несколько страниц, скажем, из Толстого, Джойса, Дюрренматта, и вы поймете, о чем я говорю.
Не то, чтобы законы правильного построения речи для восприятия на слух были до сих пор неизвестны: Заставь аудиторию полюбить или возненавидеть тебя. Возбуди эмоцию, она освежит восприятие. Говори простыми словами и простыми предложениями. Строй свою речь логично. Повторяй несколько раз то, что ты считаешь самым важным и хочешь, чтобы слушатели запомнили… Эти и другие законы риторики знали еще древние греки. Придумали ее, видимо, софисты, а первую известную письменную «Риторику» написал Аристотель. На протяжении веков риторика была стержнем европейской культуры. Сначала – в лоне античной состязательной юриспруденции и политики, затем – как церковное искусство общения с неграмотной паствой. Примат письменности в XIX–XX веках оттеснил риторику на задворки, литература и вовсе забыла о ней напрочь. Риторические приемы в художественной речи стали считаться моветоном. Что ж, похоже, пришло время нового синтеза, возвращения к истокам. Грядущая аудиолитература будет неминуемо риторичной, хотим мы этого или нет. Писателям придется становиться хорошими рассказчиками, иначе ничто из сказанного не будет понято и тем более запомнено слушателями.
Впрочем, может быть, кому-то как раз интереснее слушать бессвязный, почти бессмысленный, зато предельно эмоциональный монолог, переполненный выкриками, стонами, паузами, вздохами. Правда, согласитесь, это уже вообще не особо похоже на прозу. Скорее это некий спектакль или даже… стихи?
А ведь действительно! Мы чуть не забыли о том, что помимо литераторов-прозаиков, о которых в основном шла речь в этом разделе, на свете есть еще и поэты. Поэзия – отдельный огромный мир, полноправная часть литературы, не имеющая с прозой почти ничего общего, кроме того, что и то и другое может быть (с различной степенью потери информации!) записано буквами на бумаге. При этом проза-то как раз передается на бумаге почти адекватно, чего, увы, не скажешь о стихах. В эпоху печатной книги (и, не будем забывать, регулярной почты, а также текстового Интернета) былая синкретичность поэзии – ее живой звук, ее ритм, ее дыхание, ее музыка, ее перформанс – были принесены в жертву типографскому станку, и поэзия оказалась низведена до «текста, записанного в столбик». В постписьменную эпоху, о которой идет речь, когда «рассказывание историй» превратится в их «показывание», поэзия вряд ли пойдет по тому же пути. Прежде всего, потому что поэзия не рассказывает историй. Во всяком случае, это не основное и не единственное ее назначение. Вы спросите, что же тогда будет с поэзией, освобожденной от власти печатных букв? Читайте третью часть этой статьи.
Часть 3. Назад в будущее, или О былом и грядущем синкретическом интерактиве
История, как известно, движется по спирали. И для того, чтобы попытаться набросать черты гипотетической поэзии будущего, нам сперва придется отправиться к истокам нашей культуры, в те времена, когда она была еще едина и не разделена на всевозможные виды, роды и жанры. (Не стану утверждать, что «синкретическая» теория зарождения культуры является на 100 % общепризнанной и единственной рассматриваемой ныне соответствующими научными сообществами, но до сих пор ничего более убедительного, насколько я знаю, не предложено, так что будем отталкиваться от этой модели.)
Итак, некогда все было едино. Камлание древнего шамана – это одновременно и религиозный акт, и акт искусства, и научно-прикладная практика (направленная на вызывание дождя, обретение удачи в охоте или что-то еще, столь же жизненно конкретное, ощутимое и проверяемое опытным путем). Далее, если отвлечься от религиозных и научных аспектов и рассматривать первобытные культурные практики исключительно с точки зрения искусства, то и здесь мы обнаружим поразительное и произвольное смешение всего того, что в будущем станет составлять, казалось бы, несоединимые его (искусства) виды. Как нам теперь представляется в ретроспективе, в древнейшем синкретическом действе вполне успешно сосуществовали:
– живопись и скульптура (наскальные рисунки, на фоне которых происходил шаманский перформанс, ритуальные маски, фигурки и «муляжи» животных, тотемные столбы, etc.),
– музыка (ритмичное топанье и хлопанье присутствующих, стук там-тамов, треск трещоток, свист дудок, и бог знает еще какие жуткие звуки:)),
– танец (по ходу действа почти непрерывно топтались, кружились, прыгали и извивались не только сам шаман, но и все остальные участники),
– пение (как сольное, включающее протяжные звукоподражательные элементы, так и хоровое),
– поэзия-речитатив (ритмичная речь, наполненная первобытной звукописью созвучий и первичной же образностью простых уподоблений),
– проза-повествование (все доступное племени знание – от мифологии до истории рода – передавалось, разыгрывалось, «размножалось» и сохранялось в ходе подобных представлений).
Нельзя не отметить, что по силе воздействия на участника такая первобытная мистерия безусловно превосходила любой вид современного искусства. Прежде всего, потому что «забирала» человека целиком, задействовала разом все его чувства (включая и такие, на которые мы пока технически воздействовать не умеем, а соответственно и искусства, воздействующие на них, у себя не развили, или развили, но не считаем их за искусства).
Когда говорят о традиционных «пяти чувствах», обычно перечисляют зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Легко заметить, что современные виды искусства, распространенные в западной культуре, задействуют в основном первые две модальности из перечисленных пяти. Искусство ароматизации, некогда развитое на Востоке (и кстати также входившее в первобытно-синкретические действа у огня, в который периодически бросали различные пахучие добавки), почти сошло на нет в нашу эпоху – в основном вследствие отсутствия технических средств для записи, передачи и воспроизведения запахов. (Впрочем, в последние годы в прессе то и дело появляются сообщения о создании не только экспериментальных, но и промышленных технологий такого рода, так что, возможно, в самое ближайшее время наши кинотеатры и телевизоры окажутся оборудованы еще и ароматическими приставками…) С осязанием, тактильными ощущениями, мы также не научились по-настоящему работать: нет техники, средств, нет и соответствующего искусства. Наконец, основанное на пятой модальности – вкусе – искусство кулинарии в том или ином виде присутствует во всех известных культурах, во многих из них (включая и современную западную) даже признается ныне за «искусство», но держится особняком и с остальными искусствами никогда не смешивается.
Казалось бы, картина ясна, и ничего нового здесь добавить уже не удастся. Однако не стоит забывать и о других человеческих чувствах, которые почему-то не вошли в классическую схему пяти модальностей. Конечно, я имею в виду не трансцендентное «шестое чувство», а другие, вполне физиологические способности к восприятию, которые, хотя и не пронумерованы, зато даны в ощущениях каждому из нас: боль, удовольствие, чувство равновесия, чувство времени, чувство тепла/холода, чувство движения, чувство ритма, чувство мышечного возбуждения, чувство сексуального возбуждения и ряд других. Не будем вдаваться в философские споры о том, какие человеческие способности к восприятию ощущений считать отдельными «чувствами», а какие нет. Ограничимся здесь чисто техническим определением, подразумевающим, что каждому отдельному «чувству» должен соответствовать отдельный воспринимающий орган («зрение это глаза», «слух это уши» и т. п.) В таком случае, все выше перечисленное – такие же полноправные «чувства». Например: как известно современной науке, боли и удовольствию соответствуют определенные центры в мозгу, за равновесие отвечает вестибулярный аппарат, за чувство тепла/холода – соответствующие рецепторы (рецепторы тоже считаются, иначе из традиционной схемы придется исключить вкус и обоняние!), и так далее, и так далее. Так вот, первобытное синкретическое искусство задействовало наряду с пресловутыми пятью «базовыми» чувствами и практически все перечисленные «дополнительные» модальности. Все те мало эстетичные с точки зрения современного «культурного» человека элементы бичеваний, прижиганий, прокалываний, приема наркотических препаратов, сексуальных оргий и т. п., которые практикуют «дикари» наряду с более приемлемыми и понятными цивилизованному обществу танцами, раскачиванием и распеванием ритмичных мантр – все это способы «давления» на дополнительные модальности человеческого восприятия, делающие первобытное искусство поистине всеобъемлющим в его воздействии на человека.
Как же обстоит дело с дополнительными модальностями восприятия в современном искусстве и современной культуре? Увы, почти никак. Боль, удовольствие и сексуальное возбуждение – полностью табуированы, ушли в подполье и произрастают лишь на запретной территории «порно»/БДСМ, которая и искусством не считается. «Эротическое искусство» вроде бы существует, но из опасения быть обвиненным в порнографии само себя заранее кастрирует и загоняет в такие рамки, где о сексуальных чувствах, пробуждаемых у зрителя, можно говорить разве что в гомеопатическом смысле. Наркотики, то есть средства прямого получения удовольствия, изменения сознания и создания фантомных ощущений – находятся под юридическим запретом. Мышечное возбуждение («адреналиновая модальность») и чувство равновесия задействуются в таких практиках как спорт (особенно экстремальный спорт) и (не удивляйтесь) детские аттракционы типа «американских горок». Стоит ли говорить, что видами искусства эти практики никак не считаются. Правда, существуют косвенные способы воздействия традиционных видов искусства на «адреналиновую модальность» – книги и фильмы ужаса («хоррор», «саспенс»), но по силе вызываемого эффекта их также вряд ли возможно рассматривать иначе как суррогат. Чувство тепла/холода реализуется в наши дни разве что в бане и сеансах моржевания (впрочем, для тех, кто понимает, настоящая русская баня – подлинное искусство!:)). И лишь только чувство движения и чувство ритма оказались в достаточной степени задействованы в массовой культуре наших дней – в виде танцевальной, клубной и дискотечной культуры. Впрочем, многие статусные ревнители «истинной культуры» склонны тотально исключать всю «массовую» и «популярную» культуру из сферы искусства, а равно и «культуры вообще». То есть, к примеру, танцы и музыка на дискотеке – «не культура», а, скажем, балет и классическая музыка – самая она. (Оставляю это утверждение без комментариев, иначе это увело бы нас слишком далеко от основной темы данной статьи.)
И здесь, сравнивая древнее синкретическое и нынешнее «цивилизованное» искусство, необходимо сделать следующие несколько замечаний.
Замечание первое: О сравнительной важности различных модальностей восприятия. Вероятно, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал хрестоматийное утверждение о том, что «90 % информации об окружающем мире человек получает при помощи зрения, а почти всю оставшуюся – при помощи слуха». Отсюда, естественно, делается вывод о том, что «важнейшим из искусств для нас является кино» (и в этом, как известно, современный Голливуд полностью согласен с почившим вождем мирового пролетариата).
Действительно, казалось бы, раз кино (а равно и телевидение) задействует одновременно зрение и слух воспринимающего субъекта, это дает ему более 95 % информации, следовательно – 95 % иллюзии реального восприятия, и остальными несколькими процентами можно с легкостью пренебречь. Однако такая «процентная» логика является как с психологической, так и физиологической точек зрения достаточно ущербной, и вот почему. Дело в том, что информацию об окружающем мире человек действительно в значительной степени получает через зрительный и слуховой каналы восприятия, но в общем объеме информации, с которой имеет дело, которую перерабатывает, и на которую откликается наш мозг, эта «внешняя» информация как минимум уравновешивается, а иногда и полностью вытесняется из круга внимания информацией о внутреннем состоянии, которая как раз и поступает по перечисленным выше «дополнительным» каналам чувственного восприятия. Думаю, никого не нужно убеждать в том, насколько мощнее действуют на нас, например, неожиданная резкая боль или сильное сексуальное возбуждение во время полового акта по сравнению с самым красочным изображением, которое в тот же момент поступает к нам по зрительному каналу, скажем, с экрана телевизора. Таким образом, нельзя не признать, что роль аудиовизуальной компоненты в искусстве и культуре наших дней является совершенно незаслуженно переоцененной, и в дальнейшем, видимо, следует ожидать непременного «реванша» подавленных «внутренних» модальностей и соответствующего выравнивания баланса в сторону все большего их задействования в различных видах искусства.
Замечание второе: Об активных и пассивных участниках «акта искусства». Это замечание, как мне представляется, почти автоматически следует из предыдущего, поскольку модель «активный творец – отчужденный (объективированный) предмет искусства – пассивно воспринимающий зритель (слушатель, читатель, ценитель – нужное подчеркнуть)», характерная для большинства «традиционных» видов западного искусства, считающихся сегодня «высоким» или «настоящим» искусством, как раз и подразумевает, что внутренние модальности воспринимающего субъекта никак не задействуются в процессе «восприятия искусства», и все воздействия поступают по «внешним» модальностям. Художник пишет картину – зритель ее смотрит; композитор сочиняет музыку, исполнитель ее исполняет – слушатель слушает; писатель пишет книгу – читатель ее читает; режиссер ставит пьесу, актеры ее играют – зрители опять же смотрят и слушают, сидя в зале и жуя покорн. Восприятие искусства в такой модели по определению пассивно, причем сразу с двух точек зрения. Во-первых, как уже отмечалось, читатель, зритель и слушатель не испытывают непосредственно ни боли, ни тепла, ни сексуальных, ни каких-либо других внутренних ощущений в процессе «восприятия искусства». (И если вы скажете, что вид Мерилин Монро в задуваемой ветром юбке – неоспоримый источник сексуальных ощущений, я буду вынужден возразить вам, что это ни в коей мере несравнимо с непосредственными ощущениями от сексуального акта, который совершается вами (или над вами:)) в процессе синкретической первобытной оргии-мистерии.) Во-вторых, здесь отсутствует обратная связь. Участник первобытных синкретических действ был именно участником – то есть был активен: танцевал, пел, топал, хлопал, протыкал иглами себя и соседей, прыгал сквозь огонь и толкал в огонь других… Иными словами, не только мог в любой момент вмешаться в ход действия, но просто постоянно участвовал в нем. Современный ценитель искусства лишен такой возможности. В опере слушатели не подпевают оперным примам. На балете – не танцуют вместе с балеринами. В кино – не дерутся вместе с героями боевика. О том, как в 1919 году неграмотный красноармеец «вдарил из винта» по исполнителю отрицательной роли Яго в театральной инсценировке шекспировского «Отелло», до сих пор рассказывают как о забавном и жутковатом курьезе. Никакого интерактива, то есть действительного (и действенного) отклика зрителя, его взаимодействия и соучастия классические виды искусства не предполагают. Мы даже перестали забрасывать негодных исполнителей тухлыми яйцами и помидорами. В крайнем случае, допускается их захлопать. Разве это обратная связь? Разве можно говорить о включенности зрителя (слушателя, читателя) в действие? Увы.
Любопытно, что массовая культура в XX веке продвинулась в направлении задействования «внутренних» чувств и обратной связи гораздо дальше культуры «высокой». С одной стороны, танцы, вопли, распивание напитков, ритмичное покачивание, размахивание всевозможной атрибутикой – норма поведения фанатов на концертах рок-звезд (которые без всего этого потеряли бы для тех же фанатов половину своей прелести). Можно, конечно, говорить о том, что фанаты ведут себя «бескультурно». А можно и оценить тот факт, что таким образом они включаются в действо и используют на полную катушку свои дополнительные модальности. С другой стороны, не только «творцы» массового искусства управляют «массой», но и «масса» управляет упомянутыми «творцами», причем весьма эффективно. Поскольку масскульт не стыдится своей коммерческой природы, то и обратная связь осуществляется через понятные и прозрачные рыночные механизмы: публика покупает или не покупает [диски, билеты, etc.]; песни, фильмы и передачи либо имеют сборы и рейтинги, либо не имеют их и вследствие этого становятся «неуспешными», закрываются, исключаются из ротации, забываются…
Именно в области массовой культуры постоянно проходят какие-то соревнования, составляются «топы», «чарты», проходят бесконечные голосования и переголосования – причем с опорой именно на массового зрителя/слушателя. Необходимость выбирать и оценивать (хотя бы только для себя) – один из важнейших механизмов «включения» адресата в процесс активного восприятия. «Высокое» же искусство по определению считает себя выше публики. Оценивать «профессионалов от искусства» могут только другие такие же «профессионалы от искусства». Подключение публики не требуется. Она и не подключается.
Замечание третье: Об исторических тенденциях и «размерности» различных искусств. Как мы уже знаем, большинство курсов по истории искусства начинается с упоминания о первобытном синкретическом искусстве. Далее обычно следует вполне резонное соображение о том, что в ходе дальнейшего исторического и социального развития искусство стало «расслаиваться» на все более специализированные роды, виды и жанры. Эту тенденцию – специализации, разделения видов искусств по первичным модальностям чувств и далее, по субмодальностям внутри модальностей – трудно отрицать. Пение отделилось от танца, музыка от пения. Визуальные искусства отделились от аудиальных, мобильные от статичных. «Стихосложение», в свою очередь, также отделилось от пения (хотя во времена Гомера или, скажем, вещего Бояна, они еще были едины). Прозаическое сказание отделилось от поэтического, драма от эпоса, ответвилась лирика… Сегодня, когда этот процесс ветвления достиг, кажется, своего апогея, мы уже чуть ли не готовы считать отдельными искусствами «джаз», «рок» и «кантри», хотя все еще надеемся по привычке, что все это – «музыка»:). В литературе и поэзии также имеется множество жанров, поджанров и прочих всевозможных форм, в которых работает множество разнообразных «мастеров слова». Счет идет уже на десятки и сотни разновидностей.
Однако, согласитесь, нельзя игнорировать и вторую, собирательную тенденцию, которая начала проявляться, пожалуй, с конца XIX века и все явственнее набирает силу в наше время. Я даже не говорю о смешении и слиянии форм, жанров и поджанров, казавшихся незыблемыми некоторое время назад. Констатация этого явления стала общим местом в современных культурологических рассуждениях, хотя почему-то в господствующем дискурсе оно считается имеющим отношение исключительно к постмодернизму – то есть рассматривается как явление временное и преходящее, в рамках некоторой моды и культурной ситуации. Нет, я здесь имею в виду нечто более фундаментальное – тенденцию к ре-интеграции, то есть воссоединению модальностей искусства в поисках нового синкретического синтеза, подобного тому, что некогда существовал в первобытном прародителе и прототипе всякого нынешнего искусства.
Можно ли вообще говорить о «мономодальных» и «мультимодальных» искусствах (или хотя бы, как я писал выше, о моно– и мульти– медиа)? Конечно, попытка математического подсчета «размерности» искусства сразу вызывает ассоциацию со старым анекдотом о математике, которого друзья пригласили на концерт камерного трио, он пришел, но вскоре начал громко возмущаться: «Говорили, что будет k-мерная музыка, а здесь совершенно тривиальный случай – k равно трем!» И тем не менее, каждый вид искусства, хотим мы этого или не хотим, может быть охарактеризован неким вектором в многомерном пространстве модальностей искусства в зависимости от того, какие из наших чувств он затрагивает. Так, на первый взгляд не возникает сомнения, что музыка предназначена исключительно для слуха, живопись – исключительно для зрения. Их размерность (по базовым модальностям), видимо, должна быть «один». В то же время театр и кино, способные задействовать одновременно и зрение и слух, очевидно, имеют размерность «два». И так далее… Причем в случае современного кино речь идет именно о ре-интеграции двух искусств – немого кино (бывшего в начале своей карьеры скорее отраслью пантомимы) и звуковой пьесы. В кино вообще реинтегрировались многие разнородные составляющие искусства: изображение, цвет, звук как модальности; поэзия, проза, музыка, танец, драма как виды искусства. Это стало залогом феноменального успеха и распространения кино, практически вытеснившего на обочину культуры (и уж точно на обочину коммерции) остальные виды искусств, но, увы, не привело к дальнейшему повышению его «модальной размерности». Хотелось бы, например, сказать, что танцевальные мюзиклы задействовали еще одну размерность восприятия – движение – но это не так. Ведь танцуют-то не зрители, а актеры, которых зрители, неподвижно сидящие в зале, по-прежнему воспринимают только визуально.
Попробуем обобщить введенное выше понятие «модальной размерности», добавляя к базовым «внешним» модальностям дополнительные «внутренние», и посмотрим, что из этого получится на примере сравнения музыки и поэзии. (И это сравнение, наконец-то, подведет нас к ответу на основной вопрос заключительной части статьи, а именно – какое будущее ожидает поэзию в наступающую постписьменную эпоху.)
Итак, какова «размерность» музыки, и какова «размерность» поэзии? Прежде, чем делать окончательные выводы, следует вспомнить, что еще одной модальностью восприятия, несомненно, является всегда подразумеваемое, но редко учитываемое в подобных рассуждениях в качестве дополнительного измерения чувство смысла, то есть способность воспринимать некоторый семантический смысл, закодированный в колебаниях (неоднородностях) той или иной модальности. Наиболее простыми примерами задействования чувства (измерения) смысла являются, конечно, проза и поэзия. Словесные искусства по природе своей изначально апеллируют к чувству смысла, поскольку «понять, осознать, распознать» и означает для нас выразить словами. Впрочем, и предметная живопись, и сюжетный кинематограф также активно адресуются к нашему чувству смысла. В то же время, абстрактная живопись, музыка, современный балет и некоторые виды авангардной поэзии показывают, что возможны целые области искусства, никак не задействующие чувство смысла, и следовательно имеющие на одно модальное измерение меньше.
Заметим, кстати, что музыка, изначально лишенная смыслового измерения (бывает даже «песенная музыка» со «свернутым» смысловым измерением, когда тексты «не грузят», поскольку предельно просты или вообще на иностранном я зыке), зачастую используется в фоновом режиме, когда человек, вроде бы слушающий музыку, на самом деле сосредоточен на чем-то другом, чем он занимается параллельно в то же время (как-то – вождение автомобиля, рутинная работа, порой даже занятия другим видом искусства, например, рисованием). Та же поэзия, теоретически, также может слушаться в фоновом режиме, но вряд ли это основной режим восприятия, для которого она предназначена. В силу этого поэзии трудно соперничать с музыкой в современном радио эфире, нацеленном, прежде всего, на водителей, слушающих радио в дороге.
Однако, и это еще не все. Говоря о модальностях музыки и сравнивая ее с поэзией, нельзя не упомянуть о чувстве ритма. Музыка (теоретически) может быть лишена ритма и опираться только на созвучия (или, напротив, диссонансы – короче говоря, на изменения тона). Поэзия же, в свою очередь, есть, как минимум, ритмически организованная проза. Как широки и всеобъемлющи ни были бы современные определения поэзии, так или иначе, все они сходятся на том, что в поэтическом тексте всегда должны присутствовать некие дополнительные деления на временные (протяженные) промежутки (строки, строфы, фрагменты), не являющиеся непосредственно ни грамматическими, ни смысловыми, а значит – как средство структурирования текста во времени его чтения или прослушивания – являющиеся ритмическими. Впрочем, различие это все же скорее теоретическое, нежели практическое. «Типичная музыка» непременно включает в себя ритмическую модальность, а значит, и музыку нельзя считать «мономодальным искусством» – ее размерность «два». «Типичная поэзия», как правило, опирается одновременно на ритм, созвучия (рифмы, звукопись) и смысл (образы, сюжет) – то есть имеет модальность «три».
Таким образом, если сравнивать поэзию, воспринимаемую на слух, и музыку в ипостаси, скажем, пьесы для одноголосной свирели, размерность поэзии окажется больше – на измерение смысла. Но нельзя забывать о том, что музыка, в отличие от поэзии, способна на полифонию. Много голосов, много струн, много инструментов – и потому музыка совсем иначе, чем одинокий человеческий голос, заполняет время, имеет гораздо большую плотность и совсем иную структуру в рамках все той же, казалось бы, звуковой модальности. Возникает особое качество восприятия музыки – «плотность», «заполнение» – которое, хотя и нельзя считать специфической модальностью (и «одноголосая» поэзия ведь также определенным образом воспринимается во времени, правда, наряду с «заполнением» не в меньшей степени опирается и на «паузы», «тишину»), но все же как-то это качество нужно оценить. На свой математический вкус я бы говорил о восприятии полифонической музыки во времени в терминах фрактальной размерности, по аналогии с тем, как размерность сильно изрезанной и изломанной в любом масштабе береговой линии считается после Мандельброта равной не «1», а дробной – в диапазоне от «1» (размерность линии) до «2» (размерность плоскости). Конкретное значение фрактальной размерности определяется степенью пресловутой «плотности заполнения» плоскости. Также и модальную размерность музыки я бы определял в зависимости от степени «сложности» и заполнения времени звучания как дробно-фрактальную, в диапазоне от «2» до «3».
Наконец, чтобы окончательно все запутать, попробуем оценить модальную размерность поэзии, читаемой «глазами» с листа. В этом случае с самого начала задействуются одновременно две «базовые» модальности восприятия – визуальная (визуальный образ текста – с короткими или длинными строчками, делением на строфы, лесенкой и т. п.) и звуковая («внутренний голос» читающего, озвучивающий прочитанный текст со всей присущей ему звукописью) плюс две «дополнительные» – ритм (воспринимаемый со «звука» внутреннего голоса) и смысл (воспринимаемый здесь скорее с посредством визуального канала, хотя, если подумать…). Иными словами, вместо, казалось бы, классического мономедиа, перед нами предстает «4-медиа» как минимум. Во как!
Именно поэтому многие «профессиональные читатели», например, редактора издательств, привыкшие воспринимать стихи «с напечатанного», со временем почти перестают воспринимать стихи «со слуха» – они кажутся им пресными, плоскими, ведь тренированному редакторскому восприятию не хватает целого привычного измерения!
Вы спросите, к чему было это чересчур затянувшееся вступление. Зачем было начинать «от Адама» и вспоминать о первобытном искусстве? Зачем вычислять какие-то «модальные размерности» различных видов искусства? Зачем сравнивать размерность поэзии с размерностью музыки? Какое отношение все это имеет к грядущим метаморфозам прозы и поэзии в постписьменную эпоху?
Полагаю, что самое непосредственное. И чтобы более не тянуть кота за хвост, вот мое предсказание. Точнее говоря, сразу два предсказания – на ближайшее будущее и будущее чуть более отдаленное, но также ожидающее нас не за горами (скорее всего – до конца текущего столетия).
Прогноз 1: в ближайшие десятилетия поэзия окончательно отделится от прозы и, двигаясь по пути музыки, станет массовым полифоническим ритмо-смысло-аудио-визуальным искусством.
Прогноз 2: в более отдаленной перспективе и «видео-аудио-проза», и «аудио-видео-поэзия» вольются в состав двух новых тотально-синкретических интерактивных искусств, которые соответственно можно назвать «физическое моделирование» (в его состав войдут средства сюжетно-повествовательной прозы) и «метафизическое моделирование» (частью которого станут поэзия и «исповедальная» проза).
Первый прогноз не только очевиден, но и почти ненов. Во-первых, потому что уже начинает сбываться непосредственно у нас на глазах – кто не слышал о том, что все поэты вдруг бросились записывать видеоклипы на свои стихи? Во-вторых, потому что самое близкое к бесписьменной поэзии аудио-искусство – музыка – ранее уже пошла и продолжает все быстрее двигаться по этому пути. Под этим путем я понимаю стремление к достижению максимально возможной «модальной размерности» – как путем подключения и освоения добавочных модальностей восприятия, так и путем «плотного заполнения измерения» для создания эффекта дополнительной фрактальной размерности.
В самом деле, если взять за точку отсчета европейскую классическую музыку, мы обнаружим, с одной стороны, «моноискусство» почти в чистом виде (скажем, в виде скрипичных или фортепианных концертов). Ни смысловой составляющей, ни визуальной, ни даже ритмической там почти нет. (С ритмической составляющей – вообще удивительная история. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в классических музыкальных произведениях XVII–XIX веков практически нет того регулярного, гипнотически-навязчивого, обозначаемого ударной секцией ритма, который есть во всей современной музыке, начиная с джаза, и почему это отсутствие ритмического диктата столь удивительным образом совпало с расцветом европейской культуры? Не будем углубляться в эту тему, замечу лишь, что связь здесь есть, и прямая. Иногда мне даже немного жаль, что с начала XX века ритмическое измерение музыки неумолимо добавилось к мелодическому, и в дальнейшем его влияние только усиливалось.) С другой стороны искусственно «очищенная от примесей» классическая моно-музыка парадоксальным образом постоянно притягивала к себе такие модальности как «визуальная», «смысловая», «ритмическая» и «двигательная». Тенденция к повышению размерности всегда брала свое, и это легко объяснить с самой что ни на есть «бытовой точки зрения».

Музыка. Густав Климт
Как мы уже заметили выше, музыку можно слушать в двух режимах – фоновом и целенаправленно. В фоновом режиме, когда мысли и внимание сосредоточены на чем-то другом, нас как раз очень устраивает то, что музыка близка к мономедиа. В этом случае она используется в качестве вспомогательного средства, заполнителя незадействованной сенсорной модальности в процессе какой-то иной нашей деятельности. Скажем, мы ведем машину. При этом глаза, руки и ноги у нас полностью заняты, чувство смысла вполне удовлетворено задачей анализа дорожной обстановки – но вот незадача! слух – тоскует, ему нечем заняться. А человеческая природа не терпит пустоты в области сенсорных восприятий. Поэтому водители в машине всегда включают музыку – чтобы заполнить сенсорную пустоту в аудио-модальности. Рассмотрим теперь симметричную ситуацию – люди пришли как раз конкретно послушать музыку, например, в консерваторию. Они сидят и слушают. Но ведь получается, что в этот момент, в противоположность описанному водителю, они страдают от незаполненности всех базовых чувств, кроме слуха – они не двигаются, не думают над дорожной ситуацией и не двигают руками-ногами – только сидят и слушают. Реакция большинства нормальных людей на такое времяпрепровождение очевидна – «скукотища». К таким же нормальным людям относились и просвещенные покровители искусств в средневековой Европе. Поэтому на свет немедленно появились балет (музыка+визуальное зрелище), опера (музыка+слово+осмысленный сюжет), танцы (музыка+движение) и т. д. и т. п. Вершиной такого развития стали современные музыкальные (песенные) видеоклипы, а также рок-концерты с танцами, пивом, травкой, пиротехническими шоу и прочим интерактивом.
Я, конечно, немного утрирую, но с точки зрения тенденции смысл истории музыки именно таков. Во-первых, к основной модальности, которая продолжает быть ведущей и определяет собственно данный вид искусства, обязательно должны добавляться заполнители всех остальных незанятых модальностей. Во-вторых, в основной модальности тенденция требует стремиться к наибольшей сенсорной плотности (дробной размерности больше единицы). Последний вывод легко продемонстрировать не только на примере полифонической музыки, но и на примере клипового видеоряда, стремящегося стать все более насыщенным, рваным и шокирующим.
Что означают эти тенденции применительно к бесписьменной поэзии? Основная модальность поэзии – аудио-смысловая. «Фрактальное насыщение» смыслового измерения пояснять не нужно – попытки такого рода предпринимаются постоянно – как на уровне работы со словом, так и на уровне работы с образом. «Фрактальное насыщение» звукового ряда за счет «многоголосой поэзии» вряд ли возможно без ущерба для смыслового измерения – большинство людей не в состоянии разобрать смысл текстовых сообщений, которые зачитывают одновременно несколько человек. Зато это можно сделать за счет музыкальной «подложки». При этом хочу обратить внимание: стихи с музыкальной подложкой – это не песня и не рэп. В песне слова находятся в подчиненном положении по отношению к музыке. В рэпе и слова и музыка подчинены ритму. Мы же говорим здесь именно о стихах (лидирующая модальность – словесно-смысловая), дополненных до фрактальной размерности в базовом для себя аудио-измерении. Далее, согласно рассмотренной тенденции, должны задействоваться элементы визуальной модальности. И вот перед нами окончательный продукт – видеоклип на стихи с музыкальной подложкой.
Это и есть та медиа-форма (копируемый и транслируемый субстрат), к которой неминуемо придет поэзия в постписьменную эпоху. Более того, со временем аудио-видео-поэзия вытеснит не только печатную, но и просто аудио-поэзию. Вы спросите, почему этого не произошло с музыкой и аудио-видео-клипы до сих пор мирно сосуществуют с обычными музыкальными записями. Объяснение простое – аудио-музыку спас фоновый режим прослушивания. Поэзия же в фоновом режиме слушаться не может, а при целенаправленном прослушивании всегда выиграет та медиа-форма, которая одновременно заполняет максимальное число сенсорных каналов.
Помимо медиа-формы будущая бесписьменная поэзия, как и музыка, естественно будет иметь и интерактивную форму. По аналогии с музыкой это будет интерактивное шоу, в котором публика сможет не только слушать и смотреть, но также общаться с поэтами, голосовать, скандировать, двигаться, пить, нюхать, курить и т. д. и т. п. Легко догадаться, что эта интерактивная форма поэзии вырастет из нынешних «паралитературных проектов» типа «слэма», «турниров поэтов» и чемпионата «за стеклом».
Второй прогноз также основан на вере в торжество тенденции к ре-интеграции искусств, но уже в несколько иных условиях, когда для технического прогресса остается все меньше невозможного в области воздействия на человеческие чувства – как «базовые», так и «дополнительные». Тем, кто согласен со мной в оценке перспектив данной тенденции, ничего и доказывать, вероятно, не нужно – они сами все могут представить в куда более красочных деталях. Тех же, кто изначально с этим не согласен и считает, что традиционные формы искусства будут существовать и процветать форэва, видимо, никакими аргументами все равно не убедить. Поэтому ограничусь лишь расшифровкой предложенных терминов и самыми краткими комментариями к ним.
Давайте предположим, что в ходе дальнейшего развития биотехнологий возникнут технические средства, позволяющие искусственным образом стимулировать все органы человеческих чувств (например, путем непосредственного наведения соответствующих «псевдоощущений» в соответствующие отделы мозга). В этом случае подобная технология может применяться в искусстве как минимум для двух целей. Первая – создание тотально-синкретических интерактивных «фильмов», в которых за счет согласованных впечатлений, транслируемых по всем сенсорным каналам у «зрителя» создается полная иллюзия, что он находится в определенном месте, общается с людьми, бежит, стреляет, занимается сексом, испытывает боль от ранения и т. д. и т. п., но при этом остается самим собой (просто играет чью-то роль). Такое искусство я называю «физическим моделированием», и с логической точки зрения оно является прямым продолжением линии «экстравертной литературы», некогда двинувшейся от «рассказывания» к «показыванию» историй, как это было описано в предыдущем разделе.
Возможно, однако, и другое применение той же технологии. Оно потенциально и глубже и опаснее. Мы можем предложить нашему зрителю не просто набор реалистичных физических ощущений. Мы можем предложить ему чужой опыт, пережитый и переосмысленный как собственный. Это может быть достигнуто путем имитации «внутреннего голоса», медитативного и гипнотического воздействия, в результате которого зритель непосредственно ощутит как свои мысли чувства автора. И это, возможно, еще не самый шокирующий опыт. Что если воздействующих личностей окажется несколько – не будет ли этот опыт опытом шизофрении? Но и это еще не все. Возможно ведь не только конкретное, но и абстрактное тотально-синкретическое искусство, основанное на диссонансах и несовпадениях сенсорного материала, поступающего в различных модальностях. Такой опыт способен указать человеку на иллюзорность самих чувств, подорвать его чувство реальности – но одновременно и направить его мысль к первоосновам, находящимся за гранью обыденного опыта. Иначе как метафизическим подобный опыт не назовешь. Поэтому данное направление будущего тотального искусства я назвал «метафизическим моделированием». В нем я вижу последний приют поэзии на непростом пути ре-интеграции осколков былого синкретического искусства.

