Книга: Собрание сочинений в десяти томах. Том четвертый. Драмы в прозе
На главную: Предисловие
Дальше: ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Иоганн Вольфганг Гёте
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ
Том четвёртый
ДРАМЫ В ПРОЗЕ
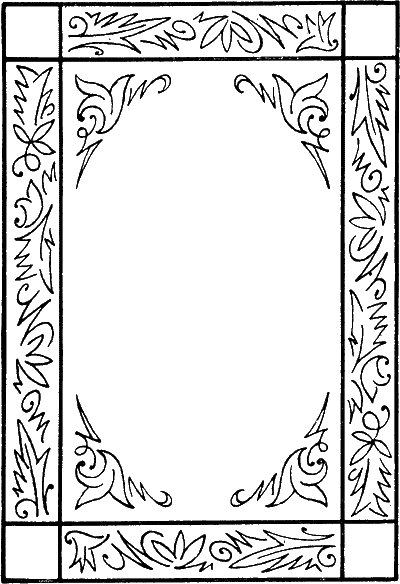
ГЕЦ ФОН БЕРЛИХИНГЕН С ЖЕЛЕЗНОЮ РУКОЮ

Трагедия
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Император Максимилиан.
Гец фон Берлихинген.
Елизавета — его жена.
Мария — его сестра.
Карл — его малолетний сын.
Георг — его оруженосец.
Епископ Бамбергский.
Придворные епископа:
Вейслинген
Адельгейда фон
Вальдорф
Либетраут
Аббат фульдский.
Олеарий — доктор обоих прав.
Брат Мартин.
Ганс фон Зельбиц.
Франц фон Зикинген.
Лерзе.
Франц — оруженосец Вейслингена.
Прислужница Адельгейды.
Мецлер, Зиферс, Линк, Коль, Вильд — предводители восставших крестьян.
Придворные дамы и кавалеры бамбергского двора.
Имперские советники.
Ратсманы гейльбронские.
Судьи тайного судилища.
Два нюрнбергских купца.
Макс Штумпф — придворный пфальцграфа.
Неизвестный.
Крестьяне:
Тесть
Жених
Рейтары Берлихингена, Вейслингена, епископа Бамбергского.
Начальники, рыцари, латники имперского войска.
Трактирщик.
Служитель суда.
Граждане гейльбронские.
Городская стража.
Тюремный сторож.
Крестьяне.
Предводитель цыган.
Цыгане, цыганки.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ШВАРЦЕНБЕРГ ВО ФРАНКОНИИ. ТРАКТИР
Мецлер, Зиферс за столом. Два рейтара у огня. Хозяин.
Зиферс. Еще стакан водки, Гензель, да отмерь по-христиански.
Хозяин. Ненасытная твоя утроба!
Мецлер (тихо, Зиферсу). Расскажи-ка еще разок о Берлихингене! Бамбергцы там бесятся, пусть почернеют от злобы.
Зиферс. Бамбергцы? Они здесь зачем?
Мецлер. Вот уже два дня как Вейслинген в замке у господина графа. Они сопровождают его. Не знаю, каким путем он поедет. Они ждут его; он возвратится в Бамберг.
Зиферс. Кто это — Вейслинген?
Мецлер. Правая рука епископа, большой человек, уж он-то Гецу удружит при случае.
Зиферс. Пусть сам держит ухо востро.
Мецлер (тихо). Ну-ка, наддай! (Громко.) А с каких пор Гец снова в ссоре с епископом Бамбергским? Ведь говорили, что они помирились и все улажено?
Зиферс. Да, с попами помиришься! Когда епископ увидел, что ничего не добьется, небось запросил пощады, шелковый стал, и мировая состоялась. А прямодушный Берлихинген во всем ему уступил. Он всегда так, если ему привалит удача.
Мецлер. Сохрани его господь! Справедливый господин!
Зиферс. Теперь скажи-ка, разве это не подло? Они захватывают его оруженосца врасплох. Ну, зато уж и взгреет он их!
Мецлер. Вот досада, что ему не повезло с последней проделкой! Он, должно быть, здорово рассердился.
Зиферс. Сдается мне, его давно ничто так не сердило. Подумай только — ведь все до точности было разведано: когда епископ поедет с вод, сколько при нем будет рейтаров, какой дорогой. Если б не выдали его лихие люди, устроил бы он епископу баню, намылил бы ему голову!
Первый рейтар. Вы чего болтаете о нашем епископе? Драки захотели?
Зиферс. Занимайтесь своим делом! За нашим столом вам делать нечего!
Второй рейтар. А кто вам позволил так непочтительно выражаться о нашем епископе?
Зиферс. Так я еще должен вам отчет давать? Ну и рожи!
Первый рейтар дает ему в ухо.
Мецлер. Бей собаку!
Бросаются друг на друга.
Второй рейтар. А ну, подойди, коли не трус!
Хозяин (разнимает их). Уйметесь вы? Тысяча чертей! Убирайтесь отсюда, если у вас есть из-за чего драться! В заведении моем все должно быть благопристойно и чинно. (Выталкивает рейтаров за дверь.) А вы, ослы, что затеваете?
Мецлер. А ты очень-то не лайся, Гензель, а то по башке схлопочешь. Идем, приятель, насажаем им синяков!
Входят два рейтара Берлихингена.
Первый рейтар. Что здесь творится?
Зиферс. Эй! Здорово, Петер! Фейт, здорово! Откуда?
Второй рейтар. Ты только посмей выдать, кому мы служим!
Зиферс (тихо). Так, значит, и господин ваш Гец недалеко?
Первый рейтар. Заткни глотку! У вас драка?
Зиферс. Вы там на дворе встретили парней? Так это бамбергцы.
Первый рейтар. Они что здесь делают?
Мецлер. Вейслинген там наверху, в замке у господина графа. Они его сопровождают.
Первый рейтар. Вейслинген?
Второй рейтар (тихо). Петер, это — славная находка. (Громко.) А давно он здесь?
Мецлер. Два дня уже. Но сегодня он уедет, — так одни из этих молодцов сказал.
Первый рейтар (тихо). Говорил я тебе, что он здесь! Если б нам посторожить немножко на другой дороге! Идем, Фейт!
Зиферс. Помогите нам сначала вздуть бамбергцев.
Второй рейтар. Вас и так двое. Нам надо идти. Прощайте.
Уходят.
Зиферс. Экая сволочь эти рейтары — без платы шагу не ступят!
Мецлер. Бьюсь об заклад — они что-то затеяли. Кому они служат?
Зиферс. Этого я не смею сказать. Они служат Гецу.
Мецлер. Ах, так! Ну, а теперь покажем тем, на дворе. Идем, — пока у меня есть дубинка, я их вертелов не боюсь.
Зиферс. Вот бы на князей так ударить, ведь семь шкур они с нас дерут!
КОРЧМА В ЛЕСУ
Гец (перед дверью, под липой). Куда девались мои люди? Я должен ходить взад и вперед, чтобы сон не одолел меня. Уже пять дней и пять ночей я в засаде. Да, нелегка достается иному самая малость жизни и свободы. Зато, когда ты будешь в моих руках, Вейслинген, тогда я отведу душу. (Наливает.) Опять пусто! Георг! Пока есть вино и отвага, я смеюсь над властолюбием и кознями князей. Георг! Посылайте вашего любезного Вейслингена к сватьям и братьям, черните меня! Пусть так! Я на страже. Ты ускользнул от меня, епископ! Так пусть же твой милый Вейслинген расплачивается за тебя! Георг! Оглох, что ли, мальчик? Георг! Георг!
Оруженосец (в латах взрослого). Ваша милость!
Гец. Где ты застрял? Спал? Какого черта ты так вырядился? Поди-ка сюда! Наряд пристал тебе. Не стыдись, мальчуган! Ты — молодец! Да, если б они тебе были впору! Это Гансовы латы?
Георг. Он хотел вздремнуть немножко и снял их.
Гец. Он привередливей, чем его господин.
Георг. Не гневайтесь. Я тихонько взял их и надел, потом снял со стены старый отцовский меч, выбежал на луг и обнажил его.
Гец. И стал рубить все кругом? Верно, не поздоровилось кустам и терновнику! Ганс спит?
Георг. Он вскочил на ваш зов и крикнул мне, что вы зовете. Я хотел снять доспех, но услышал, что вы кличете снова и снова.
Гец. Ступай! Снеси ему латы и скажи, что он должен быть наготове, Пусть позаботится о лошадях.
Георг. Я хорошо накормил их и снова взнуздал. Вы можете сесть в седло когда угодно.
Гец. Принеси кувшин вина, дай и Гансу стакан. Скажи ему, чтоб он был бодрым — дело стоит того. Я думаю, мои разведчики вернутся с минуты на минуту.
Георг. Ах, ваша милость!
Гец. Что тебе?
Георг. Мне нельзя с вами?
Гец. В другой раз, Георг. Когда мы будем ловить купцов и забирать обозы.
Георг. В другой раз! Вы всегда так говорите! О, в этот раз, в этот! Я сзади побегу, я в сторонке постою, я буду вам приносить брошенные стрелы.
Гец. В следующий раз, Георг! Тебе надо сначала завести камзол, шишак и дротик.
Георг. Возьмите меня! Если б я был с вами в последний раз, вы не потеряли бы самострела.
Гец. Ты почем знаешь?
Георг. Вы бросили им во врага, один латник поднял его, он и пропал. Видите, я знаю.
Гец. Это тебе мои латники рассказывают?
Георг. Да. Зато когда мы чистим лошадей, я свищу им на все лады и учу их веселым песенкам.
Гец. Ты — молодчина!
Георг. Возьмите меня с собой, чтоб я мог это доказать.
Гец. В следующий раз, даю тебе слово. Ты не вооружен, тебе нельзя в битву. Мужи нужны и будущим временам. Я говорю тебе, мальчик, наступят времена, когда они будут в цене. Князья еще предложат все сокровища свои за человека, которого сейчас ненавидят. Ступай, Георг, отдай Гансу его латы и принеси мне вина.
Георг уходит.
Где это пропадают мои люди? Непонятно! Монах! Этот еще откуда?
Входит брат Мартин.
Добрый вечер, честной отец! Откуда так поздно? Муж священного покоя, вид ваш посрамляет многих рыцарей.
Мартин. Благодарю вас, благородный господин. Я всего-навсего смиренный брат, коль уж речь зашла о звании. В монашестве я зовусь Августином, но при крещении меня нарекли Мартином, и это имя мне милей.
Гец. Вы устали, брат Мартин, и, без сомнения, хотите пить!
Входит оруженосец.
Вот и вино кстати.
Мартин. Я попрошу лишь глоток воды. Я не смею пить вина.
Гец. Таков обет ваш?
Мартин. Нет, господин мои, обеты мои не возбраняют мне пить вино, но поелику вино возбраняет обеты мои, я и не пью вина.
Гец. Что вы под этим разумеете?
Мартин. Благо вам, что вы не понимаете этого. Пища и питье, думаю я, есть жизнь человека.
Гец. Верно!
Мартин. Когда вы поели и выпили, вы как будто бы родились вновь. Вы стали сильней, смелей, искусней в своем деле. Вино веселит сердце человеческое, а веселие есть мать всех добродетелей. Когда человек вкусит вина, все качества его удваиваются. Ему вдвое легче думать, он становится вдвое предприимчивее, вдвое скорее осуществляет задуманное.
Гец. Да, когда я выпью, все это так и бывает.
Мартин. О том и речь. Но мы…
Георг входит с водой.
Гец (Георгу, тихо). Ступай на Дахбахскую дорогу, приложись ухом к земле, — не слышно ли конского топота, — и тотчас возвращайся назад.
Мартин. Но мы, когда поели и выпили, мы становимся прямою противоположностью того, чем нам надлежит быть. Ленивое пищеварение наше настраивает разум наш по желудку, и в расслаблении чрезмерного покоя родятся похоти, легко нас одолевающие.
Гец. Один стакан, брат Мартин, не потревожит ваш сон. Вы много прошли сегодня. (Подносит ему.) За всех воителей!
Мартин. Во имя божье!
Они чокаются.
Я не выношу тунеядцев. И все-таки нельзя сказать, чтоб все монахи были тунеядцами. Они делают, что могут. Я иду от святого Фейта, где ночевал. Настоятель водил меня в сад: воистину полная чаша. Превосходнейший салат! Не капуста, а услада душевная! А цветная капуста и артишоки такие, каких во всей Европе не сыщешь!
Гец. Так, значит, вас это дело не привлекает. (Встает, смотрит, не идет ли мальчик, и возвращается.)
Мартин. Ах, если бы господь создал меня садовником или монастырским собирателем лекарственных трав! Я был бы счастлив. Настоятель мой любит меня — монастырь мой в Эрфурте, в Саксонии, он знает, что я не создан для покоя, и посылает меня всюду, где надо что-нибудь устроить. Я иду к епископу Констанцскому.
Гец. Еще стаканчик! Желаю удачи!
Мартин. Вам того же.
Гец. Что вы так смотрите на меня, брат?
Мартин. Я влюбился в панцирь ваш.
Гец. Он вам нравится? Носить его тяжко и обременительно.
Мартин. А что же не обременительно на сем свете? По мне, самое обременительное — не сметь быть человеком. Бедность, целомудрие и послушание — вот три обета, из которых каждый, взятый в отдельности, кажется наиболее противным природе. Как же невыносимы все они, взятые вместе! И всю жизнь свою безрадостно задыхаются под этим гнетом или под еще более тяжким бременем угрызений совести! О господин мой! Что значат все тягости вашей жизни в сравнении с горестным положением сословия, которое из-за дурно понятого стремления стать ближе к господу отвергает лучшие стремления, какими созидается, растет и созревает человек!
Гец. Если бы обеты ваши не были столь священны, я предложил бы вам надеть доспехи, дал бы коня, и мы б отправились вместе.
Мартин. О, если б господу было угодно даровать плечам моим силу снести тяжесть доспехов и руке моей — мощь, дабы сбить с коня врага! Бедная, слабая рука, ты издавна привыкла носить крест и мирную хоругвь да махать кадилом, тебе ли владеть копьем и мечом? Мой голос, пригодный лишь для «Ave» и «Аллилуйя», был бы для врага глашатаем моей немощи, тогда как ваш заранее побеждает его. Нет, обеты не смогли бы помешать мне вновь вступить в орден, учрежденный создателем моим!
Гец. Счастливого возвращения!
Мартин. Я пью лишь за ваше. Возвращение в мою клетку — всегда несчастие. Когда вы, господин мой, возвращаетесь под кров ваш с сознанием вашей храбрости и силы, их не может победить и сама усталость! Когда вы впервые за долгий срок в безопасности от нападения врага и безоружный простираетесь на ложе и вас одолевает сон, который вам слаще, чем для меня глоток воды после долгой жажды, тогда вы можете говорить о счастье.
Гец. Зато это редко случается.
Мартин (страстно). Но когда случается — это предвкушение небесного блаженства. Вы возвращаетесь, обремененный добычею врагов ваших, и припоминаете: «Этого копье мое сбило с седла ранее, чем он успел выстрелить, того я поверг на землю вместе с конем его», — и вот вы подъезжаете к вашему замку…
Гец. И что же?
Мартин. А жены ваши! (Наливает.) За здравие супруги вашей! (Вытирает глаза.) Ведь она есть у вас?
Гец. Благородная, прекрасная женщина.
Мартин. Счастлив муж добродетельной жены и число дней его сугубое. Я не знаю женщин, хотя женщина была венцом творения!
Гец (про себя). Мне жаль его! Сознание своего звания разрывает ему сердце.
Георг (вбегает). Господин! Я слышу коней — вскачь! Двоих! Это, наверное, они.
Гец. Выведи моего коня. Пусть Ганс сядет в седло. Прощайте, дорогой брат, да сохранит вас господь! Будьте мужественны и терпеливы. Бог не оставит вас.
Мартин. Я хотел бы знать ваше имя.
Гец. Извините меня. Прощайте! (Подает ему левую руку.)
Мартин. Зачем даете вы мне шуйцу? Или я не достоин рыцарской десницы?
Гец. Вы должны были удовольствоваться ею, даже если б были императором. Моя десница, правда, в бою не бесполезна, но к дружескому пожатию она не чувствительна — она слилась воедино с перчаткой, а перчатка, как видите, железная.
Мартин. Так вы — Гец фон Берлихинген! Благодарю тебя, господи, что ты сподобил меня узреть сего мужа, которого ненавидят князья и к которому прибегают все угнетенные! (Берет его правую руку.) Дайте мне эту руку, дайте мне облобызать ее!
Гец. Не надо.
Мартин. Дайте! О мертвое орудие, оживленное надеждой благороднейшего духа на господа, ты драгоценней священных мощей, в коих святая струилася кровь!
Гец надевает шлем и берет копье.
Долгое время жил у нас монах, который посещал вас после того, как при Ландсгуте вы лишились руки. Я никогда не забуду его рассказов о том, сколько вы перестрадали, как тяжело вам было увечье это, мешающее вашему призванию, и как, наконец, прослышали вы об одном человеке, который имел лишь одну руку и все-таки долго был храбрым рейтаром.
Входят два латника. Гец обращается к ним. Они тайно переговариваются.
(Продолжая.) Я никогда не забуду, как он в благороднейшем, чистосердечнейшем уповании на господа сказал: «Если б я имел двенадцать рук, но милость твоя отвратилась бы от меня, на что бы они мне послужили? Теперь же я могу и одною…»
Гец. Значит, в Гослохский лес. (Оборачивается к Мартину.) Прощайте, достойный брат Мартин. (Целует его.)
Мартин. Не забывайте меня, как я вас не забуду.
Гец уходит.
Как сжалось мое сердце, когда я увидел его. Он не промолвил ни слова, но дух мой признал его. Лицезреть великого мужа — душе отрада.
Георг. Вы ночуете у нас, святой отец?
Мартин. Найдется ли мне постель?
Георг. Нет, господин! Я знаю о постелях только понаслышке, в нашей корчме нет ничего, кроме соломы.
Мартин. И на том спасибо! Как тебя зовут?
Георг. Георгом, снятой отец!
Мартин. Георгом! Значит, у тебя храбрый святой.
Георг. Говорят, он был рыцарем, я тоже хочу быть рыцарем.
Мартин. Постой! (Вынимает молитвенник и дает оруженосцу образок.) На́ тебе его. Следуй его примеру, будь храбр и бойся бога. (Уходит.)
Георг. Какой прекрасный белый конь! Вот бы мне такого! И вооружение золотое! А здесь отвратительный дракон. Теперь я стреляю воробьев. Святой Георг! Сделай меня большим и сильным, дай мне копье, доспех и коня — и пусть тогда попробуют сунуться драконы!
ЯКСТГАУЗЕН. ЗАМОК ГЕЦА
Елизавета, Мария, Карл — маленький сын Геца.
Карл. Пожалуйста, милая тетушка, расскажи мне еще раз о добром мальчике. Уж очень это хорошо.
Мария. Лучше ты мне расскажи, плутишка, увидим, внимательно ли ты слушал.
Карл. Чуточку подожди, я думаю. Жил-был однажды… да, жил-был однажды мальчик… и его мать заболела… и вот он пошел…
Мария. Да нет же. И мать ему сказала: «Милый мальчик…»
Карл. «…я больна…»
Мария. «…и не могу выйти…»
Карл. И дала ему денег и сказала: «Поди и купи себе завтрак». Тут пришел нищий…
Мария. Мальчик пошел и встретил по дороге старика, он был… Ну, Карл!
Карл. Он был… старый.
Мария. Ну конечно! Он еле передвигал ноги и сказал: «Милый мальчик…»
Карл. «…подай мне что-нибудь: я ничего не ел ни вчера, ни сегодня». Тут мальчик отдал ему деньги…
Мария. …которые ему дали на завтрак…
Карл. Тогда старик сказал…
Мария. Тогда старик взял мальчика…
Карл. …за руку и сказал… и превратился вдруг в сияющего прекрасного святого и сказал: «Милое дитя…»
Мария. «За твое милосердие награждает тебя через меня матерь божья: тот больной, которого ты коснешься…»
Карл. «…рукою…» Я думаю, это была правая рука.
Мария. Да.
Карл. «…тот тотчас выздоровеет».
Мария. Мальчик побежал домой и от радости не мог слова вымолвить.
Карл. Он бросился матери на шею и заплакал от радости.
Мария. Тут мать воскликнула: «Что со мной?» И вдруг… Ну, Карл!
Карл. И вдруг… и вдруг…
Мария. Вот ты уже и не слушаешь! И вдруг выздоровела. И мальчик врачевал королей и императоров и сделался так богат, что построил большой монастырь.
Елизавета. Не могу понять, где мой господин. Пять дней и пять ночей нет его, а он надеялся быстро покончить со своим делом.
Мария. Меня это уже давно беспокоит. Если б у меня был муж, который вечно подвергает себя опасности, я б умерла в первый же год брака.
Елизавета. Благодарю бога, что он создал меня более твердой.
Карл. А разве отец должен уезжать, если это так опасно?
Мария. Это его добрая воля.
Елизавета. Он должен, милый Карл.
Карл. Почему?
Елизавета. Ты помнишь, зачем он ездил в прошлый раз, когда привез тебе гостинца?
Карл. А теперь он мне привезет что-нибудь?
Елизавета. Ну конечно. Видишь ли, один портной из Штутгарта — меткий стрелок из лука — выиграл первый приз на состязании стрелков в Кельне.
Карл. И много он выиграл?
Елизавета. Сто талеров. А ему не хотели их отдать.
Мария. Ну, разве это не гадко, Карл?
Карл. Гадкие люди.
Елизавета. Тогда портной пришел к твоему отцу и попросил, чтобы он помог ему выручить деньги. Твой отец поехал и захватил двух кельнских купцов и томил их до тех пор, пока они не выдали деньги. Разве ты бы не поехал?
Карл. Нет! Ведь надо проезжать через густой-густой лес, а там цыгане, ведьмы.
Елизавета. Большой парень, а боишься ведьм.
Мария. Ты сделаешь лучше, Карл, если будешь жить в своем замке благочестивым, христианским рыцарем. В своих владениях можно найти достаточно случаев для благотворительности. Во время набегов даже самые честные рыцари творят больше несправедливости, чем правды.
Елизавета. Сестра, ты говоришь, не думая. Дай бог, чтобы и наш мальчик стал с годами храбрее и не напоминал бы Вейслингена, который так вероломно поступает с моим мужем.
Мария. Не будем спорить, Елизавета. Мой брат очень раздражен, и ты тоже. В этом деле я только зритель и потому могу судить беспристрастнее.
Елизавета. Ему нет оправдания.
Мария. То, что я о нем слышала, расположило меня в его пользу. Да разве муж твой не рассказывал о нем сам столько хорошего? Как счастливо протекала их юность, когда оба они были пажами маркграфа!
Елизавета. Пусть так. По сказки мне, что может быть хорошего в человеке, который преследует своего лучшего, вернейшего друга, продает услуги свои врагам моего мужа и лживыми, искажающими дело наветами старается привлечь на свою сторону нашего доброго императора, который всегда был к нам так милостив!
Карл. Отец! Отец! Дозорный на башне трубит песенку: «Гей, да отпирай ворота!»
Елизавета. Он вернулся с добычей.
Входит рейтар.
Рейтар. Мы с охоты. Мы с добычей! Здравствуйте, благородные дамы!
Елизавета. Вейслинген захвачен?
Рейтар. Захвачен. И с ним три рейтара.
Елизавета. Как вышло, что вы так замешкались?
Рейтар. Мы подстерегали его между Нюрнбергом и Бамбергом. Он все не ехал, а мы знали, что он в пути. Наконец мы выследили его — он проехал стороной и сидел себе спокойно у графа в Шварценберге.
Елизавета. Они б и его хотели сделать врагом моего мужа.
Рейтар. Я тотчас донес об этом господину. На коней! И мы помчались в Гослохский лес. Тут так странно вышло: скачем мы ночью через лес и видим — пастух пасет свое стадо. Вдруг, откуда ни возьмись, пять волков, да как примутся за овцу. Тогда господин наш засмеялся и сказал: «Это к добру, дорогие товарищи. Всем удача, и нам удача!» И мы обрадовались хорошей примете. В это время выезжает Вейслинген с четырьмя рейтарами.
Мария. Сердце мое трепещет.
Рейтар. Я и товарищ мой по приказанию господина прижались к нему так, точно приросли — он не мог ни двинуться, ни шелохнуться, а господин наш и Ганс ударили на рейтаров и захватили их. Один ускользнул.
Елизавета. Любопытно взглянуть на него. Они скоро здесь будут?
Рейтар. Они скачут по долине, через четверть часа будут здесь.
Мария. Он, должно быть, очень подавлен.
Рейтар. Да, смотрит невесело.
Мария. Мне будет больно взглянуть на него.
Елизавета. Ах! Я пойду займусь стряпней. Все вы, верно, проголодались?
Рейтар. Так точно!
Елизавета. Возьми ключ от погреба и принеси лучшего вина. Они его заслужили. (Уходит.)
Карл. Я пойду с тобой, тетя.
Мария. Идем, мальчик.
Уходят.
Рейтар. Ну, этот не в отца, а то пошел бы со мной на конюшню.
Гец. Вейслинген. Рейтары.
Гец (кладет на стол шлем и меч). Расстегните мне латы и подайте камзол. Приятен домашний уют. Ты был прав, брат Мартин. Вы загоняли нас, Вейслинген.
Вейслинген, не отвечая, ходит взад и вперед.
Будьте повеселей! Снимайте доспехи! Где ваше платье? Я надеюсь, что все цело. (Слуге.) Позовите его слуг и развяжите тюки, да смотрите, чтоб ничего не пропало. Я могу сам одолжить и мое платье.
Вейслинген. Оставьте меня, мне все равно.
Гец. Я могу вам дать красивое свежее платье. Правда, оно полотняное. Мне оно стало узко. Я был в нем на свадьбе всемилостивейшего господина нашего — пфальцграфа, тогда еще ваш епископ так разгневался на меня. За две недели перед тем я потопил на Майне две его барки. Поднимаюсь я в трактире «Олень» в Гейдельберге с Францем фон Зикингеном по лестнице. Почти в самом конце ее есть площадка с железными перильцами. На ней и стоял епископ и подал руку Фрацу, когда тот проходил, а затем и мне, когда я прошел за ним следом. Я усмехнулся про себя, подошел к ландграфу Ганаускому — очень я его любил! — и сказал: «Епископ подал мне руку, бьюсь об заклад, что он не узнал меня». Епископ услышал, — я нарочно говорил громко, — подошел к нам с высокомерным видом и сказал: «Вы правы, я подал вам руку только потому, что не узнал вас». А я ему на это: «Господин мой, я и сам догадался, что вы не узнали меня, можете взять ваше рукопожатие обратно». Тут человек этот от злости покраснел как рак и побежал жаловаться пфальцграфу Людвигу и князю Нассаускому. Мы потом часто потешались, вспоминая об этом.
Вейслинген. Пожалуйста, оставьте меня одного.
Гец. Но отчего же? Успокойтесь, прошу вас. Вы в моей власти, а я не злоупотребляю ею.
Вейслинген. Этого я и не боюсь. Ведь это ваш рыцарский долг.
Гец. И вы знаете, что он священен для меня.
Вейслинген. Я в плену, остальное мне безразлично.
Гец. Вы не должны так говорить. Если бы вы имели дело с князьями, они б посадили вас на цепь в глубоком подземелье и сторож не давал бы вам уснуть своими свистками.
Входят слуги с платьем. Вейслинген переодевается. Входит Карл.
Карл. Доброго утра, отец!
Гец (целует его). Доброго утра, мальчуган. Ну, что ты поделывал?
Карл. Я очень хорошо вел себя, отец! Тетя сказала, что я умница!
Гец. Вот как!
Карл. Ты мне привез что-нибудь?
Гец. На этот раз не привез.
Карл. А я много учился.
Гец. Да ну?
Карл. Хочешь, я тебе расскажу о добром мальчике?
Гец. После обеда…
Карл. А я еще кое-что знаю.
Гец. Что б это было?
Карл. Якстгаузен — селение и замок на Яксте — уже двести лет принадлежит господам фон Берлихингенам по праву наследия и собственности.
Гец. А ты знаешь господина фон Берлихингена?
Карл в недоумении смотрит на него.
(Про себя.) Он, пожалуй, от большой учености и отца не признает. Кому принадлежит Якстгаузен?
Карл. Якстгаузен — селение и замок на Яксте…
Гец. Я не об этом спрашиваю. Я знал каждую дорогу, каждую тропинку, каждый брод, прежде чем узнал, как зовется река, селение и замок. Мать на кухне?
Карл. Да, отец. Она готовит брюкву и баранину.
Гец. Ты и это знаешь, кухонных дел мастер?
Карл. А мне тетя на сладкое испекла яблоко.
Гец. А сырого ты не можешь съесть?
Карл. Так вкусней.
Гец. Тебе всегда надо что-нибудь особенное. Вейслинген! Я сейчас вернусь к вам. Мне все-таки надо повидать жену. Идем, Карл.
Карл. Это что за человек?
Гец. Поклонись ему, попроси его быть повеселее.
Карл. Эй, человек! Право, развеселись! Скоро обед поспеет.
Вейслинген (берет Карла на руки и целует). Счастливое дитя! У него одна печаль, что суп запоздал. Дай бог, чтоб мальчик этот доставил вам много радостей, Берлихинген.
Гец. Где ярче свет, там гуще тени, но я и на это согласен. Ну, пойдем, посмотрим, как там.
Они уходят.
Вейслинген. О, если б я проснулся и все оказалось бы сном! Во власти Берлихингена! Я едва освободился от него, я как огня боялся мысли о нем, я надеялся его одолеть. А он — прежний, верный Гец! Боже правый, чем все это кончится? Вот ты и вернулся, Адельберт, в ту залу, где мы играли детьми, ты дорожил им тогда, ты любил его, как душу свою. Кто может, приблизясь к нему, ненавидеть его? Ах! Я чужой здесь. Ты прошло, счастливое время, когда у камина еще сидел старый Берлихинген, а мы играли вокруг него и любили друг друга, как ангелы. Как будет беспокоиться епископ и мои друзья! Я знаю — вся страна сочувствует моему несчастию. Что мне в том! Разве они могут мне дать то, к чему я стремлюсь?
Гец (с бутылкой вина и кубками). Пока еда будет готова, мы выпьем. Идите сюда, садитесь, будьте как дома! Подумайте, ведь вы снова у Геца. Давно мы уже не сиживали вместе, давно вместе не осушали бутылки. (Подносит ему.) Ну, с легким сердцем!
Вейслинген. Те времена прошли.
Гец. Боже сохрани! Правда, нам не дождаться лучших дней, чем те, когда мы были неразлучны днем и ночью при дворе маркграфа. Я с радостью вспоминаю мою юность. Вы еще помните, как я повздорил с поляком, когда нечаянно заехал рукавом в его завитые и напомаженные локоны?
Вейслинген. Это было за столом, и он бросился на вас с ножом.
Гец. Я тогда здорово отколотил его, а вы из-за этого поссорились с его приятелем. Мы всегда честно держались заодно, как и подобает добрым и смелым ребятам. За это все и признавали нас. (Наливает и подносит ему.) Кастор и Поллукс! Сердце мое всегда радовалось, когда маркграф так называл нас.
Вейслинген. Это придумал епископ Вюрцбургский.
Гец. Он был ученый муж и добрейший человек вместе с тем. Я до конца жизни буду помнить, как он ласкал нас, как хвалил наше единодушие и звал счастливым человеком того, который был близнецом его друга.
Вейслинген. Довольно об этом!
Гец. Почему же? После трудов для меня нет ничего приятнее воспоминания о прошлом. В самом деле, подумать только, что мы делили когда-то радость и горе, были всем друг для друга! Я воображал, что так будет всю жизнь! Когда при Ландсгуте я лишился руки, разве не было моим единственным утешением то, что ты ходил за мной и заботился обо мне больше, чем брат родной. Я надеялся, что в будущем моей правой рукою станет Адельберт. А теперь…
Вейслинген. О!
Гец. Если б ты послушал меня и поехал вместе в Брабант, когда я звал тебя, все осталось бы по-старому. Тебя удержала эта несчастная придворная жизнь, тебе понравилось слоняться без дела и расшаркиваться перед женщинами. Я всегда говорил тебе, что если ты будешь водиться с пустыми, противными бабами и болтать с ними о неудачных браках, об обольщенных девушках, о мозолях и вообще обо всем том, что им любо слушать, то ты станешь шалопаем, Адельберт, я всегда это говорил.
Вейслинген. К чему все это?
Гец. Видит бог, я б хотел или забыть все, или чтобы это было не так. Свободой и благородством рождения ты равен лучшим сынам Германии, ты независим, ты подчинен лишь императору, зачем же ты принижаешь себя до уровня вассала? Что тебе епископ? Он сосед твой? Он может напасть на тебя? А разве у тебя нет рук, нет друзей, чтобы отплатить ему? Ты забываешь свое достоинство свободного рыцаря, который зависит лишь от бога, императора и самого себя! Ты из кожи лезешь вон, чтобы занять место придворного шаркуна при своенравном и завистливом попе!
Вейслинген. Позволь мне сказать.
Гец. Что ты можешь сказать?
Вейслинген. Ты смотришь на князей, как волк на пастухов. И все-таки посмеешь ли ты порицать их за то, что они защищают свои владения и достояние своих подданных? Разве они хоть на мгновение бывают в безопасности от рыцарей-самоуправцев, которые нападают на их подданных у каждого перекрестка, опустошают селения и замки? С другой стороны — земли дражайшего императора нашего находятся по власти заклятого врага; император требует помощи от всех сословий, а они едва могут защитить свою жизнь. Разве не добрый гений внушает князьям желание подумать о средствах успокоить Германию, водворить право и справедливость, дать всем — и большим и малым — возможность наслаждаться выгодами мира? И ты нам ставишь в вину, Берлихинген, что мы ищем защиты у них, чья помощь нам ближе, нежели далекая от нас императорская власть, которая не в силах защитить себя самое.
Гец. Да! Да! Все понятно! Вейслинген, будь князья такими, какими вы их изображаете, то у нас было бы все, чего мы жаждем. Покой и мир! Я думаю! Их жаждет и хищная птица, чтоб на свободе пожирать добычу. Всеобщее благо! Ну, от этой заботы они не поседеют! А какую непристойную игру ведут они с нашим императором. Намерения его прекрасны, и стремления его еще лучше. И вот что ни день — является новый знахарь и предлагает лечить так и эдак. А так как господин наш все быстро схватывает и ему достаточно слово сказать, чтоб тысячи рук пришли в движение, то он и воображает, будто выполнит все так же легко и быстро. И вот издается приказ за приказом, и все они тут же забываются, а что князьям на пользу, того они и держатся и прославляют спокойствие и безопасность империи, попирая ногами меньшую братию. Готов поклясться, что кое-кто в глубине души благодарит бога за то, что турок наседает на императора.
Вейслинген. Вы смотрите на это по-своему.
Гец. Так поступает каждый. Вопрос в том, на чьей стороне свет и правда, а ваши дела, говоря мягко, боятся дневного света.
Вейслинген. Вы все можете говорить, я — пленник.
Гец. Если совесть ваша чиста, вы — свободны. Но как обстояло дело с договором о земском мире? Я помню, как еще шестнадцатилетним мальчиком я был с маркграфом на сейме. Сколько князья там горланили, а духовные владыки — больше всех! Ваш епископ все уши прожужжал императору, будто чудо свершилось, и он вдруг всем сердцем возлюбил справедливость; а теперь он захватил моего оруженосца в ту пору, когда ссора наша уладилась и я не помышлял о зле. Разве мы не помирились? На что ему оруженосец?
Вейслинген. Это произошло без его ведома.
Гец. Отчего же он его не отпускает?
Вейслинген. Он вел себя не так, как должно.
Гец. Не так, как должно? Готов присягнуть, что он вел себя как должно, и это так же верно, как то, что он захвачен с ведома епископа и вашего. Вы думаете, я только сегодня на свет родился и не понимаю, что к чему?
Вейслинген. Вы подозрительны и судите несправедливо.
Гец. Вейслинген, могу я говорить напрямик? Как я ни мал, но я сучок в вашем глазу, так же, как Зикинген и Зельбиц. Все это потому, что мы твердо решили лучше умереть, чем быть обязанными жизнью кому-либо, кроме бога, или служить верой и правдой кому-либо, кроме императора. Вот они и обхаживают меня и стараются очернить в глазах его величества, его друзей и моих соседей и шпионят за мной ради своих целей. Хотят убрать меня с дороги во что бы то ни стало. Потому-то вы и взяли в плен моего оруженосца, ибо знали, что он послан мною на разведку. Потому и поступил он не так, как должно, ибо не предал меня вам. А ты, Вейслинген, ты — их орудие!
Вейслинген. Берлихинген!
Гец. Ни слова об этом больше! Я враг объяснений — обманываешь или себя, или другого, а большей частью — обоих.
Карл. Кушать подано, отец!
Гец. Приятная весть! Идемте! Надеюсь, мои женщины развеселят вас. Прежде вы были большим их поклонником и у девиц было что о вас порассказать. Идемте!
Уходят.
В ЕПИСКОПСКОМ ДВОРЦЕ В БАМБЕРГЕ. СТОЛОВАЯ
Епископ Бамбергский, аббат фульдский, Олеарий, Либетраут, придворные.Все сидят за столом. Вносят десерт и вино в больших бокалах.
Епископ. Много ли немецких дворян обучается теперь в Болонье?
Олеарий. Есть и дворяне и бюргеры. И, не хвастаясь, могу сообщить, что они заслужили себе там отменную похвалу. Речение — «прилежен, как немецкий дворянин», — вошло в университете в пословицу. Так как бюргеры прилагают похвальные усилия к тому, чтобы дарованиями возместить низость происхождения, то и дворяне, в похвальном соревновании с ними, стремятся возвысить прирожденное достоинство блестящими заслугами.
Аббат. Каково!
Либетраут. Скажите! Чего только не бывает на свете! «Прилежен, как немецкий дворянин!» Никогда в жизни этого не слыхал!
Олеарий. Да, они — предмет удивления для всего университета. Некоторые из них — старейшие и способнейшие — вскоре вернутся сюда докторами. Император с радостью даст им лучшие места.
Епископ. За этим дело не станет.
Аббат. К примеру, не знаете ли вы одного молодого дворянина? Он из Гессена.
Олеарий. Там много гессенцев.
Аббат. Его зовут… он… Из вас никто его не знает? Его мать была урожденная… Ох! Его отец был кривой на один глаз и маршал.
Либетраут. Фон Внльденгольц?
Аббат. Правильно! Фон Вильденгольц.
Олеарий. Его я хорошо знаю. Он — молодой человек с большими дарованиями. Особенно славится стойкостью на диспутах.
Аббат. Это у него от матери.
Либетраут. Но муж никогда не прославлял ее за это.
Епископ. Как, говорите вы, зовут того императора, который написал ваш Corpus iuris.
Олеарий. Юстиниан.
Епископ. Достойный государь! За его здоровье!
Олеарий. Вечная память ему!
Пьют.
Аббат. Должно быть, это замечательная книга.
Олеарий. Ее можно именовать книгою книг, она — собрание всех законов, — на каждый случай готов приговор, то же, что устарело или стало нелепым, восполняется глоссами, коими ученейшие мужи украсили это превосходнейшее произведение.
Аббат. Собрание всех законов! Тьфу ты пропасть! Значит, там есть и все десять заповедей?
Олеарий. Implicite, конечно, но не explicite.
Аббат. Я это и подразумевал — сами по себе и без дальнейших экспликаций.
Епископ. Но, по-вашему, лучше всего то, чтобы в государстве, где его введут и будут соблюдать неукоснительно, был обеспечен полный покой и мир?
Олеарий. Без сомнения.
Епископ. За докторов прав!
Олеарий. Я сумею почтить их.
Пьют.
Дай бог, чтобы и на моей родине говорили то же!
Аббат. Вы откуда, ученейший муж?
Олеарий. Из Франкфурта-на-Майне, ваше преподобие.
Епископ. А разве вы, господа, там не в чести? Как это случилось?
Олеарий. Удивительное дело! Я приезжал туда получить отцовское наследство, а когда чернь прослышала, что я юрист, то чуть камнями меня не побила.
Аббат. Не приведи, господи!
Олеарий. А всё оттого, что в суде шоффенов, уважаемом повсеместно, судейские места заняты исключительно людьми, не знакомыми с римским правом. Считается достаточным точное знание внутреннего и внешнего положения города, приобретенное путем опыта и долгой жизни. Вот горожан и крестьян и судят на основании старых обычаев да немногих статутов.
Аббат. А ведь это хорошо.
Олеарий. Но далеко не достаточно. Жизнь человеческая коротка, в одном поколении все казусы встретиться не могут. Собранием таких случаев за многие столетия и являются наши книги законов. Кроме того, воля и мнения человеческие крайне неустойчивы. Что сегодня одному кажется правильным, то другой назавтра будет порицать; таким образом, замешательство и несправедливость неизбежны. Все это определяют законы; и законы — неизменяемы.
Аббат. Конечно, это лучше.
Олеарий. Чернь того не признает; она, правда, падка до новшеств, но те новшества, которые хотят выбить ее из старой кожи, ненавистны ей даже тогда, когда они ведут ко благу. Они ненавидят юриста, точно смутьяна или карманника, и приходят в бешенство, если он захочет обосноваться среди них.
Либетраут. Так вы из Франкфурта! Меня там хорошо знают. При коронации императора Максимилиана мы кое-чем полакомились раньше ваших женихов. Вас зовут Олеарий? Я там не знавал никого с таким именем.
Олеарий. Отца моего звали Эльман. Но мне было неудобно начертать имя это на латинских моих писаниях, и, чтобы избежать этого, я, по примеру и совету достойных учителей моих, назвался Олеарием.
Либетраут. Вы прекрасно сделали, что перевели свое имя. Несть пророка в отечестве своем. На отечественном языке с вами случилось бы то же самое.
Олеарий. Я руководствовался не этой причиной.
Либетраут. На все бывает две причины.
Аббат. Несть пророка в отечестве своем.
Либетраут. А вы знаете почему, ваше преподобие?
Аббат. Потому что он там родился и воспитывался.
Либетраут. Правильно. Это одна причина. А вот другая — при ближайшем знакомстве с некими господами исчезает ореол достопочтенности и святости, который мерцал нам из туманной дали, и остается жалкий сальный огарочек.
Олеарий. Вы, кажется, подрядились изрекать истины.
Либетраут. Что на уме, то и на языке. За словом в карман не полезу.
Олеарий. А за уменьем сказать его кстати?
Либетраут. Банки кстати, если действуют.
Олеарий. Банщика узнают по переднику, и тогда никто не ставит ему в вину его звания. Вы бы из предосторожности носили шутовской колпак.
Либетраут. А вы где получали ученую степень? Спрашиваю на случай, если мне придет охота исполнить ваш совет. Так чтобы попасть в надлежащее место.
Олеарий. Вы нахал!
Либетраут. А вы хвастун!
Епископ и аббат смеются.
Епископ. Давайте о другом! Не горячитесь, господа! За столом не всякое лыко в строку. Заведи разговор о другом, Либетраут!
Либетраут. Возле Франкфурта есть урочище, зовется Саксенгаузен…
Олеарий (епископу). Что говорят о турецком походе, ваше преосвященство?
Епископ. Для императора сейчас важнее всего умиротворить государство, прекратить раздоры и укрепить уважение к суду. Тогда, говорят, он лично двинется против врагов империи и христианства. Сейчас для него еще много дела с внутренними раздорами, и империя, несмотря на сорок договоров о земском мире, все еще остается вертепом разбойников. Франкония, Швабия, Верхний Рейн и смежные с ними земли разоряются дерзкими и надменными рыцарями. Зикинген, Зельбиц одноногий, Берлихинген с железною рукою издеваются в этих краях над имперскою властью.
Аббат. Да, если его величество за них не примется, эти молодцы и до нас доберутся.
Либетраут. А кто-нибудь из этих молодцов доберется и до фульдской винной бочки.
Епископ. В особенности последний из них — с давних пор мой непримиримый враг и несказанно докучает мне, но я надеюсь, что теперь уже это недолго будет тянуться. Резиденция императора находится сейчас в Аугсбурге. Мы приняли меры, и неудачи быть не может. Вы знаете Адельберта фон Вейслингена, господин доктор?
Олеарий. Нет, ваше преосвященство.
Епископ. Если вы дождетесь его прибытия, то будете иметь удовольствие встретить в одном лице благороднейшего, разумнейшего и любезнейшего из всех рыцарей.
Олеарий. Должно быть, он — человек исключительный, если заслужил подобные похвалы из таких уст.
Либетраут. Он не обучался ни в каком университете.
Епископ. Мы это знаем.
Двое слуг бегут к окну.
Что там?
Слуга. Фербер, рейтар Вейслингена, только что въехал в ворота замка.
Епископ. Узнайте, с какими он вестями, вероятно, он расскажет о Вейслингене.
Либетраут уходит. Все встают и пьют снова. Либетраут возвращается.
Какие новости?
Либетраут. Я хотел бы, чтоб их принес другой. Вейслинген в плену.
Епископ. О!
Либетраут. Берлихинген захватил его с тремя рейтарами при Гослохе. Четвертый ускользнул, чтобы сообщить вам об этом.
Аббат. Прискорбная весть.
Олеарий. Сердечно сожалею.
Епископ. Я хочу видеть рейтара. Позовите его наверх. Я сам хочу с ним поговорить. Проведите его в мой кабинет. (Выходит.)
Аббат (садится). Еще глоток!
Слуги наливают.
Олеарий. Не угодно ли вашему высокопреподобию прогуляться по саду? Post coenam stabis seu passus mille meabis.
Либетраут. Действительно, вам вредно сидеть. Еще паралич разобьет.
Аббат встает.
(Про себя.) Только бы ты вышел в сад, уж я тебя загоняю!
Уходят.
ЯКСТГАУЗЕН
Мария. Вейслинген.
Мария. Вы говорите, что любите меня. Я охотно верю вам и надеюсь быть с вами счастливой и вас сделать счастливым.
Вейслинген. Я чувствую одно — что я весь твой. (Обнимает ее.)
Мария. Прошу вас — пустите меня. Один поцелуй я вам дала в виде задатка, но вы, кажется, хотите вступить во владение тем, что принадлежит вам лишь условно.
Вейслинген. Вы слишком строги, Мария. Невинная любовь радует, а не оскорбляет господа.
Мария. Пусть так! Но меня иначе воспитывали. Меня учили, что любовные ласки вяжут, как цепь, а любящие девушки слабей, чем Самсон, потерявший свои кудри.
Вейслинген. Кто вас этому научил?
Мария. Настоятельница моего монастыря. Я жила у нее до шестнадцати лет, и только с вами я вновь обрела то счастье, которое испытывала при общении с нею. Она познала любовь и могла о ней говорить. У нее было чувствительное сердце. Да, замечательная женщина.
Вейслинген. Значит, она была похожа на тебя. (Берет ее за руку.) Что со мной будет, когда я вас покину!
Мария (отнимает руку). Надеюсь, что вам будет нелегко, — я по себе сужу, но вы должны ехать.
Вейслинген. Да, моя драгоценная, и я хочу ехать. Я предчувствую, какое блаженство принесет мне эта жертва. Да будет благословен твой брат и тот день, когда он выехал, чтобы захватить меня!
Мария. Его сердце было полно надежд и за себя и за тебя. «До свиданья, — сказал он, прощаясь, — быть может, я обрету его вновь!»
Вейслинген. И он обрел его. Как бы я хотел, чтоб и защита моих имений, и управление ими не были бы так запущены, как сейчас, из-за этой пагубной придворной жизни. Тогда ты могла бы тотчас стать моею.
Мария. И в отсрочке есть свои радости.
Вейслинген. Не говори так, Мария, а то я стану бояться, что чувство твое слабее моего. Но я терплю по заслугам, и потом — какие надежды будут сопровождать каждый мой шаг! Быть всецело твоим, жить только тобою и в кругу избранных, удалиться от света, наслаждаться блаженством, которое дают друг другу два сердца! Что значат милость князей и приговор света перед этим простым и единственным счастьем? Я на многое надеялся, я желал многого, это превзошло все мои надежды и желания.
Входит Гец.
Гец. Ваш отрок снова здесь. Он едва мог слово промолвить от голода и усталости. Моя жена кормит его. Насколько я мог понять — епископ не хочет выдать моего слугу, он хочет, чтобы были назначены имперские комиссары, которые в определенный день разберут дело. Будь что будет, Адельберт, вы свободны! Я ничего больше не требую, кроме вашего рукопожатия, как доказательства того, что впредь вы ни тайно, ни явно не будете оказывать помощи моим врагам.
Вейслинген. Вот рука моя. Пусть с этого мгновения дружба и доверие будут между нами нерушимы, подобно вечному закону природы. Позвольте мне здесь же взять и эту руку (берет руку Марии), а с нею и обладание этой благородной девицей.
Гец. Могу я сказать за тебя — да?
Мария. Если вы скажете это вместе со мною.
Гец. Хорошо, что на этот раз нам на руку одно и то же. Ты не красней! Твой взгляд — лучшее доказательство. Значит — да, Вейслинген! Дайте друг другу руки, и я скажу — аминь! Друг и брат мой! Благодарю, сестра! Ты умеешь не только прясть лен. Ты ссучила нить, которой изловила эту райскую птицу. Тебе как будто не по себе, Адельберт? Чего тебе не хватает? Я совершенно счастлив, я только во сне мог мечтать об этом, теперь вижу наяву, а мне все еще кажется что я сплю! Ах, сон мой сбылся! Я видел сегодня ночью, что я даю тебе мою правую, железную руку, а ты так крепко схватил ее, что она, как сломанная, выпала из поручней. Мне стало страшно, на этом я проснулся. Мне б заснуть снова, и я б увидел, как ты приставил мне новую, живую руку. Ты смотри тотчас поезжай и приведи свой замок и поместья в порядок. Ты запустил их из-за проклятого двора. Надо позвать жену мою. Елизавета!
Мария. Как радуется брат мой!
Вейслинген. И все-таки я могу с ним поспорить о том, кто счастливее.
Гец. Ты чудесно заживешь.
Мария. Франкония — благословенная страна.
Вейслинген. И я могу сказать, что замок мой расположен в благословеннейшей и живописнейшей местности.
Гец. Можешь сказать — я подтверждаю! Там течет Майн, над ним полого возвышается гора, одетая пашнями и виноградниками и увенчанная замком. Затем река круто огибает подножие замка. Окна большой залы выходят прямо на воду — вид на многие мили.
Входит Елизавета.
Елизавета. Что тут происходит?
Гец. И ты дай руку и скажи: «Да благословит вас бог!» Они — жених и невеста.
Елизавета. Так скоро!
Гец. Но не совсем неожиданно.
Елизавета. Любите ее всегда так же, как в дни жениховства! И будьте так же счастливы, как крепко вы ее любите.
Вейслинген. Аминь! Другого счастья я и не желаю.
Гец. Жених наш, милая жена моя, совершит маленькое путешествие. Ведь большие перемены всегда ведут за собой много мелких. Он сначала удалится от епископского двора, чтоб эта дружба остыла понемногу. Затем он вырвет свои поместья из рук корыстолюбивых арендаторов. И… Идем сестра, идем, Елизавета! Оставим его одного. Его отрок, наверное, привез ему тайные известия.
Вейслинген. Ничего такого, что вы не могли бы знать.
Гец. Не надо, не надо. Франкония и Швабия! Вы теперь породнились ближе, чем когда-либо. Теперь мы будем держать князей в ежовых рукавицах!
Все трое уходят.
Вейслинген. Отец небесный! За что ты уготовал такое блаженство мне, недостойному? Сердце мое переполнено. Как мог я зависеть от жалких людей, над которыми думал властвовать, от взора князей, от льстивых похвал! Гец, дорогой Гец, ты вернул меня мне самому, а ты, Мария, довершила мое душевное перерождение. Я чувствую, что я свободен, как птица в воздухе. Я не хочу больше видеть Бамберга, я хочу порвать все те постыдные связи, которые унижали меня. Сердце мое ширится. Да, это не мучительное стремление к недоступному величию. Воистину — лишь тот велик и счастлив, кому нет нужды властвовать или повиноваться, чтобы стать кем-нибудь!
Входит Франц.
Франц. Да благословит вас бог, ваша милость. Я привез вам столько приветов, что не знаю, с которого начать. Бамберг и весь край на десять миль кругом шлют вам тысячекратный привет. Да благословит вас бог!
Вейслинген. Добро пожаловать, Франц. Что ты еще привез?
Франц. При дворе и повсюду — все заняты вами так, что и рассказать невозможно.
Вейслинген. Это недолго будет продолжаться.
Франц. До тех пор, пока вы живы, а после смерти — память о вас будет сиять ярче, чем медные буквы на надгробной плите. Как все приняли к сердцу вашу беду!
Вейслинген. Что сказал епископ?
Франц. Он так жаждал все знать, что мешал мне отвечать настойчивой поспешностью своих вопросов. Кое-что он уже знал — Фербер, ускользнувший при Гослохе, привез ему эту весть. Но он хотел знать все. Он опасливо спрашивал, не ранены ли вы. Я сказал: «Он цел и невредим от самой макушки до ногтя мизинца на ноге».
Вейслинген. Что сказал он о предложениях?
Франц. Сначала он все хотел отдать — и отрока, и еще сверх того денег, чтобы только освободить вас. Но когда узнал, что вы освободитесь и без того и что лишь слово ваше будет залогом за отрока, он решил повременить. Он дал мне сотню поручений к вам, но я их все перезабыл. Это была длинная проповедь на тему — я не могу обойтись без Вейслингена.
Вейслинген. Придется привыкнуть.
Франц. Что вы хотите сказать? Он говорил мне: «Пусть поспешит, все ждут его».
Вейслинген. Пусть ждут. Я не еду ко двору.
Франц. Не едете? Господин мой! Да что на вас нашло? Если б вы знали то, что я знаю! Если б вам присниться могло то, что я видел!
Вейслинген. Что с тобой?
Франц. При одном воспоминании — я вне себя. Бамберг — не Бамберг больше, ангел в женском образе превратил его в преддверие рая.
Вейслинген. И только-то?
Франц. Будь я поп, если вы, увидев ее, не перестанете владеть собою.
Вейслинген. Кто же она?
Франц. Адельгейда фон Вальдорф.
Вейслинген. Она! Я много слышал об ее красоте.
Франц. Слышали? Это так же верно, как если б вы сказали, что видели музыку. Разве язык может изобразить хоть одну черточку ее совершенств! Ведь даже глаз теряется в ее присутствии.
Вейслинген. Ты не в своем уме?
Франц. Может быть. Когда я видел ее в последний раз — я был не разумней пьяного. Или, вернее сказать, я ощущал в это мгновение то, что чувствуют святые перед небесным видением. Все чувства стали сильней, возвышенней, совершенней, но были в бездействии.
Вейслинген. Это странно.
Франц. Когда я прощался с епископом, она была у него. Они играли в шахматы. Он был так милостив, что протянул мне руку для поцелуя и сказал мне многое, но я ничего не слышал. Потому что смотрел на его соседку. Она устремила глаза на доску, как бы обдумывая решительный удар. Черточка легкой настороженности змеилась на щеке возле рта. О, если б я был королем из слоновой кости! Благородство и доброта сияли на челе ее! А черные волосы — как оттеняли они ослепительное сияние ее лица и груди!
Вейслинген. Да ты стал настоящим стихотворцем!
Франц. Значит, в это мгновение я ощущаю то, что превращает нас в поэтов, сердце мое полно — полно единым чувством! Когда епископ окончил речь и я поклонился, она взглянула на меня и промолвила: «И от меня привет незнакомки. Скажи ему, чтоб приезжал поскорее. Его ждут новые друзья. Он не должен пренебрегать ими, хоть и богат старыми друзьями». Я хотел что-то ответить, но путь от сердца к языку был прегражден, и я лишь поклонился. Я отдал бы все на свете за то, чтобы посметь поцеловать кончики ее тонких пальцев! Пока я медлил, епископ уронил пешку, я нагнулся за нею и, подымаясь, коснулся края ее платья, огонь пробежал у меня по жилам, и я не знаю, как нашел дверь.
Вейслинген. Муж ее при дворе?
Франц. Уже четыре месяца, как она овдовела. Она приехала в Бамберг, чтобы рассеяться. Вы увидите ее. Когда она взглянет, кажется, будто стоишь на весеннем солнце.
Вейслинген. На меня бы это не подействовало так сильно.
Франц. Я слышал — вы почти что женаты.
Вейслинген. Надеюсь, так оно и будет. Моя нежная Мария составит счастье моей жизни. Ее сладостная душа отражается в ее синих глазах. Светлая, как ангел небесный, сотканная из любви и невинности, она ведет мое сердце к покою и блаженству. Укладывайся и — в мой замок! Я не хочу видеть Бамберга, хотя бы святой Фейт самолично требовал меня. (Уходит.)
Франц. Сохрани нас боже от этого! Будем надеяться на лучшее. Мария нежна и прекрасна. Больному пленнику нельзя ставить в вину то, что он в нее влюбился. В ее глазах — утешение, пленительная томность. Но за тобой, Адельгейда, жизнь, огонь, отвага! Будь я… — нет, я уже дурак! — меня свел с ума один ее взгляд. Господин мой должен ехать туда! Я должен ехать туда! Там, глядя на нее, я или снова приду в себя, или обезумею совсем!
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
БАМБЕРГ. ЗАЛА
Епископ, Адельгейда играют в шахматы, Либетраут с цитрой. Придворные дамы и кавалеры вкруг него и у камина.
Либетраут
(играет и поет)
Амур со стрелами
Явился меж нами,
Он факел воздел.
Всех мужеской бранью
И буйственной дланью
Пленить захотел.
Так! Так!
Ах! Ах!
Колчаном он блещет,
Крылами трепещет
И взором зардел.
Увидел он груди,
Увы! — без всего.
Все на руки брали
Охотно его.
И сыпал он стрелы,
И жег, не шутя,
Любили, ласкали,
Качали дитя.
Гей-ей-о! Попейо!
Адельгейда. Вы невнимательны. Шах королю!
Епископ. Еще есть выход.
Адельгейда. Теперь вы долго не протянете. Шах королю!
Либетраут. Я не играл бы в эту игру, будь я высокой особой, и даже запретил бы ее при дворе и во всем государстве.
Адельгейда. Действительно, игра эта — пробный камень для ума.
Либетраут. Не потому! Я предпочел бы слушать вой погребального колокола и зловещих птиц или лай сварливой дворовой собаки — совести; лучше внимать им средь глубокого сна, чем слышать от слонов, коней и прочей твари это вечное — шах королю!
Епископ. Кому подобное взбредет на ум?
Либетраут. Тому, например, кто слаб, но имеет крепкую совесть, а чаще всего одно сопутствует другому. Называют шахматы королевской игрой и говорят, что они были изобретены для короля, который осыпал изобретателя милостями. Если это правда, мне кажется, я его вижу. Он был недорослем — по уму или по годам, находился под опекой матери или жены, легкий пух покрывал его подбородок, льняной локон вился у виска, он был гибок, как ивовый хлыст, в шашках любил проходить в дамки, любил он играть и с дамами, не по страсти, — боже сохрани! — а так, для препровождения времени. Его воспитатель, слишком деятельный, чтобы быть ученым, и слишком негибкий, чтобы быть светским человеком, in usum Delphini изобрел эту игру, столь однородную с его величеством… и так далее.
Адельгейда. Мат! Вы должны восполнить пробелы наших исторических сочинений, Либетраут.
Они встают.
Либетраут. Восполнить пробелы наших родословных книг было бы выгоднее. С тех пор как заслуги наших предков и их портреты употребляются для одинаковых целей, то есть ими заполняется пустота наших комнат и нашего характера, — здесь есть на чем заработать.
Епископ. Так вы говорите, он не хочет приехать?
Адельгейда. Пожалуйста, выкиньте это из головы.
Епископ. Но в чем тут дело?
Либетраут. Причины… Их можно перебрать, как четки. Он впал в некоторого рода угнетенное состояние, от которого я бы легко мог его вылечить.
Епископ. Сделайте это, поезжайте к нему.
Либетраут. Мои полномочия?
Епископ. Они неограниченны. Я ничего не пожалею, если ты привезешь его.
Либетраут. Могу ли я замешать и вас в это дело, госпожа моя?
Адельгейда. С осторожностью.
Либетраут. Затруднительное поручение!
Адельгейда. Разве вы так мало меня знаете или так молоды, что не понимаете, в каком топе надо говорить обо мне с Вейслингеном?
Либетраут. Я думаю, что в тоне дудки для приманивания перепелов.
Адельгейда. Вы никогда не станете умнее!
Либетраут. А разве это возможно, госпожа моя?
Епископ. Ступайте, ступайте! Возьмите лучшего коня в моей конюшне, выберите себе рейтаров и доставьте его мне.
Либетраут. Если я не залучу его сюда — можете сказать, что старая баба, которая сводит веснушки и бородавки, знает больше толку в заклинаниях, чем я.
Епископ. Да разве это поможет? Берлихинген совершенно околдовал его. Если он и приедет, то сейчас же захочет уехать.
Либетраут. Захотеть-то он захочет, а вот сможет ли? Рукопожатье князя и улыбка красавицы! Тут не увернется никакой Вейслинген. Я спешу. Мое почтение.
Епископ. Счастливого пути.
Адельгейда. Прощайте!
Либетраут уходит.
Епископ. Только бы он был здесь, а там — я полагаюсь на вас.
Адельгейда. Я буду силком?
Епископ. О нет!
Адельгейда. Значит, птицей для приманки?
Епископ. Нет, ею будет Либетраут. Я прошу вас — не отказывайте мне в том, чего никто, кроме вас, не может сделать.
Адельгейда. Посмотрим.
ЯКСТГАУЗЕН
Ганс фон Зельбиц. Гец.
Зельбиц. Каждый одобрит вас за то, что вы объявили открытую войну нюрнбергцам.
Гец. Если б я дольше оставался у них в долгу, я бы извелся. Ведь ясно, как день, — это они предали моего оруженосца бамбергцам. Теперь попомнят меня!
Зельбиц. У них давняя злоба на вас.
Гец. А у меня — на них. Мне на руку, что они начали.
Зельбиц. Имперские города вечно заодно с попами.
Гец. У них есть на то основания.
Зельбиц. Мы зададим им жару.
Гец. Я рассчитывал на вас. Если, даст бог, в наши руки попадется бургомистр нюрнбергский с золотою цепью на шее, — он станет в тупик со всей своей премудростью.
Зельбиц. Я слышал, что Вейслинген снова на вашей стороне. Он присоединится к нам?
Гец. Нет еще. Есть причины на то, чтобы он пока не оказывал нам открытой поддержки, на некоторое время достаточно и того, что он не против нас. Поп без него то же, что ряса без попа.
Зельбиц. Когда мы выезжаем?
Гец. Завтра или послезавтра. Скоро на франкфуртскую ярмарку поедут бамбергские и нюрнбергские купцы. У нас будет хороший улов.
Зельбиц. Дай бог! (Уходит.)
БАМБЕРГ. КОМНАТА АДЕЛЬГЕЙДЫ
Адельгейда. Прислужница.
Адельгейда. Он здесь, говоришь ты? Я едва этому верю.
Прислужница. Если бы я его не видела, я бы сама сомневалась.
Адельгейда. Епископ должен озолотить Либетраута, он сделал дело мастерски.
Прислужница. Я видела его, когда он въезжал в замок. Он сидел на белом коне. У моста лошадь заартачилась и не хотела двинуться с места. Со всех улиц бежал народ, чтобы взглянуть на него. Они были довольны, что лошадь заупрямилась. Его приветствовали со всех сторон, и он благодарил всех. Так он сидел в седле спокойно и величаво, пока угрозой и лаской не заставил коня въехать в ворота; за ним последовал Либетраут с несколькими рейтарами.
Адельгейда. Как он тебе нравится?
Прислужница. Как ни один мужчина до сих пор. Он похож на императора здесь (указывает на портрет Максимилиана), как сын родной. Нос только немножко поменьше. Такие же ласковые светло-карие глаза, такие же чудные белокурые волосы, а сложен — как куколка. Полупечальная черточка на лице его — не знаю отчего — ужасно мне понравилась!
Адельгейда. Любопытно взглянуть на него.
Прислужница. Вот был бы муж для вас!
Адельгейда. Дурочка!
Прислужница. Дети и дураки…
Входит Либетраут.
Либетраут. Ну, госпожа моя, чего я заслуживаю?
Адельгейда. Рогов от жены твоей! Ведь если судить по этому случаю, вы должны были своей болтовней совратить с пути истинного не одну жену ближнего своего.
Либетраут. Да нет же, госпожа моя! Возвратить на путь истинный, хотите вы сказать. Ведь если что и случалось, — то на ее же брачном ложе.
Адельгейда. Что вы сделали, чтобы привести его?
Либетраут. Вы слишком хорошо знаете сами, как ловят куликов, — разве надо вас учить еще и моим штукам? Сначала я прикинулся, что ничего не знаю и ничего не понимаю в его поведении. Тут-то и пришлось ему, к невыгоде своей, рассказать мне всю историю. На нее я тотчас же посмотрел с совсем другой точки, чем он: не мог понять, не мог постичь и т. д. Затем я стал рассказывать разные разности о Бамберге — дело и вздор, пробудил некоторые старые воспоминания, и как только я овладел его воображением, я прочно связал снова целую массу нитей, которые уже были разорваны. Он не знал, что с ним происходит, его вновь повлекло в Бамберг, почему — он и сам не знал. Когда же он углубился в себя, пробуя все это распутать, и был слишком занят собою, чтобы быть настороже, я опутал его сетью из трех могучих петель — княжеской милости, женской благосклонности и лести. Так я и притащил его.
Адельгейда. Что вы сказали ему обо мне?
Либетраут. Чистую правду. У вас неприятности с имениями, и вы надеетесь, что он благодаря своему влиянию на императора легко с ними покончит.
Адельгейда. Прекрасно!
Либетраут. Епископ приведет его к вам. (Уходит.)
Адельгейда. Я жду их с такими чувствами, с какими редко жду гостей.
В ШПЕССАРТЕ
Берлихинген. Зельбиц. Георг в одежде рейтара.
Гец. Ты не застал его, Георг?
Георг. За день перед этим он уехал в Бамберг с Либетраутом и двумя рейтарами.
Гец. Не могу понять, что это значит.
Зельбиц. А я понимаю. Ваше примирение было слишком поспешным для того, чтобы быть прочным. Либетраут — малый продувной, он обошел его.
Гец. Ты думаешь, что он способен на вероломство?
Зельбиц. Первый шаг сделан.
Гец. Я этого не думаю. Кто знает, зачем ему понадобилось ехать ко двору. Там еще перед ним в долгу. Будем надеяться на лучшее.
Зельбиц. Дай бог, чтобы он заслуживал благих надежд!
Гец. Я придумал хитрость. Мы наденем на Георга захваченный у бамбергцев камзол рейтара и дадим ему пропуск, — пусть скачет в Бамберг и узнает, как обстоит дело.
Георг. Я давно этого хочу.
Гец. Это — твой первый набег. Будь осторожен, мальчик. Мне будет больно, если с тобою случится несчастие.
Георг. Полно! Пусть их копошатся вокруг меня сколько угодно, это меня не смутит, — они для меня все равно, что крысы или мыши. (Уходит.)
БАМБЕРГ
Епископ. Вейслинген.
Епископ. Ты не хочешь здесь дольше оставаться?
Вейслинген. Ведь вы не потребуете, чтобы я нарушил свою клятву.
Епископ. Я мог бы потребовать, чтобы ты не давал ее. Что за дух тебя обуял? Разве я не мог тебя освободить и без этого? Разве я так мало значу при императорском дворе?
Вейслинген. Так случилось. Простите мне, если можете.
Епископ. Понять не могу, что тебя побудило к такому шагу! Отступиться от меня? Разве нельзя было найти сотни других возможностей, чтобы освободиться? Разве нет у нас его оруженосца? Разве у меня мало денег, чтобы удовлетворить Геца? А мы тем временем продолжали бы действовать против него и его помощников. — Ах, я и забыл, что говорю с его другом, который теперь сам действует против меня и спокойно может взорвать те подкопы, которые некогда вырыл сам!
Вейслинген. Ваше преосвященство!
Епископ. И все-таки, когда я снова вижу твое лицо и слышу твой голос, — это невозможно, невозможно!
Вейслинген. Прощайте, ваше преосвященство!
Епископ. Да будет с тобою мое благословение! Раньше, когда ты уходил, я говорил до свиданья, теперь скажу — дай бог, чтобы мы больше никогда не увиделись.
Вейслинген. Многое может измениться.
Епископ. И так уже изменилось слишком многое. Быть может, я еще увижу тебя с оружием в руках перед моими стенами, опустошающим те поля, которые теперь обязаны тебе своим цветущим состоянием.
Вейслинген. Нет, господин мой!
Епископ. Ты не можешь сказать — нет! Светские владыки — мои соседи — все точат на меня зубы. Покамест ты был у меня… Ступайте, Вейслинген! Мне больше нечего сказать вам. Вы многое превратили в ничто. Ступайте!
Вейслинген. Я не знаю, что мне сказать.
Епископ уходит.Входит Франц.
Франц. Адельгейда ждет вас. Она нездорова. И все-таки она не хочет отпустить вас, не простившись.
Вейслинген. Идем.
Франц. Мы в самом деле едем?
Вейслинген. Сегодня же вечером.
Франц. Я чувствую себя так, будто расстаюсь с белым светом.
Вейслинген. Я тоже, и притом еще не знаю, куда после этого попаду.
КОМНАТА АДЕЛЬГЕЙДЫ
Адельгейда. Прислужница.
Прислужница. Вы бледны, госпожа моя.
Адельгейда. Я не люблю его и все-таки хотела бы, чтобы он остался. Видишь ли, я могла бы жить с ним, хотя сейчас и не хочу за него замуж.
Прислужница. Вы думаете, он уедет?
Адельгейда. Он пошел проститься с епископом.
Прислужница. После этого он очутится в тяжелом положении.
Адельгейда. Что это значит?
Прислужница. Что вы спрашиваете, госпожа моя? Вы подцепили на крючок его сердце, — если он захочет сорваться с него, он сам истечет кровью.
Адельгейда. Вейслинген.
Вейслинген. Вы нездоровы, сударыня?
Адельгейда. Что вам до того? Вы покидаете нас, покидаете навсегда. Зачем же спрашивать, живы ли мы или умираем?
Вейслинген. Вы ошибаетесь во мне.
Адельгейда. Я принимаю вас за то, за что вы себя выдаете.
Вейслинген. Наружность обманчива.
Адельгейда. Значит, вы хамелеон?
Вейслинген. Если бы вы могли заглянуть в мое сердце!
Адельгейда. Прекрасные вещи открылись бы моим глазам!
Вейслинген. Конечно! Вы увидели бы там ваш образ.
Адельгейда. В каком-нибудь углу, рядом с портретами умерших родственников. Прошу вас не забывать, Вейслинген, что вы говорите со мной. Лживые слова ценны только тогда, когда они служат личиною для наших дел. Замаскированный, которого можно узнать, играет жалкую роль. Вы не отрицаете ваших поступков, но говорите противоположное им. Что же мне думать о вас?
Вейслинген. Что хотите! Я слишком измучен тем, что я есть, и мне все равно, за что меня можно принять.
Адельгейда. Вы пришли проститься?
Вейслинген. Позвольте мне поцеловать вашу руку, и я скажу вам: «Счастливо оставаться». Вы напоминаете мне! Я не сообразил… я в тягость вам!
Адельгейда. Вы ложно истолковали мои слова: я хотела помочь вам уйти. Ведь вы хотите уйти?
Вейслинген. Скажите лучше, что я должен. Если бы меня не увлекали рыцарский долг и честное слово…
Адельгейда. Подите! Подите! Рассказывайте это девочкам, которые читают о рыцаре Тейерданке и мечтают о таком муже. Рыцарский долг! Детская игра!
Вейслинген. Вы этого не думаете.
Адельгейда. По чести, вы притворяетесь! Что вы обещали? И кому? Человеку, который не признает своего долга перед императором и государством, и притом в то мгновение, когда он взял вас в плен и тем самым поставил себя вне закона. Говорить о долге, когда долг этот есть не что иное, как насильственно вынужденное обещание! Разве законы наши не освобождают от таких клятв? Рассказывайте это детям, которые верят в Рюбецаля. За этим скрывается другое. Стать врагом государства, врагом покоя и счастья граждан! Враг императора! Помощник разбойника! Ты, Вейслинген, с твоей нежной душою…
Вейслинген. Если б вы его знали…
Адельгейда. Я отдаю ему должное. У него высокая, неукротимая душа. Именно поэтому — горе тебе, Вейслинген! Иди и готовься стать его рабом. Ты приветлив, мягок…
Вейслинген. И он также.
Адельгейда. Но ты уступчив, а он — нет. Он увлечет тебя незаметно, ты станешь рабом дворянина, ты, который мог бы быть владыкою князей. Впрочем, бесчеловечно внушать тебе отвращение к будущему твоему состоянию.
Вейслинген. Если б ты могла почувствовать, с какой любовью он меня встретил!
Адельгейда. С любовью! Ты это ему ставишь в заслугу! Но ведь это был его долг. Да и что бы ты потерял, если бы он был суров? Мне это было бы даже приятнее. Человек столь высокомерный, как он…
Вейслинген. Вы говорите о враге вашем.
Адельгейда. Я говорила о вашей свободе. И вообще не знаю, зачем вмешалась в это дело. Прощайте!
Вейслинген. Еще одно мгновение. (Берет ее руку и молчит.)
Адельгейда. Вы имеете сказать еще что-нибудь?
Вейслинген. Я должен удалиться.
Адельгейда. Так идите.
Вейслинген. Я не могу.
Адельгейда. Вы должны.
Вейслинген. И это ваше последнее слово?
Адельгейда. Ступайте, я больна и очень не кстати.
Вейслинген. Не смотрите на меня так.
Адельгейда. Ты хочешь быть нашим врагом, а мы должны тебе улыбаться? Уходи!
Вейслинген. Адельгейда!
Адельгейда. Я ненавижу вас.
Входит Франц.
Франц. Господин мой! Епископ зовет вас.
Адельгейда. Идите! Идите!
Франц. Он просит вас прийти поскорее.
Адельгейда. Идите! Идите!
Вейслинген. Я не прощаюсь, я еще увижу вас.
Уходят.
Адельгейда. Еще увидит меня? Ну, это мы посмотрим! Маргарита, когда он придет, откажи ему. Я нездорова, у меня голова болит, я сплю. Откажи ему. Если можно еще завоевать его, то только этим путем.
ПРИХОЖАЯ
Вейслинген. Франц.
Вейслинген. Она не хочет меня видеть?
Франц. Надвигается ночь. Седлать ли коней?
Вейслинген. Она не хочет меня видеть?
Франц. Когда вы прикажете подать коней, ваша милость?
Вейслинген. Уж слишком поздно. Мы остаемся здесь.
Франц. Слава тебе, господи! (Уходит.)
Вейслинген. Ты остаешься? Будь настороже — искушение слишком велико. Конь мой заартачился, когда я хотел въехать в ворота замка. Мой добрый гений преградил ему путь — он знал опасности, которые меня здесь ждали. Но все-таки было бы несправедливо бросить дела епископа, которые я оставил неоконченными, — их надо привести хотя бы в такой порядок, чтобы преемник мой мог начать там, где я кончил. Все это я могу сделать, не изменяя Берлихингену и нашему союзу. Потому что они не должны меня здесь задержать. Все-таки было бы лучше, если бы я сюда вовсе не приезжал. Но я уеду — завтра или послезавтра.
В ШПЕССАРТЕ
Гец. Зельбиц. Георг.
Зельбиц. Вы видите, сбылось все, что я предсказывал.
Гец. Нет! Нет! Нет!
Георг. Поверьте — я говорю вам чистую правду. Я выполнил ваше приказание, надел камзол бамбергца, захватил его пропуск и, чтоб заработать на еду, взялся проводить рейнекских крестьян до Бамберга.
Зельбиц. Переряженным? Это могло бы худо обернуться.
Георг. Я и сам так думаю, когда уже это позади. Рейтар, который загадывает вперед, далеко не уедет. Я прибыл в Бамберг и уже в гостинице услышал рассказ о том, что Вейслинген помирился с епископом. Много говорят и о его женитьбе на вдове фон Вальдорфа.
Гец. Сплетни!
Георг. Я видел, как он вел ее к столу. Она хороша, по чести, она очень хороша. Мы все ей поклонились, и она поблагодарила нас, он кивнул головою и, казалось, был очень доволен. Они прошли мимо, и народ шептал: «Прекрасная чета!»
Гец. Это возможно.
Георг. Слушайте дальше. Когда он на другой день пошел к обедне — я улучил мгновение. С ним был лишь один отрок. Я стоял внизу у лестницы и тихо сказал ему: «Два слова от вашего Берлихингена». Он был поражен, на лице его я прочел признание вины, у него едва хватило духу взглянуть на меня, — на жалкого юношу-рейтара.
Зельбиц. Значит, совесть его была еще ниже, чем твое звание.
Георг. «Ты бамбергский?» — спросил он. «Я привез привет от рыцаря Берлихингена, — сказал я, — и должен узнать…» — «Приходи завтра поутру в мои покои, — сказал он, — мы продолжим беседу».
Гец. Ты пошел?
Георг. Да, я пошел и долго-долго ждал в прихожей. Толпы шелковых пажей оглядывали меня спереди и сзади. Я думал — смотрите себе. Наконец меня ввели к нему, он казался рассерженным. Мне это было безразлично. Я подошел к нему и изложил то, что мне было поручено. Он представился страшно разгневанным — как человек, который испугался и не хочет, чтобы это заметили. Он удивился, что вы передаете поручения с мальчиком-рейтаром. Это рассердило меня, и я сказал, что есть лишь две породы людей — честные и негодяи, а я служу Гецу фон Берлихингену. Тогда он начал болтать всякий вздор, из которого следовало, что вы напали на него врасплох, что у него нет обязательств по отношению к вам и что он не желает иметь с вами никакого дела.
Гец. Ты это слышал из его уст?
Георг. И это, и многое другое. Он угрожал мне.
Гец. Довольно! Неужели и этот потерян? Верность и вера, вы обманули меня снова! Бедная Мария! Как я скажу ей об этом?
Зельбиц. Я б лучше согласился потерять другую ногу, чем быть таким подлецом.
БАМБЕРГ
Адельгейда. Вейслинген.
Адельгейда. Время тянется невыносимо, я не в состоянии говорить, и мне стыдно играть с вами. Скука, ты несносней лихорадки!
Вейслинген. Я уже надоел вам.
Адельгейда. Не столько вы, сколько ваше обращение. Я бы желала, чтобы вы были там, где хотели быть, и чтобы мы не удержали вас.
Вейслинген. Такова благосклонность женщин! Сначала они с материнской теплотою пригревают заветнейшие ваши надежды, затем, подобно ветреной наседке, покидают гнездо и предают свое нарождающееся потомство смерти и тлению.
Адельгейда. Да, браните женщин! Безрассудный игрок кусает и топчет неповинные карты, которые его сгубили. Дайте-ка я расскажу вам о мужчинах. Вам ли говорить о непостоянстве? Вам, которые редко бывают тем, чем хотят быть, и никогда тем, чем должны? Короли в праздничном убранстве, которым завидует чернь! Много бы дала какая-нибудь швейка, чтобы обвить вокруг шеи ту нить жемчуга с полы вашей одежды, которую небрежно отбрасывает ваш каблук.
Вейслинген. Вы язвительны.
Адельгейда. Это антистрофа вашей песни. До того, как я вас встретила, Вейслинген, со мною было то же, что с этой швейкой. Стоустая — говоря без метафор — молва так неумеренно восхваляла вас, что я дала себя убедить и пожелала увидеть в лицо эту квинтэссенцию мужского пола, этого Феникса — Вейслингена! Мое желание сбылось.
Вейслинген. И вместо Феникса явился обыкновенный петух.
Адельгейда. Нет, Вейслинген, я приняла в вас участие.
Вейслинген. Так казалось.
Адельгейда. Так и было. Ведь в действительности вы превзошли свою славу. Толпа ценит лишь отблеск истинных заслуг. Я такова, что не умею судить о людях, к которым расположена. И вот мы жили рядом некоторое время, мне чего-то не хватало, но я не могла понять, чего в вас недостает. Наконец глаза мои открылись. Вместо деятеля, который вносит жизнь во все дела государства, не забывая при этом себя и своей славы, вместо человека, который, нагромождая друг на друга сотни великих предприятий, возносится по ним до облаков, я увидела вдруг человека, который ноет, как больной поэт, предается меланхолии, как здоровая девушка, и более склонен к праздности, чем старый холостяк. Сначала я приписывала это вашей неудаче, которая была еще свежа в вашей памяти, и извиняла вас, насколько могла. Но теперь, когда дело с вами день ото дня становится хуже, вы должны меня извинить, если я отниму у вас мое расположение. Вы владеете им не по праву: я на всю жизнь отдала его другому, и он не может вам его передоверить.
Вейслинген. Так отпустите меня!
Адельгейда. Нет, пока последняя надежда еще не потеряна. Уединение при таких обстоятельствах опасно. Несчастный! Вы так расстроены, будто вам изменила первая возлюбленная! Именно потому я не оставлю вас. Дайте руку и простите мне все, что я наговорила только из любви к вам.
Вейслинген. Если б ты могла полюбить меня! Если б ты могла дать хоть каплю облегчения моей жгучей страсти! Адельгейда! Упреки твои совершенно несправедливы! Если б ты могла почувствовать хотя бы сотую долю того, что со мной творится все это время, ты не терзала бы меня так безжалостно своей любезностью, равнодушием и презрением. Ты улыбаешься? Снова стать самим собою после опрометчивого шага — на это нужен не один день. Действовать против человека, память о котором свежа в моем сердце!
Адельгейда. Странный ты человек, если можешь любить того, кому завидуешь! Это все одно, что подвозить провиант врагу.
Вейслинген. Я чувствую сам, что колебания невозможны. Он предупрежден о том, что я снова Вейслинген, и постарается воспользоваться своими преимуществами над нами. Но и мы, Адельгейда, не так беспечны, как ты думаешь. Наши рейтары удвоены в числе, и они бдительны, наши переговоры продолжаются, и надо надеяться, что имперский сейм в Аугсбурге приведет в исполнение все наши планы.
Адельгейда. Вы туда отправляетесь?
Вейслинген. Если б мог увезти с собою хоть надежду! (Целует ее руку.)
Адельгейда. О вы, неверные! Вечно знамения и чудеса. Поезжай, Вейслинген, и заверши дело. Выгоды епископа так тесно сплелись с твоими и моими, что если б даже дело шло только об одной политике…
Вейслинген. И ты можешь шутить?
Адельгейда. Я не шучу. Мои поместья захватил гордый герцог, твои — Гец недолго оставит в покое. И если мы не будем поддерживать друг друга, как это делают враги наши, и не склоним императора на нашу сторону — мы погибли.
Вейслинген. Этого я не боюсь. Большинство князей на нашей стороне. Император требует помощи против турок, за это, естественно, он должен поддержать нас. Каким блаженством будет для меня освободить твои поместья от надменного врага, усмирить беспокойные головы в Швабии и дать покой епископству и всем нам! И тогда…
Адельгейда. Дни сменяются днями, а будущее в руках судьбы.
Вейслинген. Но мы должны желать.
Адельгейда. Мы и желаем.
Вейслинген. В самом деле?
Адельгейда. Ну да! Поезжайте же!
Вейслинген. Волшебница!
ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР. КРЕСТЬЯНСКАЯ СВАДЬБА
За стеной музыка и танцы. Гец, Зельбиц, тесть сидят за столом. Входит жених.
Гец. Благоразумнее всего было покончить эти дрязги счастливо и весело — свадьбой.
Тесть. Лучшего мне и присниться не могло. С соседом в мире и ладу, и дочка хорошо пристроена.
Жених. А я владею спорным участком и самой красивой девицей на селе в придачу. Эх, если б вы раньше до этого додумались.
Зельбиц. А долго вы судились?
Тесть. Без малого восемь лет. Теперь я скорее согласился бы столько же времени трястись в лихорадке, чем начать все сначала. Вы не поверите, сколько намаешься, пока вытянешь у судейских париков решение. Да и какой в нем прок? Черт бы побрал асессора Сапупи! Вот проклятый черномазый итальянец!
Жених. Да, бедовый парень. Я там два раза был.
Тесть. А я три. И вот, господа мои хорошие, получили мы наконец приговор, по которому я так же прав, как он, а он, как я, и стояли мы, разинув рот, до тех пор, пока господь бог наш не надоумил меня отдать ему дочку, да и участок в придачу.
Гец (пьет). За мир и согласие в будущем!
Тесть. Дай-то бог! Будь как будет, а уж судиться я никогда в жизни не стану. Что за уйму денег это стоило! Прокуратору за каждую справку плати.
Зельбиц. Но ведь там бывают имперские ревизии!
Тесть. Их мы и не нюхивали. А вот светлые талеры у меня повыскакивали из кармана. Чистый грабеж!
Гец. Как это?
Тесть. Ах, у всех там руки загребущие! Один асессор, бог ему прости, обобрал меня на восемнадцать гульденов.
Жених. Кто?
Тесть. Ну кто же, как не Сапупи.
Гец. Это бессовестно!
Тесть. Собственно, я должен был ему выложить двадцать, но когда я их отсчитал у него на даче — роскошная дача! — в большой зале, у меня от тоски чуть сердце не разорвалось. Хозяйство-то хоть и в порядке, а наличным откуда быть? Так я и стоял, и один бог знает, каково мне было. Гроша медного на дорогу не оставалось. Тут я собрался с духом и выложил ему все это. Как он увидал, что я стоял, как в воду опущенный, так бросил мне два гульдена обратно и выгнал меня вон.
Жених. Быть того не может! Неужто Сапупи?
Тесть. А ты что думал? Конечно! Он самый!
Жених. Так пусть черт его возьмет — ведь он и у меня забрал пятнадцать золотых гульденов!
Тесть. Проклятый!
Зельбиц. Гец! Нас зовут разбойниками!
Тесть. Оттого-то и приговор вышел такой хитрый. Ах ты, пес!
Гец. Вы не должны это оставить безнаказанным.
Тесть. Что же нам делать?
Гец. Ступайте в Шпейер: там теперь ревизия, объявите об этом — они должны расследовать дело и помочь вам.
Тесть. Вы думаете — мы этого добьемся?
Гец. Если б я мог дать им по уху — я бы обещал вам.
Зельбиц. Деньги такие, что попробовать стоит.
Гец. Я делал наезды и за четверть того.
Тесть. Как ты думаешь?
Жених. Попробуем — будь что будет!
Входит Георг.
Георг. Нюрнбергцы приближаются.
Гец. Где они?
Георг. Если мы двинемся потихоньку, то захватим их в лесу между Бергеймом и Мюльбахом.
Зельбиц. Отлично!
Гец. В путь, дети! Бог да благословит вас! И да поможет он нам в делах наших!
Крестьянин. Премного благодарны! Не останетесь ли вы на ужин?
Гец. Нам нельзя. Прощайте!
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
АУГСБУРГ. САД
Два нюрнбергских купца.
Первый купец. Станем здесь. Император должен пройти мимо. Вот он идет по большой аллее.
Второй купец. Кто с ним?
Первый. Адельберт фон Вейслинген.
Второй. Друг Бамберга! Это хорошо!
Первый. Мы бросимся на колени, и я буду держать речь.
Второй. Ладно, вот они идут.
Император. Вейслинген.
Первый купец. У него расстроенный вид.
Император. Мне тяжко, Вейслинген, а когда я оглянусь на мое прошлое — я готов прийти в отчаяние: сколько незавершенных, сколько неудачных предприятий! И все это оттого, что в империи для самого малого из князей его прихоти важнее моих замыслов.
Купцы бросаются к его ногам.
Купец. Всесветлейший! Всемогущий!
Император. Кто вы? Что случилось?
Купец. Бедные купцы из Нюрнберга, слуги вашего величества, и молим о помощи. Гец фон Берлихинген и Ганс фон Зельбиц напали на тридцать людей наших, которые через бамбергские владения возвращались с франкфуртской ярмарки, и ограбили их. Мы просим ваше императорское величество о помощи и поддержке, иначе все мы пропали и пойдем по миру!
Император. Господи! Господи! Что же это такое? У одного лишь одна рука, у другого — лишь одна нога, ну, а если б у них было по две руки и по две ноги, что бы вы тогда делали?
Купец. Мы всеподданнейше просим ваше величество обратить милостивое око на стесненные наши обстоятельства.
Император. Вот так всегда! Когда у купца пропадает мешок перцу, надо поднять на ноги всю империю, а если предстоит дело, важное для императора и империи, касающееся королевств, княжеств, герцогств или прочих владений, тогда вас никто не соберет.
Вейслинген. Вы пришли не вовремя. Ступайте и подождите несколько дней.
Купцы. Поручаем себя вашей милости. (Уходят.)
Император. Новые распри! Они вырастают, как головы гидры.
Вейслинген. И их не искоренить ничем, кроме огня, меча и решительных мер.
Император. Вы думаете?
Вейслинген. Мне кажется, что это было бы благоразумнее всего, если б, конечно, ваше величество предварительно поладили с князьями в незначительных спорах. Ведь почти вся Германия молит об успокоении. Лишь во Франконии и Швабии тлеют еще искры гибельного междоусобия. Но и там есть много благородных и свободных рыцарей, которые жаждут покоя. Как только мы избавимся от Зикингена, Зельбица, Берлихингена, остальное быстро распадется само собой. Ибо их дух оживляет мятежные толпы.
Император. Я бы очень хотел пощадить этих людей — они смелы и благородны. Когда я буду воевать, они будут со мною на поле сражения.
Вейслинген. Было бы желательно, чтобы они сначала научились исполнять долг свой! И, кроме того, было бы очень опасно награждать их почетными должностями за мятежные дела. Ведь до сих пор они чудовищно злоупотребляли именно этой императорской кротостью и милостью; а их приверженцы, которые на это же возлагают все свои упования и надежды, не будут укрощены до тех пор, пока мы не сотрем с лица земли их главарей и не уничтожим до конца всякую надежду их на будущее.
Император. Итак, вы советуете прибегнуть к строгости?
Вейслинген. Я не вижу других средств изгнать тот дух безумия, который охватил целые области. Разве кое-где мы уже не слышим горьких жалоб дворянства на то, что их подданные, их крепостные возмущаются против них, спорят, грозят ограничить их верховные права, данные правом рождения, так что надо ожидать опаснейших последствий.
Император. Сейчас представится прекрасный случай привести к повиновению Берлихингена и Зельбица, но я не хочу, чтоб им причинили зло. Я бы хотел только взять их в плен, и чтобы они поклялись отказаться от наездов, жить спокойно в своих замках и не выходить из пределов своих полномочий. Я предложу это на собрании ближайшей сессии.
Вейслинген. И радостные, единодушные клики одобрения будут ответом на речи вашего величества, прежде чем она будет окончена.
Уходят.
ЯКСТГАУЗЕН
Зикинген. Берлихинген.
Зикинген. Да, я пришел просить руки и сердца благородной сестры вашей.
Гец. О, если бы вы пришли раньше! Должен вам сказать, что Вейслинген во время плена снискал ее любовь, — посватался, и я дал ему согласие. Я выпустил его из рук — эту птицу, и он пренебрегает теперь той благостной рукою, которая кормила его в беде. Он порхает и ищет себе корма бог весть в каком птичнике.
Зикинген. И это правда?
Гец. До последнего слова.
Зикинген. Он порвал двойную цепь. Ваше счастье, что вы не породнились с предателем.
Гец. Она сидит, бедная девушка, и собирается проплакать и промолиться всю жизнь.
Зикинген. С нами она скоро запоет опять.
Гец. Как? Вы решаетесь жениться на покинутой?
Зикинген. Вам обоим только делает честь то, что вы были им обмануты. Разве бедная девушка должна идти в монастырь из-за того, что первый мужчина, которого она узнала, оказался негодяем? Так нет же! Я стою на своем — она должна стать царицей моих замков.
Гец. Но ведь я говорю вам, что она была к нему неравнодушна.
Зикинген. Так ты не надеешься на то, что я смогу прогнать тень этого несчастного? Идем к ней!
Уходят.
ЛАГЕРЬ ИМПЕРСКОГО ОТРЯДА
Капитан. Мы должны действовать осмотрительно и щадить наших людей, насколько возможно. Кроме того, нам строго приказано окружить его со всех сторон и взять в плен живьем. Это будет нелегко — ведь кто посмеет к нему подступиться?
Первый офицер. Действительно! Ведь он будет защищаться, как дикий вепрь! И вообще — он за всю жизнь не причинил нам никакого зла, и всякий постарается увильнуть от того, чтоб жертвовать из-за императора и империи собственными руками и ногами.
Второй офицер. Вот будет стыд, если мы его упустим! Ну, уж если я ухвачу его за полу — ему не вывернуться!
Первый офицер. Только зубами не хватайтесь, а то он выломает вам челюсть. Милый юноша! Такие люди не дают себя забрать, как беглого вора.
Второй офицер. Посмотрим!
Капитан. Наше письмо он, верно, уже получил. Не будем медлить и пошлем отряд для наблюдения за ним.
Второй офицер. Позвольте мне вести его.
Капитан. Вы не знаете местности.
Второй офицер. В моем отряде есть человек, который здесь родился и вырос.
Капитан. Пусть будет так.
Уходят.
ЯКСТГАУЗЕН
Зикинген. Все идет на славу! Она была немножко смущена моим предложением и оглядела меня с ног до головы. Бьюсь об заклад — она меня сравнивала со своим молодцом. Слава богу, что я могу за себя постоять. Она отвечала мне скупо и сбивчиво. Тем лучше! Перемелется — мука будет! Девушки, обжегшись на несчастной любви, быстро сдаются на брачные предложения.
Входит Гец.
Что нового, зятек?
Гец. Объявлен вне закона!
Зикинген. Что?
Гец. Вот, прочтите это назидательное письмо. Император приказал послать против меня карательный отряд, который искромсает плоть мою на добычу птицам небесным и полевому зверю.
Зикинген. Не тебе это суждено. Я здесь как раз вовремя.
Гец. Нет, Зикинген, вы должны уехать. Ваши великие замыслы могут погибнуть в зародыше, если вы не вовремя захотите стать врагом государства. И мне вы принесете гораздо больше пользы, если будете казаться нейтральным. Император любит вас. Худшее, что со мной может случиться, это — плен. Тогда вы замолвите за меня слово и вызволите из беды, в которую несвоевременная помощь могла бы ввергнуть нас обоих. Ведь что бы получилось? Сейчас идет поход против меня. Если они узнают, что и ты здесь, они пошлют большой отряд, и нам от этого лучше не будет. Источник всего — император, и я бы уже погиб невозвратно, если б внушить мужество было так же легко, как собрать отряд.
Зикинген. Все-таки я могу тайно прислать вам человек двадцать рейтаров.
Гец. Хорошо. Я уже отправил Георга к Зельбицу и разослал слуг по соседям. Милый зять мой, когда люди мои соберутся, это будет такой отрядец, какой немногие князья видели.
Зикинген. Вас будет мало против множества врагов.
Гец. На стадо овец и одного волка хватит с избытком.
Зикинген. А если у них будет хороший пастух?
Гец. Не беспокойся. Это — сплошь наемники. И потом, лучший рыцарь ничего не может сделать, если он не господин своих поступков. Так и со мною случилось однажды, когда я договорился с пфальцграфом пойти против Конрада Шотта. Тут он и прислал мне бумажку из канцелярии, как я должен выступить и как вести себя; тогда я бросил бумажку советникам обратно и заявил, что не умею по ней действовать; ведь я не знаю, что мне встретится — в бумажке этого не написано, так лучше я сам погляжу во все глаза да и разберусь, что мне делать.
Зикинген. Желаю успеха, брат! Я тотчас еду и пришлю тебе то, что успею собрать наспех.
Гец. Зайди-ка еще к женщинам, я оставил их вместе. Я хотел бы, чтоб ты получил ее согласие до отъезда. Потом пришли мне рейтаров и тайно приезжай за Марией, — боюсь, что замок мой скоро перестанет быть надежным приютом для женщин.
Зикинген. Будем надеяться на лучшее.
БАМБЕРГ. КОМНАТА АДЕЛЬГЕЙДЫ
Адельгейда. Франц.
Адельгейда. Итак, оба отряда уже выступили?
Франц. Да, и господин мой имеет счастье сражаться против врагов ваших. Я хотел отправиться с ним, как ни охотно я ехал к вам. Теперь я снова еду к нему, чтобы поскорей вернуться с радостной вестью. Мой господин разрешил мне это.
Адельгейда. Как он поживает?
Франц. Он бодр. Он приказал мне облобызать вашу руку.
Адельгейда. На!.. Губы твои жарки.
Франц (про себя, указывая на грудь). Здесь еще жарче! (Вслух.) Госпожа моя, слуги ваши — счастливейшие люди под солнцем.
Адельгейда. Кто ведет отряд против Берлихингена?
Франц. Фон Сирау. Прощайте, прекрасная госпожа моя! Я еду снова. Не забывайте меня.
Адельгейда. Ты должен что-нибудь поесть, выпить и отдохнуть.
Франц. Зачем? Ведь я вас видел! Я не устал и не голоден.
Адельгейда. Я знаю твою преданность.
Франц. Ах, госпожа моя!
Адельгейда. Ты не выдержишь, успокойся, скушай что-нибудь.
Франц. Бедного юношу питает ваша заботливость! (Уходит.)
Адельгейда. У него слезы на глазах. Я люблю его всем сердцем. Так искренне и горячо еще никто не был мне предан. (Уходит.)
ЯКСТГАУЗЕН
Гец. Георг.
Георг. Он сам хочет поговорить с вами. Я его не знаю. Он — статный мужчина с черными, огненными глазами.
Гец. Приведи его.
Входит Лерзе.
Здравствуйте! Какие вести вы несете?
Лерзе. Я принес лишь самого себя, это немного, но всего себя целиком я предлагаю вам.
Гец. Добро пожаловать, вдвойне добро пожаловать, храбрый муж, да еще в такое время, когда я не надеялся заполучить новых друзей, а скорей боялся потерять старых. Как ваше имя?
Лерзе. Франц Лерзе.
Гец. Благодарю вас, Франц, что вы познакомили меня с храбрым человеком.
Лерзе. Я уже однажды познакомил вас с собою, но только тогда вы не благодарили меня.
Гец. Я вас не помню.
Лерзе. Это меня огорчает. Но ведь вы помните еще, как по воле пфальцграфа вы сражались против Конрада Шотта и в ночь на масленицу собирались ехать в Гасфурт?
Гец. Ну конечно, помню.
Лерзе. Вы помните, как по дороге в одной деревне вам повстречалось двадцать пять рейтаров?
Гец. Верно. Мне сначала показалось, что их двенадцать, я разделил свой отряд надвое — нас было шестнадцать — и остался у деревни за сараями в надежде, что они проедут мимо. Тогда я бы ударил им в тыл, как было условлено с другим отрядом.
Лерзе. Но мы заметили вас и поднялись на холм возле деревни. Вы проехали мимо и остановились внизу. Когда мы увидели, что вы не хотите подняться, мы ринулись вниз.
Гец. Тут только я увидел, что попал из огня да в полымя. Двадцать пять против восьми! Это не шутки! Эргард Труксес заколол моего латника. За это я сбросил с коня его самого. Если бы все они дрались так, как он и еще один латник, то мне и моей маленькой дружине пришлось бы плохо.
Лерзе. Латник, о котором вы говорите…
Гец. Он был храбрее всех, кого я видел. Он здорово поприжал меня. А когда я думал, что уже совсем от него отделался, он снова очутился передо мной и яростно на меня набросился. Он прорубил мне рукав панциря и слегка поранил руку.
Лерзе. Вы ему простили?
Гец. Он понравился мне — лучше нельзя.
Лерзе. Ну, тогда я надеюсь, что вы будете мною довольны, — образец моей работы я показал на вас самих.
Гец. Так это ты? Добро пожаловать, вдвойне добро пожаловать! Можешь ли ты похвалиться, Максимилиан, хоть одним таким слугою?
Лерзе. Меня удивляет, что вы раньше меня не узнали.
Гец. Да как мне могло прийти в голову, что тот, кто яростнее всех стремился меня одолеть, пришел теперь предложить мне свои услуги?
Лерзе. Вот в том-то и дело, господин мой! Я с юности служил рейтаром и скрестил оружие не с одним рыцарем. Когда мы ударили на вас, я обрадовался. До того я знал лишь ваше имя, тогда я узнал вас лично. Вы знаете, я тогда не устоял. Вы видели, что это было не от страха, — ведь я вернулся. Словом, я узнал вас и с того часа решил вам служить.
Гец. На какое время вы хотите у меня остаться?
Лерзе. На год, но без платы.
Гец. Нет, вам должно платить, как всякому другому, и еще сверх того, как человеку, который задал мне работу при Ремлине.
Входит Георг.
Георг. Ганс фон Зельбиц шлет вам привет. Завтра он будет здесь с пятьюдесятью рейтарами.
Гец. Отлично!
Георг. Возле Кохера спускается имперский отряд, наверное, для наблюдения за вами.
Гец. Сколько их?
Георг. Человек пятьдесят.
Гец. Только-то! Идем, Лерзе, — мы их изрубим! Пусть к приезду Зельбица часть работы уже будет выполнена.
Лерзе. Это будет наш ранний урожай.
Гец. На коней.
Уходят.
ЛЕС ВОЗЛЕ БОЛОТА
Два имперских латника встречаются.
Первый. Ты что здесь делаешь?
Второй. Я уволился по нужде. От вчерашнего переполоха у меня так живот схватило, что каждый миг должен с лошади слезать.
Первый. Разве отряд здесь поблизости?
Второй. В лесу — на добрый час пути отсюда.
Первый. Как же тебя сюда занесло?
Второй. Ты уж, пожалуйста, меня не выдавай. Я хочу пробраться в ближайшую деревню, чтоб посмотреть, не помогут ли моей беде горячие припарки. А ты откуда?
Первый. Из ближней деревни. Ездил за хлебом и вином для нашего офицера.
Второй. Так! Он себя ублажает у нас под носом, а мы — постись! Хороший пример!
Первый. Ступай за мной, негодный!
Второй. Нашел дурака! Многие в отряде охотно попостились бы, чтоб очутиться на моем месте.
Первый. Слышишь — лошади?
Второй. Вот беда!
Первый. Я влезу на дерево.
Второй. Я спрячусь в камыше.
Гец, Лерзе, Георг — на конях.
Гец. Сюда, мимо пруда, затем налево в лес, так мы зайдем им в тыл.
Они проезжают.
Первый (слезает с дерева). Здесь не безопасно. Михель! Не откликается? Михель, они уехали! (Идет к болоту.) Михель! Ой-ой! Он утонул! Михель! Он меня не слышит — утонул! Сдох-таки, баба! Мы разбиты! Враги, всюду враги!
Гец, Георг — верхом.
Гец. Стой, молодец, или ты погиб!
Первый. Пощадите!
Гец. Твой меч! Георг, сведи его к остальным пленным, которые там в лесу у Лерзе. Я должен догнать их удравшего предводителя. (Уезжает.)
Первый. А что случилось с нашим предводителем?
Георг. Мой господин сшиб его с коня так, что он полетел вверх тормашками и султан увяз в грязи. Латники подняли его — и вскачь как бесноватые!
Уходят.
ЛАГЕРЬ
Капитан. Первый рыцарь.
Первый рыцарь. Они издалека бегут к лагерю.
Капитан. Он гонится за нами по пятам. Двиньте полсотни к мельнице, если он слишком далеко заскочит. Вы, может быть, накроете его.
Рыцарь уходит.Вводят второго рыцаря.
Как дела, молодой человек? Рога свои пообломали?
Рыцарь. Чума его возьми! Тут и самые крепкие оленьи рога разлетелись бы, как стекло. Ах ты, черт! Он налетел на меня так, что мне почудилось, будто меня громом в землю вбило.
Капитан. Благодарите бога, что вообще остались целы.
Рыцарь. Есть за что благодарить — два ребра пополам. Где фельдшер? (Уходит.)
ЯКСТГАУЗЕН
Гец. Зельбиц.
Гец. Что ты скажешь о том, что я объявлен вне закона, Зельбиц?
Зельбиц. Это проделки Вейслингена.
Гец. Ты думаешь?
Зельбиц. Не думаю, а знаю.
Гец. Почему?
Зельбиц. Я говорю тебе, что он был на имперском сейме в свите императора.
Гец. Ладно, так мы опять расстроим его козни.
Зельбиц. Надеюсь.
Гец. Едем — пусть начнется травля зайцев.
ЛАГЕРЬ
Капитан. Рыцари.
Капитан. Так ничего не выйдет, господа. Он бьет у нас отряд за отрядом, а тот, кто не убит и не взят в плен, бежит себе с богом и скорее очутится в Турции, чем вернется обратно в лагерь. Так мы с каждым днем слабеем. Мы должны раз навсегда с ним покончить. Это не шутка! Я сам поведу вас — пусть знает, с кем имеет дело.
Рыцарь. Мы все на это согласны, но он так искусен в полевой войне, так хорошо знает все ходы и выходы в горах, что поймать его не легче, чем мышь в овине.
Капитан. Ничего, поймаем. Сначала — к Якстгаузену. Он волей-неволей должен будет явиться на защиту своего замка.
Рыцарь. Весь наш отряд пойдет?
Капитан. Конечно. Вы знаете, что мы уже растаяли на сто человек?
Рыцарь. Поэтому поспешим, пока не растаяла вся льдина; кругом жарко, и мы здесь как масло на солнце.
ГОРЫ И ЛЕС
Гец. Зельбиц. Отряд.
Гец. Они идут всей кучей. Рейтары подоспели как раз вовремя.
Зельбиц. Мы разделимся. Я обогну холм слева.
Гец. Хорошо. А ты, Франц, возьми пятьдесят человек и ступай направо, лесом. Они идут лугом — я буду держаться против них. Георг, ты останешься при мне. И когда вы увидите, что они на меня напали, — тотчас ударьте на них с флангов. Мы их отшлепаем. Им и в голову не приходит, что мы можем дать отпор.
Уходят.
Дальше: ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

