Книга: Инес души моей
Назад: Глава вторая Америка 1537–1540
Дальше: Глава четвертая Сантьяго, Новая Эстремадура 1541–1543
Глава третья
Дорогая в Чили
1540–1541
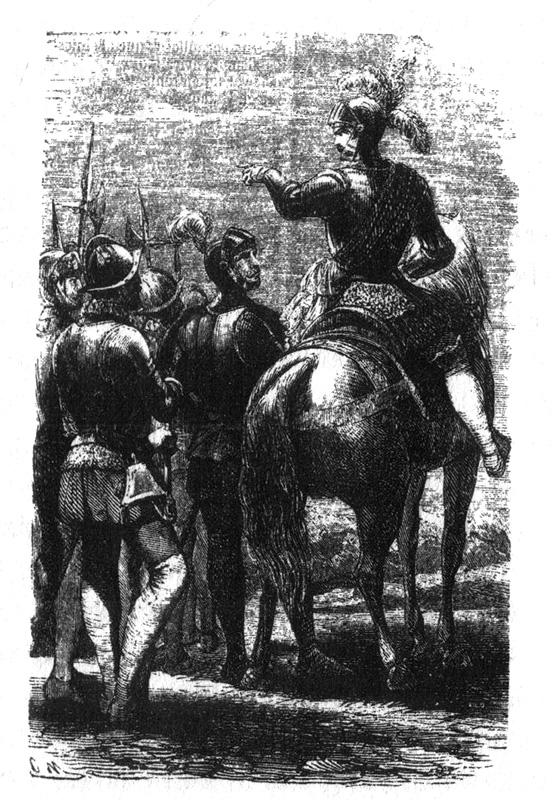
Наша отважная экспедиция отправилась в Чили через пустыню — той дорогой, которой Диего де Альмагро возвращался из тех земель, как следовало из вычерченной на хрупком листе бумаги карты, которую аделантадо отдал Вальдивии. Наш отряд из нескольких солдат и тысячи янакон медленно, как гусеница, полз по горам вверх и вниз, пересекал долины и реки, постоянно держась южного направления. Известие же о нашем приближении шло гораздо быстрее, и чилийские племена встречали нас во всеоружии. Инки передавали послания с помощью быстроногих гонцов — часки, которые бежали тайными горными тропами от одного почтового поста к другому. Такая система охватывала всю империю с самого севера до реки Био-Био в Чили. Поэтому чилийские индейцы узнали о нашей экспедиции, как только мы вышли из Куско, и, когда мы спустя несколько месяцев добрались до их территорий, они были готовы дать нам отпор.
Они знали, что в Перу уже давно заправляют виракочи, что Инка Атауальпа был казнен и вместо него на престол сел его брат, Инка Пауллу, марионетка в руках виракочей. Этот правитель отдал свой народ в услужение чужестранцам и жил в золотой клетке своего дворца, окруженный сладострастными и жестокими удовольствиями. Также чилийцы знали, что в Перу тайно готовится обширное индейское восстание под руководством другого члена королевской семьи, находящегося в бегах инки Манко, который поклялся изгнать захватчиков. Кроме того, они слышали, что виракочи свирепы, предприимчивы, напористы, ненасытны и, что самое неслыханное, — не держат данное слово. Как они еще не умерли со стыда — загадка.
Чилийские индейцы на своем языке, мапудунгу, звали нас утками — это слово означает «лжецы» или «крадущие землю». Мне пришлось выучить этот язык, потому что на нем говорят во всем Чили, с самого севера до самого юга. Мапуче восполняют отсутствие письменности нерушимой памятью: история сотворения мира, законы, традиции и подвиги героев отражены в сказаниях на мапудунгу, которые передаются из поколения в поколение в неизменном виде от начала времен. Некоторые из них я переводила молодому Алонсо де Эрсилья-и-Суньиге — я о нем уже упоминала раньше, — чтобы он проникся духом мапуче, сочиняя «Араукану». Кажется, эта поэма была опубликована и теперь известна мадридскому двору, но у меня есть только исчерканные наброски стихов, которые остались после того, как я помогла Алонсо переписать их начисто. Если мне не изменяет память, он описывает Чили и мапуче, или арауканцев, как он их называет, такими строками:
Плодородие чилийское известно,
Край обилен, крепок и силен,
Мощью и величьем славен повсеместно,
Будто бы Всевышним избран он.
И народ живет тут всем на зависть:
Благороден, горд и в войнах закален,
Чужаку не даст собою править
И царям от века не был подчинен.
Алонсо, конечно, немного преувеличивает, но поэтам это простительно, потому что иначе стихи не будут иметь должной силы. Край этот не так славен «мощью и величьем», а его народ не так «благороден», как он пишет, но с тем, что народ этот «горд и в войнах закален» и «от века не был подчинен» ни своим правителям, ни чужестранцам, — не поспоришь.
Мапуче презирают боль и могут выносить страшные пытки без единого стона. Но это не оттого, что они менее чувствительны к страданиям, чем мы, а оттого, что они храбрее. Нет лучших воинов, чем они, потому что лишиться жизни на поле брани для них — высшая честь. Им никогда не удастся победить нас, но и нам не удастся покорить их: они, скорее, все до единого умрут в этой борьбе.
Наверное, война с индейцами будет идти еще веками, ведь благодаря ей испанцы приобретают себе в услужение все новых и новых рабов. «Рабы» — вот точное слово. В рабстве оказываются не только те, кто был захвачен в плен в ходе войны, но и те индейцы, которых испанцы ловят лассо и продают по две сотни песо за беременную женщину и сотне — за взрослого мужчину или здорового ребенка. Незаконная торговля этими людьми происходит не только в Чили, она распространена даже в Сьюдад-де-лос-Рейес, и в нее вовлечены все, от землевладельцев и надсмотрщиков на золотых приисках до капитанов кораблей. Так мы скоро истребим всех уроженцев этих земель — этого опасался Вальдивия, — потому что они предпочитают смерть жизни в рабстве. Если бы кто-нибудь из нас, испанцев, оказался перед подобным выбором, он бы тоже не сомневался ни минуты. Вальдивию возмущала глупость тех, кто истязает индейцев непосильным трудом, опустошая таким образом Новый Свет. Без индейцев, говорил Педро, эта земля ничего не стоит. Он умер, так и не увидев конец бойни, которая продолжалась сорок лет. Сюда приезжают все новые испанцы, здесь рождается все больше метисов, но мапуче исчезают, истребляемые войной, рабством и испанскими болезнями, которым их организмы не в силах сопротивляться.
Я опасаюсь мапуче, помня о тех превратностях, которые нам пришлось пережить по их милости; я не могу смириться с тем, что они отвергли Слово Божие и яростно сопротивляются попыткам просвещать их; я никогда не прощу им ту жестокость, с которой они убили Педро де Вальдивию, хотя они лишь отплатили ему его же монетой, ведь он совершил множество жестокостей и зверств по отношению к ним. Поднявший меч от меча и погибнет, как говорят в Испании. Но не скрою: я уважаю мапуче и восхищаюсь ими. Испанцы и мапуче — враги, достойные друг друга: и те и другие храбры, жестоки и полны решимости жить в Чили. Мапуче появились здесь раньше нас, и это дает им большее право на эти земли. Изгнать нас отсюда они никогда не смогут, но и мирно сосуществовать у нас, видимо, никогда не получится.
Откуда мапуче появились здесь? Говорят, они похожи на некоторые народы Азии. Но если их корни там, я не понимаю, как им удалось переправиться через такие бурные океаны и преодолеть такие огромные расстояния по суше, чтобы попасть в эти края. Они дикари. Они не знают ни искусства, ни письменности; не строят ни городов, ни храмов; у них нет разделения на касты и классы, нет даже жрецов, а есть только временные военачальники — токи. Они переселяются из края в край, свободные и нагие, вместе со множеством жен и детей, которые сражаются бок о бок с мужьями и отцами. В отличие от других индейцев Америки, они не приносят человеческих жертв и не поклоняются идолам. Они верят в одного бога, но это не наш Бог, а другой — они называют его Нгенечен.
Пока мы стояли лагерем в Тарапака, где Педро де Вальдивия планировал подождать, пока не прибудет подкрепление, и отдохнуть от пережитых тягот, чилийские индейцы подготовили все возможное, чтобы сделать наш дальнейший переход как можно труднее. Они редко попадались нам на глаза, но постоянно грабили нас и нападали с тыла. Поэтому я все время занималась лечением раненых, в основном янакон — они ведь сражались без коней и доспехов. Их называли пушечным мясом. Летописцы обычно забывают упомянуть о них, но без этих молчаливых масс дружественных индейцев, которые сопровождали испанцев в рискованных путешествиях и войнах, завоевание Нового Света было бы невозможно.
По дороге из Куско в Тарапака к нам присоединилось двадцать с чем-то солдат-испанцев, и Педро был уверен, что, как только пройдет слух, что наша экспедиция уже началась, люди подтянутся еще. Но были у нас и потери: мы лишились пяти человек — очень существенное количество, если учесть, как мало нас было. Один солдат был тяжело ранен отравленной стрелой, и, так как я не могла его вылечить, Педро отправил его обратно в Куско в сопровождении его брата, еще двух солдат и нескольких янакон. Несколькими днями позже наш маэстре-де-кампо проснулся в большой радости, потому что во сне ему явилась супруга, ждавшая его в Испании, и острая боль, которая пронзала ему грудь целую неделю, отступила. Я дала ему чашку поджаренной муки, разведенной водой и медом, и он съел это месиво с таким видом, будто я подала ему какое-то изысканное яство. «Донья Инес, сегодня вы красивы как никогда», — сказал он со своей обычной галантностью, но в тот же миг глаза у него остекленели, и он замертво повалился к моим ногам. Мы похоронили его по христианскому обычаю, и я посоветовала Педро, чтобы он на должность маэстре-де-кампо назначил дона Бенито, потому что старик знал дорогу, а сверх того, был опытен в разбиении лагерей и поддержании дисциплины.
Так у нас стало несколькими солдатами меньше, но понемногу к нам стали подтягиваться новые люди — тени в лохмотьях, неприкаянно бродившие по полям и горам, — бывшие альмагристы, потерпевшие поражение и не нашедшие друзей в империи Писарро. Они годами жили подаянием и, отправляясь в поход в Чили, ничем не рисковали.
В Тарапака мы стояли лагерем несколько недель, чтобы дать время индейцам и животным набрать вес перед переходом через пустыню. Этот переход, по словам дона Бенито, был самой тяжелой частью пути. Он рассказал, что в одной части пустыни всегда страшная жара, а в другой, которую называют Мертвой пустошью, — еще хуже.
Тем временем Педро де Вальдивия проделывал внушительные расстояния верхом, вглядываясь в горизонт в надежде отыскать новых добровольцев. К нам должен был присоединиться Санчо де ла Ос, шедший морским путем с обещанным подкреплением и снаряжением, но время шло, а от нашего доблестного компаньона не было ни слуху ни духу.
Пока я давала распоряжения ткать пледы и заготавливать вяленое мясо, зерно и другую непортящуюся провизию, дон Бенито заставлял негров от восхода до заката работать в кузнице, чтобы снабдить нас пулями, подковами и наконечниками для копий. Кроме того, он отправлял группы солдат на поиски припасов, которые индейцы, прежде чем покинуть свои деревни, закопали в землю.
Дон Бенито выбрал для лагеря самое удобное и защищенное место, где была тень, вода и холмы, на которых можно было ставить дозорных. Единственным приличным шатром в лагере был тот, что подарил мне Писарро. Шатер этот был из навощенной парусины, которая держалась на крепком деревянном каркасе, просторный, с двумя комнатами, и в нем было удобно, как в настоящем доме. Солдаты устраивались, как могли, в заплатанных палатках, которые едва защищали от капризов погоды. У некоторых и этого не было, и они спали прямо на земле рядом со своими лошадьми. Индейцы стояли отдельным лагерем, который охранялся день и ночь, чтобы не допустить побегов. По вечерам там мерцали сотни костерков, на которых янаконы готовили еду, и ветер доносил до нас заунывные звуки их флейт, нагонявшие тоску и на людей, и на животных.
Наш лагерь находился вблизи двух брошенных деревень, где, несмотря на тщательные поиски, ничего съестного мы не нашли. Зато там мы познакомились с индейским обычаем мирно жить в одном доме вместе со своими умершими предками: живые в одной части хижины, мертвые — в другой. В каждом жилище была комната с мумиями; все они были тщательно спеленатые, потемневшие и пахли мхом. Там были старики, женщины, дети, каждый с какими-нибудь личными вещами, но без украшений. В Перу, наоборот, находили могилы, полные драгоценностей, даже со статуэтками из чистого золота. «В Чили даже мертвецы нищие! Тут нет ни крупицы золота!» — ругались солдаты. В отместку за разочарование они связали мумии веревками и, прицепив их к лошадям, носились галопом, волоча мертвецов по земле, пока обвивавшая их ткань не размоталась и от них не осталась лишь россыпь костей.
Солдаты долго хохотали над своим веселым подвигом, а лагерь янакон замер от ужаса. После захода солнца среди них прошел слух, что оскверненные кости стали собираться обратно в скелеты и еще до рассвета на нас обрушится войско загробного мира. Эти россказни в ужасе подхватили негры, и в конце концов они дошли и до испанцев. Тогда эти непобедимые вандалы, которым даже слово «страх» неизвестно, захныкали, как грудные младенцы. К полуночи зубы у наших храбрых воинов стучали так громко, что Педро де Вальдивии пришлось обратиться к воякам с речью и напомнить им, что они солдаты Испании, самые выносливые и прекрасно обученные в мире, а не толпа невежественных прачек. Я несколько ночей не спала, неустанно молясь, потому что вокруг действительно бродили скелеты, и если кто будет говорить, что это неправда, так его там не было.
Солдаты были очень недовольны, потому что не понимали, какого черта мы неделями стоим в этом проклятом месте и почему, как было задумано, не продолжаем двигаться в направлении Чили или не вернемся в Куско, что было бы самым благоразумным. Когда Вальдивия уже почти потерял надежду на прибытие подкрепления, вдруг явился отряд в восемьдесят человек, среди которых было несколько прославленных капитанов. Я не была с ними лично знакома, но Педро рассказывал о них, потому что это были действительно знаменитые люди, такие как Франсиско де Вильягра и Алонсо де Монрой. Первый из них был светловолос, румян, крепко сложен, резок манерами и на его губах постоянно играла презрительная усмешка. Он всегда казался мне неприятным человеком, потому что очень плохо обращался с индейцами, был скуп и презирал бедных, но я научилась уважать его за храбрость и верность. Монрой, уроженец Саламанки, происходивший из знатной семьи, был полной противоположностью Вильягре: изящный, худощавый и щедрый. С ним мы сразу подружились. Вместе с ними приехал Херонимо де Альдерете, бывший товарищ по оружию Вальдивии, тот самый, который когда-то соблазнил Педро отправиться в Новый Свет. Присоединиться к Вальдивии уговорил их Вильягра. «Лучше служить его величеству, чем бесцельно скитаться по землям, где заправляет демон», — говорил он товарищам, имея в виду Писарро, которого презирал всей душой.
С ними приехал еще капеллан-андалусец, человек лет пятидесяти. Это был Гонсалес де Мармолехо, который позже стал моим наставником, — я уже о нем упоминала. Он всю свою долгую жизнь выказывал незлобивость души, но все же, я думаю, ему лучше было бы сделаться солдатом, а не монахом, потому что он слишком любил рискованные предприятия, богатство и женщин.
Эти люди провели несколько месяцев в ужасных джунглях на востоке Перу, где обитает племя чунчо. В их отряде поначалу было три сотни человек, но две трети людей погибло, а те, кто выжил, превратились в измученных голодом и тропическими лихорадками призраков. Из двух тысяч индейцев выжил только один. Среди тех, кто сложил там голову, был и злополучный лейтенант Нуньес, которого Вальдивия послал гнить в джунглях Чунчо, как и обещал, после того как тот попытался похитить меня в Куско. Никто не мог точно сказать мне, что с ним приключилось: он просто растворился в чаще, не оставив по себе ни следа. Надеюсь, он умер христианской смертью, а не окончил свои дни в желудках каннибалов.
Лишения, которые прежде переносили Педро де Вальдивия и Херонимо де Альдерете в джунглях Венесуэлы, были детскими забавами по сравнению с тем, что пережили эти люди в джунглях Чунчо: они страдали от горячих проливных дождей, туч москитов, болезней и голода, увязали в болотах, пытались спастись от дикарей, которые, если им не удавалось поймать христианина, пожирали даже друг друга.
Прежде чем продолжать рассказ, нужно отдельно представить того, кто стоял во главе этого отряда. Это был высокий и очень красивый мужчина, с широким лбом, орлиным носом, большими и влажными, как у лошади, карими глазами. У него были тяжелые веки и устремленный вдаль взгляд, слегка сонный, но смягчавший его лицо. Все это я смогла оценить на второй день, когда он отмыл грязевую коросту и подстриг шевелюру, усы и бороду, которые придавали ему вид человека, потерпевшего кораблекрушение. Хотя он был моложе других прославленных воинов в их отряде, они избрали его предводителем, отдав должное его храбрости и уму. Звали его Родриго де Кирога. Девять лет спустя он стал моим мужем.
Я приложила все усилия, чтобы те, кто выжил в джунглях Чунчо, восстановили силы и здоровье как можно быстрее. В этом мне помогала Каталина и несколько других индианок из моей прислуги, которых я научила врачеванию. Как сказал дон Бенито, эти несчастные только что выбрались из сырого и заросшего растительностью ада джунглей, чтобы тут же отправиться в засушливый и голый ад пустыни. Только на то, чтобы отмыть их, обработать нарывы, выбрать вшей, подрезать волосы и ногти, ушло несколько дней. Некоторые из них были так слабы, что индианкам приходилось кормить их с ложечки жидкой кашей, как маленьких детей. Каталина нашептала мне на ухо, что на такие крайние случаи есть одно инкское снадобье, и мы дали его самым нуждающимся, не объясняя, из чего оно состоит, чтобы не вызвать у пациентов отвращения. По ночам Каталина тайком пускала кровь ламам, делая надрез им на шее. Мы смешивали эту свежую кровь с молоком и небольшим количеством мочи и давали пить больным. Так они быстро выздоровели и уже через две недели были в состоянии отправиться в путь.
Янаконы приготовились к предстоящим страданиям. Они не знали этих краев, но слышали о пустыне ужасные вещи. У каждого на шее висел мех с водой. Эти мехи они делали из кожи ноги ламы, гуанако или альпаки: сдирали кожу целиком и выворачивали ее наизнанку, как чулок, так чтобы шерсть оказалась внутри. Другие использовали мочевой пузырь или кожу морского льва. Индейцы бросали в воду несколько жареных зерен маиса, чтобы они впитали неприятный запах. Дон Бенито устроил приспособления для перевозки большого количества воды: были сделаны большие бочки и мехи на манер индейских. Мы предполагали, что этого все равно будет недостаточно для такого количества ртов, но еще больше нагружать людей и лам было невозможно. Вдобавок местные индейцы не только спрятали все съестное, но и отравили колодцы, как признался под пыткой посланец инки Манко.
Однажды дон Бенито обнаружил, что среди наших янакон затесался чужак, и испросил у Вальдивии позволения допросить его. Негры жгли его на медленном огне. Мне совесть и нервы не позволяют присутствовать при пытках и казнях, поэтому я постаралась убраться как можно дальше, но страшные вопли несчастного, к которым присоединялись голоса янакон, стонавших от страха, слышались на лигу в окружности. Под пыткой он признался, что прибыл из Перу с инструкциями для жителей Чили о том, как действовать, чтобы помешать продвижению виракочей. Поэтому индейцы закапывали съестные припасы, жгли посевы и уходили в горы вместе со всеми животными, которых удавалось взять с собой. Он добавил, что он не единственный гонец, что на юг по тайным тропам отправились сотни посланцев с теми же сообщениями от инки Манко. После того как несчастный рассказал все это, его перестали жечь и казнили для устрашения янакон.
Я выговорила Вальдивии за то, что он позволил совершить такую жестокость, но он с негодованием заставил меня замолчать. «Дон Бенито знает, что делает. Я тебя еще до начала экспедиции предупреждал, что это предприятие не для неженок. Но теперь отступать поздно», — сказал он в ответ.
Как долог и труден был путь через пустыню! Как медленно и тяжело продвигались мы вперед! В бесконечном безводье дни тянулись за днями, один не отличимый от другого. Пейзаж не менялся: бесплодная пустошь, растрескавшаяся земля и голые камни, запах горячей пыли и выжженные солнцем колючки, пылающе-красные краски, зажженные рукой Господа. По словам дона Бенито, этот цвет земле давали залежи минералов, ни один из которых, правда, по дьявольской шутке не был ни золотом, ни серебром. Мы с Педро, чтобы не утомлять животных, часами шли пешком, ведя коней под уздцы. Говорили мы мало, потому что горло пылало, а губы пересыхали. Но мы были рядом, и каждый шаг объединял нас сильнее, каждый шаг внутрь континента приближал нас к мечте, которую оба лелеяли, которая стоила стольких жертв и имя которой было Чили.
Я защищалась от солнца широкополой шляпой, куском ткани с прорезями для глаз на лице и тряпками, которые наматывала на руки, потому что перчаток у меня не было, а кожа трескалась от жары. Солдаты не могли нести в руках раскаленное оружие и волочили его за собой. Длинная вереница индейцев ползла вперед медленно, в тишине, а усталые негры шли с поникшими головами, почти не глядя на янакон и не щелкая кнутами. Для носильщиков этот путь был в тысячу раз тяжелее, чем для нас: им было не в новинку таскать тяжести и мало есть, взбираться на горы и спускаться с них, подбадривая себя лишь таинственной энергией листьев коки, но жажды они вынести не могли. Отчаяние наше росло тем сильнее, чем дольше мы не могли отыскать ни одного чистого колодца. Те колодцы, что встречались нам на пути, были по милости чилийских индейцев отравлены трупами животных. Некоторые янаконы пили эту отравленную воду и в страшных муках умирали.
Когда нам казалось, что силы наши окончательно иссякли, цвет гор и почвы изменился. Воздух замер, небо сделалось белым, и все живое исчезло — от чертополоха до одиноких птиц, которые прежде иногда встречались. Мы вошли в Мертвую пустошь, которой так боялись. Мы начинали движение, едва брезжил первый свет, потому что позже под палящим солнцем невозможно было идти. И хотя каждый шаг давался с огромным трудом, Педро рассудил, что чем быстрее мы пройдем пустыню, тем меньше людей потеряем. В самые жаркие часы мы отдыхали, растянувшись на волнах раскаленного песка, под солнцем из расплавленного свинца, в мертвой стране. Снова отправлялись в путь мы около пяти вечера и шли до тех пор, пока не темнело и из-за непроглядной тьмы идти становилось невозможно. Пейзаж вокруг был суров и беспощаден. У нас не было сил ставить палатки и вставать лагерем всего на несколько часов. Мы не боялись, что здесь на нас нападут враги: в этих местах не только никто не жил, но и соваться сюда не отваживался. Ночью температура резко падала, и на смену невыносимой дневной жаре приходил ледяной холод. Каждый падал на землю там, где был, дрожа и стуча зубами, не обращая никакого внимания на распоряжения дона Бенито, который единственный настаивал на соблюдении дисциплины. Мы с Педро ложились в обнимку между нашими конями и пытались согреть друг друга. Мы очень уставали. Сил заниматься любовью в долгие недели, которые длился этот переход, у нас не было. Воздержание дало нам возможность как следует узнать все слабости друг друга и взрастить нежность, которая прежде задыхалась в пылу страсти. Самое удивительное в этом человеке было то, что он ни на минуту не сомневался в своем предназначении — населить Чили испанцами и обратить индейцев в веру Христову. Он никогда, как другие, не боялся, что мы умрем на раскаленном песке пустыни; его воля ни разу не дрогнула.
Несмотря на строгую экономию, введенную доном Бенито, в один не очень прекрасный день вода закончилась. К тому времени мы уже сильно страдали от жажды: глотки у нас кровоточили, языки распухли, губы покрылись язвами. То и дело нам чудился шум водопада и виделись озера с кристально чистой водой, окруженные папоротниками. Капитанам силой приходилось удерживать людей, чтобы они не тратили последние силы на погоню за миражом. Некоторые солдаты пили конскую и собственную мочу, которой было всего-то несколько капель темного цвета; другие, обезумев, бросались на янакон, чтобы отобрать у них мехи с последними глотками воды. Если бы Вальдивия не приказал за малейшие проступки строжайше наказывать, думаю, они стали бы убивать янакон и высасывать из них кровь.
В ту ночь в ярком лунном свете мне снова явился Хуан де Малага. Я указала на него Педро, но он не мог видеть Хуана и решил, что я брежу. Мой муж выглядел очень плохо, лохмотья его одежды были все в запекшейся крови и звездной пыли, а на лице застыло выражение отчаяния, как будто бы и его несчастные кости тоже страдали от жажды.
На следующий день, когда мы уже думали, что нам нет спасения, странная ящерица пробежала у моих ног. Уже много дней мы не видели никаких форм жизни, кроме нашей собственной, тут не было даже чертополоха, который в другой части пустыни рос в изобилии. Может быть, это проскользнула саламандра — ящерица, живущая в огне. Я решила, что, каким бы дьявольским ни был этот гад, время от времени и ему нужен глоток воды. «Настал наш черед, душенька моя», — тогда сказала я Деве Заступнице. Я достала веточку, которую везла в своем багаже, и принялась молиться. Было около полудня, и все люди и животные, мучимые жаждой, отдыхали. Я позвала Каталину, и мы вместе медленно пошли по песку, закрываясь от солнца зонтиком: я — молясь Деве Марии, а она — шепча заклинания на кечуа. Так мы бродили довольно долго, может быть, целый час, делая круги все шире, охватывая все большую площадь. Дон Бенито решил, что я от жажды тронулась рассудком, и, так как сам он совсем обессилел, попросил Родриго де Кирогу, человека более молодого и сильного, пойти и вернуть меня.
— Ради бога, сеньора! — взмолился молодой офицер, собрав скудные остатки голоса. — Идите отдохните. Мы натянем тент, и вы посидите в тени…
— Капитан, идите и скажите дону Бенито, чтобы он прислал мне сюда людей с кирками и лопатами, — прервала я его.
— С кирками и лопатами? — повторил Кирога в крайнем изумлении.
— И скажите ему, пожалуйста, что мне нужны еще кувшины и несколько вооруженных солдат.
Родриго де Кирога вернулся в дону Бенито с известием, что я куда более плоха, чем они думали, но Вальдивия, услышав его слова, обрадовался и приказал главе отряда предоставить мне то, что я просила. Скоро шесть индейцев явились и начали рыть яму. Индейцы переносят жажду хуже, чем мы, поэтому они едва шевелили лопатами и кирками, но земля там была мягкая, и им удалось выкопать яму в полтора аршина глубиной. На дне ее песок был темный. Вдруг один из индейцев испустил хриплый крик, и мы увидели, что в углублении начала собираться вода: сначала появилась легкая испарина, как будто земля потела, но через две или три минуты набралась уже небольшая лужица. Педро, который не отходил от меня ни на шаг, приказал, чтобы солдаты защищали эту ямку ценой своей жизни, боясь, и не без основания, свирепого нападения тысячи обезумевших людей, готовых умереть за каплю воды. Я заверила его, что воды хватит на всех, если только мы будем соблюдать порядок.
Так и случилось. Дон Бенито провел остаток дня, раздавая по чашке воды на душу, а потом Родриго де Кирога с несколькими солдатами всю ночь поили животных и наполняли бочки и мехи индейцев. Вода била ключом; она была мутная и имела металлический привкус, но нам она казалась такой же свежей, как в фонтанах Севильи. Люди решили, что произошло чудо, и назвали этот ключ Источником Девы, в честь Девы Заступницы. Мы поставили лагерь и оставались в том месте три дня, утоляя жажду, а когда снова отправились в путь, по раскаленной поверхности пустыни все еще тек тоненький ручеек.
— Это не Богородица явила нам чудо, а ты, Инес, — сказал мне Педро. Он был очень впечатлен. — Благодаря тебе мы выберемся из этого ада живыми и невредимыми.
— Педро, я могу найти воду только там, где она есть. Я не могу заставить ее появиться. Не знаю, найдутся ли источники впереди, но в любом случае они вряд ли будут такими обильными.
Вальдивия приказал, чтобы я ехала впереди на расстоянии половины дневного перехода и прощупывала почву в поисках воды. Меня сопровождал отряд солдат, сорок янакон и двадцать лам, груженных кувшинами. Остальные шли за мной группами, с разницей в несколько часов, чтобы не было давки у колодца, если мы найдем еще воду. Дон Бенито назначил главой сопровождавшего меня отряда Родриго де Кирогу: этот молодой капитан очень быстро заслужил его полное доверие. Кроме того, он обладал самым острым зрением; его большие карие глаза видели даже то, чего не существовало. Если бы на горизонте пустыни появилась какая-нибудь опасность, он бы заметил ее первым. Но никаких опасностей не было.
Я нашла еще несколько источников воды. Все они были не такие обильные, как первый, но их хватало, чтобы пережить переход через Мертвую пустошь. И в один прекрасный день цвет почвы снова изменился и над нами стали пролетать птицы.
К концу перехода через пустыню с момента отправления из Куско прошло, по моим подсчетам, почти пять месяцев. Вальдивия решил встать лагерем и подождать, потому что получил известие, что его близкий друг, Франсиско де Агирре, мог присоединиться к нашей экспедиции в этих краях. Враждебно настроенные индейцы следили за нами издали, не приближаясь. В очередной раз мне представился случай расположиться в роскошном шатре, подаренном Писарро. Я покрыла пол перуанскими покрывалами и подушками, извлекла из тюков фаянсовую посуду, чтобы больше не есть из деревянных мисок, и приказала сложить глиняную печь, чтобы можно было готовить как следует, а то в прошедшие месяцы мы питались исключительно злаками и вяленым мясом. В большой комнате шатра, которую Вальдивия использовал как штаб и залу для аудиенций и суда, я поставила кресло и несколько табуретов для посетителей.
Каталина целыми днями ходила по лагерю, неприметная, как тень, собирая для меня последние новости. Я знала обо всем, что происходит и у испанцев, и у янакон. Часто к нам приходили ужинать капитаны и с неприятным удивлением обнаруживали, что Вальдивия приглашает меня садиться за стол вместе с ними. Возможно, никто из них никогда в жизни не ел за одним столом с женщиной, ведь в Испании так не делается. Но здесь нравы более свободные. Комнату мы освещали свечами и масляными лампами, а для обогрева использовали большие перуанские жаровни, потому что по ночам было холодно. Как-то Гонсалес де Мармолехо, который был не только священником, но и ученым, попытался объяснить нам, почему тут времена года не совпадают с испанскими, почему когда в Испании зима, в Чили — лето, и наоборот, но никто его объяснений не понял, и мы остались в уверенности, что в Новом Свете законы природы действуют шиворот-навыворот.
В другой комнате шатра стояла наша с Педро кровать, письменный стол, мой алтарь, тюки и корыто для купания, которое долгое время оставалось без дела. Педро стал меньше опасаться отрицательных эффектов мытья и время от времени соглашался залезть в корыто и быть намыленным, но все-таки определенно предпочитал не мыться полностью, а обтираться смоченным полотенцем.
Это были прекрасные дни, когда мы снова стали той влюбленной парочкой, какой были в Куско. Ночью, перед тем как заняться любовью, Педро нравилось читать мне вслух свои любимые книги. Он не знал, что капеллан Гонсалес де Мармолехо учил меня грамоте: я хранила это в тайне, желая сделать Педро сюрприз.
Пару дней спустя Педро вместе с несколькими солдатами отправился объезжать округу в поисках Франсиско де Агирре и чтобы выяснить, нет ли возможности вступить в переговоры с индейцами. Я воспользовалась его отсутствием, чтобы принять ванну и помыть волосы квиллайей — корой одного чилийского дерева, которая убивает вшей и от которой волосы становятся как шелк и не седеют до самой смерти. Правда, на меня это средство не очень действует, потому что я много лет пользовалась им, а волосы у меня сейчас белые как снег. Что ж, по крайней мере, я не облысела наполовину, как многие в моем возрасте.
От долгой ходьбы и езды верхом у меня болела спина, и одна из моих индианок растерла меня бальзамом из криптокарии, который приготовила Каталина. Боль сразу же унялась, и я с облегчением легла в кровать, а Бальтасар улегся у моих ног. Ему тогда было десять месяцев, и он все еще был очень игрив, но уже достиг приличных размеров и ясно проявлял повадки охранника. Наконец-то бессонница отступила, и я быстро заснула.
Уже за полночь меня разбудило глухое ворчание Бальтасара. Я села на кровати, одной рукой пытаясь нащупать в темноте платок, чтобы накинуть на плечи, а другой — держа пса. Тут я услышала приглушенный шум в другой комнате и поняла, что там кто-то есть. Сначала я подумала, что это вернулся Педро, потому что караульные у входа больше никого не пустили бы, но поведение собаки заставило меня насторожиться. Времени зажигать лампу не было.
— Кто там? — встревоженно закричала я.
Последовала напряженная пауза, а затем кто-то в темноте стал звать Педро де Вальдивию.
— Его здесь нет. Кто его ищет? — спросила я, начиная сердиться.
— Простите, сеньора. Это Санчо де ла Ос, его верный слуга. Я очень долго добирался сюда и хотел сразу же поприветствовать его.
— Санчо де ла Ос?! Да как вы смеете, сударь, входить в мой шатер посреди ночи? — возмущенно воскликнула я.
К тому времени Бальтасар уже бешено лаял, и это привлекло внимание стражников. В считаные минуты сбежались дон Бенито, Кирога, Хуан Гомес и другие капитаны с факелами и шпагами наголо и обнаружили в моей комнате не только дерзкого Санчо де ла Оса, но и еще четверых молодчиков, которые его сопровождали. Первым порывом наших людей было тут же арестовать наглецов, но я убедила их, что это было всего лишь недоразумение. Я попросила капитанов уйти и приказала Каталине собрать вновь прибывшим что-нибудь поесть, а сама стала спешно одеваться. Я лично налила вина де ла Осу и его спутникам, с должным гостеприимством подала ужин и внимательно выслушала рассказ о перенесенных ими тяготах пути.
Улучив момент, я вышла сказать дону Бенито, чтобы он немедля послал гонца на поиски Педро. Ситуация сложилась очень непростая, потому что у де ла Оса были сторонники среди недовольных и слабых людей в нашем отряде. Некоторые солдаты обвиняли Вальдивию в том, что он незаконно присвоил себе миссию завоевания Чили, отняв пальму первенства у посланника короны, — ведь королевские грамоты, которыми располагал Санчо де ла Ос, имели большую силу, чем разрешение, полученное от Писарро. Однако у де ла Оса не было никакой финансовой поддержки: он разбазарил в Испании состояние, доставшееся ему в качестве доли выкупа за Атауальпу. Он не смог найти денег ни на корабли, ни на солдат для своего предприятия, а его слово значило так мало, что в Перу он за долги и мошенничество даже сидел в тюрьме. Я подозревала, что он хочет отделаться от Вальдивии, встать во главе его экспедиции и продолжать завоевание Чили в одиночку.
Я решила, пока не вернется Педро, обращаться с этими пятью незваными гостями как можно предупредительнее, чтобы они прониклись доверием ко мне и стали менее осмотрительными. Для начала я накормила их до отвала и подсыпала в кувшин с вином такое количество снотворного мака, которое могло бы свалить быка, потому что мне очень не хотелось скандала в лагере. Последнее, чего можно было пожелать, — это чтобы экспедиция раскололась надвое, как могло бы произойти, если бы де ла Ос поставил под сомнение законность предводительства Вальдивии. Эти пятеро нехристей, наверное, за спиной у меня смеялись над моей любезностью, довольные, что обманули своими россказнями глупую женщину. Но меньше чем через час они были так пьяны и сонны, что совершенно не сопротивлялись, когда дон Бенито со стражниками пришли и унесли их. Их обыскали и обнаружили у каждого по кинжалу с серебряной рукоятью. Кинжалы были совершенно одинаковые, так что не оставалось никаких сомнений, что мы раскрыли несколько театральный заговор с целью убить Вальдивию. Идея об одинаковых кинжалах могла прийти в голову только трусу де ла Осу, который таким образом пытался ответственность за преступление разделить на пять частей. Наши капитаны хотели было сразу казнить всех пятерых, но я напомнила им, что столь важное решение может быть принято только Вальдивией. Мне пришлось пустить в ход всю свою сметку и твердость, чтобы не позволить дону Бенито повесить де ла Оса на ближайшем дереве.
Педро возвратился через три дня. Он уже знал о заговоре, но эта новость не особенно его тронула, потому что он отыскал своего друга Франсиско де Агирре, который уже не одну неделю ожидал его. Вальдивия привез с собой полтора десятка конников, десять аркебузиров, множество янакон и провизию, которой хватило бы на несколько дней. С этим пополнением численность нашего войска выросла до ста тридцати с чем-то солдат, если мне не изменяет память. И это было большее чудо, чем Источник Девы.
Прежде чем обсуждать с капитанами, как поступить с Санчо де ла Осом, Педро уединился в комнате со мной, чтобы услышать мою версию событий.
Про меня вечно ходили слухи, будто я приворожила Педро колдовскими заклятьями и любовными зельями, что я дурманю его в постели турецкими извращениями, высасываю из него мужество, отнимаю волю и по большому счету верчу им как хочу. Это совершенно не так. Педро был очень упрям и знал, чего хочет; никто не смог бы свернуть его с пути ни околдовав, ни совратив прелестями кокотки: он слушал только доводы разума. Он был не таким человеком, чтобы открыто просить совета, тем более у женщины, но, оставаясь со мной наедине, он замолкал и ходил по комнате, пока я не начинала излагать свое мнение. Я старалась высказывать его не слишком четко, чтобы в конце концов ему казалось, что принятое решение полностью принадлежит ему Эта тактика меня никогда не подводила. Мне представлялось, что не стоит казнить Санчо де ла Оса — чего он, несомненно, заслуживал, — потому что он был защищен королевскими грамотами и имел многочисленную родню со связями в мадридском дворе, которая могла обвинить Вальдивию в бунте. Я считала своим долгом не допустить, чтобы мой возлюбленный закончил свои дни на дыбе или на виселице.
— А как еще поступать с таким предателем? — сквозь зубы пробурчал Педро, прохаживаясь по комнате, как бойцовый петух.
— Ты всегда говорил, что врагов следует держать поближе к себе, чтобы следить за ними…
Вместо того чтобы сразу казнить заговорщиков, Педро де Вальдивия решил повременить с этим, чтобы сначала выяснить настроения солдат, собрать достаточно доказательств заговора и выявить тайных сообщников среди наших людей. Ко всеобщему удивлению, он приказал дону Бенито сниматься с лагеря и продолжать движение на юг, а пленников везти с собой в ножных кандалах. Они были ни живы ни мертвы от страха, все, кроме дурака Санчо де ла Оса, который возомнил себя выше правосудия и, несмотря на кандалы, продолжал пытаться вербовать сторонников своего дела и любителей франтовства. Он потребовал себе в темницу индианку, чтобы она накрахмалила ему воротники, погладила панталоны, подрезала ногти, причесала волосы и опрыскала их духами.
Услышав новость о продолжении похода, солдаты взроптали: им не хотелось покидать это место, ведь здесь была прохлада, свежая вода и росли деревья. Дон Бенито раздраженно напомнил им, что решения командира не обсуждаются. Худо ли, но Вальдивия довел их досюда практически без неприятностей; переход через пустыню можно считать успехом, потому что мы потеряли всего трех солдат, шесть лошадей, одну собаку и тринадцать лам. Сколько янакон умерло, никто не считал, но, по словам Каталины, должно быть, человек тридцать или сорок.
Познакомившись с Франсиско де Агирре, я сразу же прониклась доверием к нему, несмотря на его пугающую внешность. Только со временем я стала бояться его жестокости. Это был настоящий великан: кряжистый, шумный, всегда готовый расхохотаться. Он пил и ел за троих и, как мне рассказывал Педро, был способен обрюхатить десять индианок за одну ночь, а за следующую — еще десять.
С тех пор прошло много лет, и теперь Агирре — беззлобный и добродушный старик, сохранивший светлый ум и здоровье, несмотря на то что провел годы в смрадных застенках инквизиции и короля. Он безбедно живет за счет тех земель, что уступил ему мой покойный муж. Было бы трудно отыскать двух более не похожих друг на друга людей, чем мой Родриго, отзывчивый и благородный, и необузданный Франсиско де Агирре, но они любили друг друга по-солдатски на войне и по-дружески в мире. Родриго не мог допустить, чтобы товарищ, с которым он вместе пережил столько невзгод, окончил жизнь в нищете из-за неблагодарности короны и церкви, поэтому и помогал ему, как мог, до конца собственной жизни. Агирре, у которого все тело покрыто шрамами от полученных в битвах ран, проводит свои последние дни, наблюдая за тем, как зреет маис на его земле, рядом с женой, которая приехала из Испании из любви к супругу, и в окружении детей и внуков. В восемьдесят лет его дух не сломлен, и он продолжает грезить приключениями и петь озорные песенки своей молодости.
Кроме пятерых законных детей, он породил больше сотни признанных бастардов и, должно быть, еще несколько сот никому не известных отпрысков — их никто не считал. Он полагал, что лучший способ служить его величеству на этом континенте — населять его метисами. Он даже говорил, что самое действенное решение проблем с индейцами — убить всех мужчин и подростков старше двенадцати лет, забрать всех детей в услужение и спокойно и методично сношаться с женщинами. Педро думал, что его друг говорил это в шутку, но я-то знаю, что это было совершенно всерьез. При этом, несмотря на неуемное сладострастие, Франсиско всю жизнь любил только свою кузину, на которой женился, получив разрешение от папы римского, о чем, кажется, я уже рассказывала. Будь терпелива, Исабель: в семьдесят лет я стала склонна к повторениям.
Через несколько дней пути мы достигли долины Копиапо, где начиналась территория, выделенная для управления Педро де Вальдивии. Крик радости вырвался из груди испанцев: тяжелый путь был окончен. Вальдивия собрал всех участников экспедиции, подозвал к себе своих капитанов и меня, торжественно установил флаг Испании и вступил во владение территорией. Он назвал эту землю Новой Эстремадурой, потому что из Эстремадуры были родом и он, и Писарро, и большая часть дворян в нашей экспедиции, и я. Тут же капеллан Гонсалес де Мармолехо соорудил алтарь с распятием, золотой дароносицей — никакого другого золота, кроме этого, мы не видели многие месяцы — и маленькой фигуркой Девы Марии Заступницы, которая была признана нашей покровительницей, после того как помогла найти воду в пустыне. Капеллан отслужил проникновенную мессу, вознеся благодарность Господу. Мы причастились, и души наши исполнились радостью.
Долина была населена смешанными народами, находящимися под властью империи инков. Но они жили так далеко от Перу, что инкское влияние было необременительно. Их старейшины встретили нас скромными дарами — съестными припасами и длинными приветственными речами, которые нам перевели толмачи. Но было видно, что наше присутствие их беспокоит.
Дома у них были из соломы и глины, более крепкие и лучше устроенные, чем хижины, которые встречались нам раньше. У этих племен тоже был обычай жить рядом со своими умершими предками, но на этот раз солдаты побереглись осквернять мумии. Мы обнаружили несколько недавно покинутых деревень, принадлежавших враждебно настроенным индейцам, которые объединились под предводительством касика Мичималонко.
Дон Бенито выбрал для лагеря хорошо защищенное место, опасаясь, что индейцы окажутся более воинственными, когда поймут, что мы не собираемся возвращаться в Перу, как шесть лет назад поступила экспедиция Альмагро. Хотя нам нужна была провизия, Вальдивия запретил грабить обитаемые деревни и причинять какой-либо вред их жителям, полагая, что таким образом мы сможем привлечь их на свою сторону. Дон Бенито схватил еще нескольких посланников, которые на допросе повторили то, что мы уже знали: Инка приказал населению бежать в горы, предварительно спрятав или уничтожив все съестные припасы, что и выполнило большинство местных индейцев. Дон Бенито заключил, что чилийцы — так он называл всех жителей Чили, не разделяя их на племена, — наверняка спрятали свои запасы в песке, где легче было копать. Он послал всех солдат, кроме тех, кто стоял в дозоре, ходить по окрестностям, пробуя землю шпагами и копьями, пока не обнаружат клады. Таким образом мы заполучили маис, картофель, фасоль и даже несколько тыкв с забродившей чичей. Эти тыквы я забрала себе: чича хорошо помогала раненым переносить адскую боль прижигания ран.
Как только лагерь был готов, дон Бенито приказал поставить виселицу, и Педро де Вальдивия объявил, что на следующий день будет судить Санчо де ла Оса и других заговорщиков. Капитаны, в верности которых не было сомнений, собрались в нашем шатре и сели вокруг стола на табуретах, а Вальдивия расположился в кресле. Ко всеобщему изумлению, он позвал меня и, когда я пришла, указал мне на стул рядом с собой. Я села, немного смущенная недоверчивыми взглядами капитанов, которые никогда не видели, чтобы женщина принимала участие в военном совете. «Она спасла нас от смерти в пустыне и раскрыла заговор предателей. Ей, как никому, пристало участвовать в этом собрании», — сказал Вальдивия. Перечить ему никто не осмелился. Хуан Гомес — он очень нервничал, потому что в это самое время Сесилия мучилась родами, — положил на стол пять одинаковых кинжалов, рассказал то, что ему было известно о покушении, и назвал имена солдат, чья верность была сомнительна, особенно отметив некоего Руиса, который обеспечил заговорщикам доступ в лагерь и отвлек внимание караульных, стоявших у нашего шатра. Капитаны долго спорили о том, насколько опасны могут быть последствия казни де ла Оса, и в конце концов возобладало мнение Родриго де Кироги, совпадавшее с моим. Я старалась не открывать рта, чтобы меня не обвиняли в том, что я мужик в юбке и Вальдивия у меня под каблуком. Я следила за тем, чтобы капитанам вовремя наполняли бокалы, а слушать стала, только когда заговорил Кирога, и поддержала его кивком головы. Вальдивия уже принял решение, но ждал, когда то же самое предложит кто-нибудь другой, чтобы никому не показалось, что он спасовал перед Санчо де ла Осом и его королевскими грамотами.
Как и было объявлено, суд состоялся на следующий день в палатке обвиняемых. Вальдивия был единственным судьей, ему помогал Родриго де Кирога и еще один офицер, исполнявший роль секретаря и нотариуса. На этот раз я не присутствовала, но мне ничего не стоило узнать все подробности этого события. Вокруг палатки была выставлена вооруженная стража, чтобы не подпускать любопытных. Внутри стоял стол, за которым сидели три капитана, а по сторонам от них стояли чернокожие рабы, поднаторевшие в деле пыток и казней. Секретарь открыл свои книги и приготовил перо и чернила, а Родриго де Кирога разложил на столе пять кинжалов. Слуги принесли одну из моих перуанских жаровен, наполненную раскаленными докрасна углями, не столько для обогрева палатки, сколько для устрашения обвиняемых, прекрасно знавших, что пытки являются неотъемлемой частью всякого подобного суда. Пытку огнем применяют больше к индейцам, чем к испанским дворянам, но никто точно не знал, что намеревался делать Вальдивия. Заговорщики, стоя в кандалах перед столом, больше часа слушали, в чем их обвиняют. Им стало ясно, что «узурпатору», как они называли Вальдивию, их план был известен до мельчайших подробностей, вплоть до полного списка сторонников Санчо де ла Оса в экспедиции. Прибавить к этому было нечего. После длинной речи Вальдивии установилась тягостная тишина, только секретарь заканчивал делать записи в свою книгу.
— Вам есть что сказать? — спросил наконец Родриго де Кирога.
Тогда Санчо де ла Ос, с которого всю спесь как рукой сняло, упал на колени и заголосил, что он признает все, в чем его обвиняют, кроме того что он имел намерение убить Вальдивию, которого все пятеро уважают и которому готовы служить, не щадя живота своего. Эти кинжалы — пустяк, достаточно взглянуть на них, чтобы понять, что это не серьезное оружие. Вальдивия заставил его замолчать. Последовало новое невыносимое молчание. Наконец судья поднялся и зачитал приговор, который мне показался исключительно несправедливым. Но с Педро я его обсуждать не стала, потому что решила, что у него были причины поступить так, как он поступил.
Троих заговорщиков приговорили к ссылке: они должны были отправиться обратно в Перу пешком через пустыню с горсткой индейцев и одной ламой. Еще один был отпущен на свободу без всякого объяснения. Санчо де ла Ос подписал документ о том, что прекращает сотрудничество с Вальдивией — это был первый документ в Чили, — и был оставлен под стражей и в кандалах. Никакого приговора ему пока не вынесли: он был обречен и дальше гореть в аду неизвестности. Но самым странным было то, что Вальдивия приказал в тот же вечер казнить Руиса — солдата, который, конечно, помогал заговорщикам, но даже не был среди тех пятерых, которые вошли в наш шатер с одинаковыми кинжалами.
За неграми, которые должны были повесить этого сообщника де ла Оса, а затем четвертовать, лично следил дон Бенито. Голова Руиса и четыре части тела, разрубленного топором, были выставлены на мясницких крюках в разных концах лагеря, чтобы служить напоминанием колеблющимся, как сурово карается неверность Вальдивии. На третий день запах гниющей плоти стал так нестерпим, а тучи мух над ней так велики, что останки несчастного пришлось сжечь.
Роды у Сесилии, инкской принцессы, были долгими и трудными, потому что ребенок в ее чреве находился в неправильном положении. Повитухи говорят, что если младенец выживет в таких родах, то всю жизнь будет счастливым. Каталина помогла вытолкнуть ребенка наружу — на свет появилось существо фиолетового цвета, но здоровое и голосистое. То, что первый метис, рожденный в Чили, вышел из утробы матери как будто стоя, было добрым предзнаменованием.
Пока капитаны решали судьбу заговорщиков, Каталина поджидала Хуана Гомеса у входа в наш шатер. Этот мощный мужчина, перенесший во время нашего тяжкого пути больше, чем все остальные наши храбрецы, потому что во время перехода через пустыню отдавал свою порцию воды жене, шел пешком, уступив ей своего коня, после того как ее мул издох, и грудью защищал ее во время нападений индейцев, — расплакался, когда Каталина дала ему в руки сына.
— Я назову его Педро, в честь нашего губернатора, — объявил Гомес, подавляя всхлипы.
Такое решение одобрили все, кроме Педро де Вальдивии.
— Я не губернатор, а лишь исполняю его обязанности, представляя власть маркиза Писарро и его величества императора, — сухо напомнил он.
— Мы уже вступили на ту территорию, которая вам была определена для завоевания, сеньор генерал-капитан, и эта долина очень хороша. Почему бы нам не основать здесь город? — предложил Гомес.
— Прекрасная идея. А маленький Педро Гомес станет первым ребенком, крещенным в этом городе, — поддержал его Херонимо де Альдерете, который еще не полностью оправился от подхваченной в джунглях лихорадки и вовсе не был рад перспективе продолжать путь.
Но я знала, что Педро хочет продолжать идти на юг, так далеко на юг, как только можно, чтобы быть на максимальном удалении от Перу. Он мечтал основать свой первый город там, куда не дотянутся длинные руки губернатора, инквизиции, писак и подхалимов, как он называл в частных разговорах мелочных королевских чиновников, которые умудрялись докучать и в Новом Свете.
— Нет, господа. Мы будем двигаться дальше на юг, пока не достигнем долины реки Мапочо. Там, по уверениям дона Бенито, который был в тех местах во время экспедиции аделантадо Диего де Альмагро, идеальное место для основания нашей колонии.
— И сколько лиг осталось пройти дотуда? — с беспокойством спросил Альдерете.
— Много. Но меньше, чем мы уже прошли, — ответил дон Бенито.
Сесилию мы отпаивали отваром листьев баугинии, пока из нее полностью не вышел задержавшийся в чреве родовой послед, а потом остановили ей кровотечение настойкой корня кирказона — чилийским средством, о котором Каталина узнала незадолго до того и которое тут же дало результат. В то время как наши солдаты бились с чилийцами в постоянных стычках, Каталина спокойно выходила из лагеря, встречалась с чилийскими женщинами и обменивалась с ними рецептами лекарственных снадобий. Не знаю, как ей удавалось проскальзывать незамеченной мимо дозорных и находить подход к врагу, не опасаясь, что ей раскроят череп ударом топора.
Плохо было вот что: от применения большого количества лекарственных растений у Сесилии пропало молоко, и маленького Педро Гомеса пришлось вскармливать молоком ламы. Если бы он родился несколькими месяцами позже, то ему можно было бы приискать не одну кормилицу, ведь беременных индианок было много. С молоком ламы он впитал кротость, что впоследствии сильно усложнило ему жизнь, потому что ему выпало жить и воевать в Чили, а это не место для мужчин со слишком нежной душой.
А сейчас я должна рассказать об одном происшествии, которое ни для кого, кроме одного бедного юноши по имени Эскобар, не имело большого значения, но важно для понимания характера Педро де Вальдивии. Мой возлюбленный был человеком щедрым, служил прекрасным идеям, жил, следуя католическим принципам, и обладал огромной храбростью, поэтому им нельзя не восхищаться. Но были у него и недостатки, а некоторые из них — очень серьезные. Худшим была, без сомнения, чрезмерная жажда славы, которая в конце концов стоила жизни ему и многим другим людям. Но мне было тяжелее всего переносить его ревность. Он знал, что я не способна обманывать его, потому что это противно моей природе и потому что я его слишком люблю, но почему же тогда он сомневался во мне? Может быть, он просто сомневался в себе самом.
У солдат было столько индианок, сколько им хотелось, — одних они принуждали силой, другие были сговорчивы, — но наверняка им не хватало тех любовных глупостей, что шепчут на ухо по-испански. Люди всегда жаждут того, чего у них нет. Я была единственная испанка в экспедиции, любовница предводителя, всегда на виду, рядом, но недоступна и потому особенно желанна. Я тысячу раз спрашивала себя, не ответственна ли я за действия Себастьяна Ромеро, лейтенанта Нуньеса и этого юноши, Эскобара. Я не вижу за собой никакой вины, кроме той, что я — женщина, хотя это, кажется, уже серьезное преступление. Нас, женщин, обвиняют в похотливости мужчин, но разве грех не ложится на тех, кто его совершает? Почему я должна расплачиваться за пороки других?
В дорогу я отправилась, одетая так, как одевалась в Пласенсии: на мне были нижние юбки, корсет, рубашка, верхние юбки, тока, остроносые башмаки, — но очень скоро пришлось уступить обстоятельствам. Нельзя проскакать на коне тысячу лиг, сидя боком, по-женски, и не разбить себе спину, поэтому мне пришлось сесть в седло по-мужски. Я достала себе мужские штаны и сапоги, сняла корсет с китовым усом — кто только придумал это пыточное орудие? — а потом отказалась и от токи — она слишком тянула голову назад — и заплела волосы в косы, как делают индианки. Я никогда не носила одежду с глубоким вырезом и не позволяла себе фамильярностей с солдатами. Во время стычек с индейцами я надевала шлем, легкую кожаную кирасу и поножи, которые Педро приказал изготовить специально для меня, — без всего этого я погибла бы от индейских стрел в самом начале пути. Если это одеяние зажгло желание в Эскобаре и других участниках экспедиции, то я не понимаю, как устроен мозг у мужчин. Франсиско де Агирре не раз говорил, что самцы думают только о еде, блуде и убийствах, — это была одна из его любимых фраз. Впрочем, если речь идет о людях, то это не совсем так: люди думают еще и о власти. И я не согласна с Агирре, несмотря на все слабости, которые мне довелось обнаружить в мужчинах. Не все они одинаковы.
Наши солдаты много говорили о женщинах, особенно когда нам приходилось стоять лагерем несколько дней подряд и им было нечего делать, кроме как стоять по очереди в карауле и ждать. Они обменивались впечатлениями об индианках, похвалялись своими подвигами — изнасилованиями — и с завистью обсуждали похождения легендарного Агирре. К сожалению, мое имя часто всплывало в их беседах: говорили, что я — ненасытная самка, что я в седло сажусь по-мужски, чтобы конь распалял меня, и что под юбкой я ношу штаны. Последнее было правдой: не могла же я сидеть на коне по-мужски, не прикрыв бедра.
Самого юного солдатика в нашей экспедиции, мальчика восемнадцати лет от роду по имени Эскобар, который в Перу приехал юнгой в совсем нежном возрасте, эти сплетни возмущали: он еще не был испорчен жестокостями войны. Обо мне у него сложилось какое-то романтическое представление. Он был в том возрасте, когда влюбляются в любовь. Вбил себе в голову, что я — ангел, которого принуждает к извращениям ненасытный Вальдивия, заставляя, как падшую женщину, ублажать его в постели. Я узнала это от своих служанок-индианок, как узнавала обо всем остальном, что происходило вокруг меня. Для них не было никаких секретов, потому что мужчины, когда разговаривают, не обращают внимания на женщин, так же как не обращают внимания на лошадей или собак. Мужчины думают, что мы не понимаем того, что слышим. Я тайком стала следить за этим юношей и удостоверилась, что он старается быть поближе ко мне. Эскобар находил для этого разные предлоги: то учил трюкам Бальтасара, который постоянно вертелся около меня, то приходил ко мне сменить повязку на раненой руке, то просил, чтобы я показала, как готовить маисовую кашу, потому что обе его индианки якобы ничегошеньки не умели.
Педро де Вальдивия считал Эскобара чуть ли не сосунком и, думаю, не обращал на него никакого внимания до тех пор, пока солдаты не стали шутить над юношей. Поняв, что его интерес ко мне романтического, а не сексуального плана, они не оставляли его в покое, издеваясь над ним и заставляя плакать от унижения. Конечно же, рано или поздно солдатские шуточки должны были дойти до ушей Вальдивии. Тут он начал задавать мне всякие каверзные вопросы, а потом и следить за мной и даже устраивать ловушки. Он посылал Эскобара помогать мне, давая задания, более приличные для служанок, а юноша, вместо того чтобы возмутиться такими приказами и отказаться исполнять их, как поступил бы на его месте любой другой солдат, с радостью бежал исполнять поручения. Часто я встречала Эскобара в своем шатре, потому что Педро специально посылал его за чем-нибудь, зная, что я одна. Наверное, мне сразу нужно было попытаться вразумить Педро, но я не решилась: ревность превращала его в чудовище, и он мог вообразить, что у меня есть скрытые мотивы защищать Эскобара.
Эта дьявольская игра началась еще вскоре после того, как мы вышли из Тарапака. Затем, во время тягостного перехода через пустыню, она подзабылась — там ни у кого не оставалось сил на глупости, — но в приветливой долине Копиапо началась с новой силой. Эскобар был легко ранен в руку, но хотя мы прижгли рану, она никак не заживала, и мне приходилось обрабатывать ее и часто менять повязки. Я даже начала опасаться, что придется применить радикальные меры, но Каталина обратила мое внимание на то, что рана не смердела и жара у юноши не было. «Просто расчесывает, да, сеньорай, разве не видишь?» — подсказала она мне. Мне не хотелось верить, что Эскобар расковыривает рану специально, чтобы я подольше его лечила, но все же я поняла, что пришло время поговорить с ним.
Это было в вечерних сумерках, когда начинала звучать музыка лагеря: слышались звуки испанских гитар и флейт, печальные голоса индейских кен и барабаны темнокожих надсмотрщиков. У одного из костров жаркий тенор Франсиско де Агирре пел веселую песенку. В воздухе был разлит чудесный аромат жареного мяса, маиса и печенных на углях лепешек — единственной нашей трапезы за день. Каталина исчезла, как это часто бывало по вечерам, а я сидела в шатре вместе с Эскобаром, которому только что промыла рану, и псом Бальтасаром, который очень привязался к этому юноше.
— Если рана не заживет в скором времени, то, боюсь, придется отрезать вам руку, — огорошила я парнишку.
— Безрукий солдат ни на что не годен, донья Инес, — сказал Эскобар, побледнев от страха.
— Мертвый солдат — тем более.
Я дала ему выпить стакан чичи из опунции, чтобы помочь оправиться от испуга и самой выиграть время, потому что я не знала, как подступиться к нужной теме. Наконец я решила действовать прямо.
— Я вижу ваш интерес ко мне, Эскобар. И, так как это может обернуться плохо для нас обоих, впредь лечить вас будет Каталина.
И тут Эскобар, как будто он только и ждал, чтобы кто-нибудь приоткрыл дверь в его сердце, обрушил на меня водопад признаний вперемешку с романтическими заявлениями и обещаниями любви. Я попыталась напомнить ему, с кем он позволяет себе такие вольности, но он не дал мне договорить. Он обнял меня и крепко прижал к себе, так неудачно, что, отпрянув назад, я споткнулась о Бальтасара и повалилась спиной на пол, а Эскобар упал на меня. Любого другого, кто бы так набросился на меня, пес бы тут же разорвал в клочки, но этого юношу он хорошо знал и решил, что это игра, и, вместо того чтобы броситься на него, стал прыгать вокруг нас, радостно лая. Я сильная и не сомневалась, что смогу защитить себя, поэтому кричать не стала. От людей, которые были снаружи, нас отделяла лишь навощенная парусина, и я не хотела привлекать лишнего внимания. Раненой рукой прижимая меня к груди, а другой поддерживая под затылок, Эскобар осыпал мне лицо и шею поцелуями, влажными от слез и слюны. Я уже стала молиться Деве Заступнице, готовясь ударить его коленом в пах, но было поздно, потому что в эту минуту в комнату вошел Педро со шпагой в руке. Он все это время следил за нами, скрываясь в другой комнате шатра.
— Не-е-ет! — закричала я в ужасе, увидев, что он собирается проткнуть шпагой несчастного солдатика.
Резким рывком мне удалось выбраться из-под Эскобара и накрыть его своим телом. Я старалась защитить юношу и от шпаги Вальдивии, и от пса, который к тому времени вернулся к роли охранника и пытался укусить его.
Не было ни суда, ни объяснений. Педро де Вальдивия просто позвал дона Бенито и приказал ему повесить Эскобара на следующее утро, после мессы, перед всем нашим отрядом. Дон Бенито под руку увел дрожащего юношу и оставил его в одной из палаток под надзором, но без кандалов. Эскобар был совершенно изничтожен, но не страхом смерти, а болью разбитого сердца. Педро ушел в палатку Франсиско де Агирре, где всю ночь играл в карты с другими капитанами, и вернулся только на рассвете. Он не позволил мне поговорить с собой, но, думаю, даже если бы он это и позволил, мне бы ничего изменить не удалось. Он просто обезумел от ревности.
Тем временем капеллан Гонсалес де Мармолехо пытался утешить меня, говоря, что в том, что произошло, моей вины нет, а только вина Эскобара, потому что он возжелал жену ближнего своего, — какой-то вздор в этом духе.
— Надеюсь, вы не будете сидеть сложа руки, падре. Вы должны убедить Педро, что он собирается совершить ужасную несправедливость, — взмолилась я.
— Генерал-капитан должен поддерживать дисциплину среди своих людей, дочь моя, он не может терпеть подобных оскорблений.
— Педро прекрасно терпит, когда его люди насилуют и бьют жен других людей, но не дай Бог, если кто-то хоть пальцем тронет его собственную!
— Он не может взять свои слова обратно. Приказ есть приказ.
— Конечно, он не может взять свои слова обратно! Этот юноша не заслуживает виселицы за свой проступок, и вы это знаете так же хорошо, как и я. Идите и поговорите с Педро!
— Я поговорю с ним, донья Инес, но предупреждаю вас, что он не изменит своего решения.
— Пригрозите ему отлучением от церкви…
— Подобными угрозами так просто не бросаются! — в ужасе воскликнул священник.
— Да, а Педро вполне может так просто взять на душу убийство человека, правда? — возразила я.
— Донья Инес, смиритесь. Это не в ваших руках, а в руце Божией.
Гонсалес де Мармолехо все-таки отправился разговаривать с Вальдивией. Он завел разговор в присутствии капитанов, которые играли с Педро в карты, с мыслью, что они помогут убедить его простить Эскобара. Но капеллан просчитался: при свидетелях Вальдивия уж точно не мог отступиться от своего приказа. К тому же приятели поддержали его: на его месте они бы поступили точно так же.
Тогда я пошла в шатер Хуана Гомеса и Сесилии, как будто чтобы проведать новорожденного. Инкская принцесса была красива как никогда. Она отдыхала, лежа на мягкой перине, в окружении своих служанок. Одна индианка разминала ей ступни, другая — расчесывала ее волосы цвета воронова крыла, третья — выжимала молоко ламы с тряпочки в рот ребенка. Хуан Гомес восхищенно наблюдал за этой сценой, будто очутившись у яслей младенца Иисуса. Меня окатила волна зависти: я бы полжизни отдала за то, чтобы оказаться на месте Сесилии. Поздоровавшись с молодой матерью и поцеловав дитя, я взяла под руку отца и вывела его из палатки. Я рассказала ему, что произошло, и попросила помочь мне.
— Вы — альгвасил, дон Хуан, сделайте что-нибудь, прошу вас.
— Я не могу пойти против приказа дона Педро де Вальдивии, — ответил он, смотря на меня вытаращенными от удивления глазами.
— Мне стыдно напоминать вам об этом, дон Хуан, но за вами должок…
— Сеньора, вы просите меня помочь, потому что у вас есть особый интерес к этому солдату Эскобару? — спросил он.
— Как вам такое могло прийти в голову? Я стала бы вас просить за любого человека в этом лагере. Я не могу допустить, чтобы дон Педро совершил такой грех. Только не говорите мне, что это имеет отношение к военной дисциплине: мы оба знаем, что дело в одной лишь ревности.
— Что вы предлагаете?
— Все в руце Божией, как говорит капеллан. Как вы смотрите на то, чтобы немного направить Господню руку?
На следующий день, после мессы, дон Бенито собрал всех людей на центральной площади лагеря, где все еще стояла виселица, на которой раньше был повешен несчастный Руис. С перекладины уже свисала приготовленная веревка. Я первый раз оказалась на таком мероприятии: до того времени мне удавалось избегать присутствия при казнях и пытках. Мне вполне хватало жестокостей битв да страданий больных и раненых, которых я пользовала. В руках я держала фигурку Девы Заступницы — так, чтобы все могли ее видеть. Капитаны стояли в первом ряду четырехугольника, за ними — солдаты, а еще дальше — надсмотрщики и множество янакон, служанок-индианок и наложниц. Капеллан, потерпев неудачу с Вальдивией, всю ночь провел в молитвах. Кожа у него была зеленоватая, а под глазами — фиолетовые тени, как всегда бывало, когда он занимался самобичеванием. Впрочем, плеть у него была курам на смех, как говорили индианки, знакомые с настоящим кнутом.
Глашатай и барабанная дробь возвестили о начале казни. Хуан Гомес, в роли альгвасила, объявил, что солдат Эскобар совершил тяжкое нарушение дисциплины: злоумышляя, проник в шатер генерал-капитана и покусился на его честь. Дальнейшие объяснения были излишни. Никто не сомневался, что юноша поплатится жизнью за свою щенячью восторженную любовь. Два негра-палача привели преступника на площадь. Эскобар шел без кандалов, прямой как шест, спокойный, смотря прямо перед собой, как будто во сне. Перед казнью он попросил позволения помыться, побриться и надеть чистую одежду. Он встал на колени, и капеллан соборовал его, благословил и дал поцеловать святое распятие. Негры подвели несчастного к виселице, связали руки за спиной, перевязали лодыжки, а затем накинули веревку на шею. Эскобар не позволил надеть себе на голову колпак, — наверное, он хотел умереть, смотря на меня, и бросить тем самым вызов Педро де Вальдивии. Я ответила на его взгляд, стараясь утешить его.
Снова раздалась барабанная дробь, негры выбили подставку из-под ног преступника, и он повис в воздухе. Мертвая тишина стояла среди людей, слышен был только бой барабанов. Какое-то время, которое мне показалось вечностью, тело Эскобара болталось на веревке, а я горячо молилась, прижимая фигурку Девы Марии к груди. И тут произошло чудо: веревка вдруг оборвалась, и юноша упал на землю, где и остался лежать недвижно, будто мертвый. Громкий крик удивления вырвался из множества ртов. Педро де Вальдивия сделал три шага вперед, бледный как воск, не в силах поверить в случившееся. Еще до того, как он успел дать новый приказ палачам, капеллан вышел вперед с поднятым над головой распятием, столь же удивленный, как и все остальные.
— Свершился суд Божий! Свершился суд Божий! — закричал он.
Сначала я почувствовала, как по рядам людей пробежала волна шепота, потом — безумный гомон индейцев, волна которого докатилась до окаменевших испанских солдат и остановилась, пока кто-то не осенил себя крестным знамением и не опустился на колени на землю. Сразу же его примеру последовал второй, еще один и еще, пока все, кроме Педро де Вальдивии, не опустились на колени. Суд Божий…
Альгвасил Хуан Гомес отстранил палачей и собственноручно снял веревку с шеи Эскобара, снял путы с запястий и щиколоток и помог ему встать на ноги. Только я заметила, что он отдал веревку с виселицы какому-то индейцу, который тут же унес ее, прежде чем кому-нибудь пришло в голову рассмотреть ее вблизи. Больше за Хуаном Гомесом долга передо мной не было.
Эскобара не отпустили на свободу. Приговор ему был изменен на изгнание, он должен был вернуться в Перу, опозоренный, пешком и в сопровождении лишь одного янаконы. Даже если бы ему удалось избежать стрел воинственных индейцев долины, он бы погиб от жажды в пустыне и его тело, высохшее, как мумия, осталось бы непогребенным. То есть повесить его было бы более милосердно. Через час он покинул лагерь с тем же спокойным достоинством, с каким шел к виселице. Солдаты, которые прежде доводили его до безумия своими шутками, почтительно выстроились в две шеренги, и он прошел между ними, медленно, взглядом прощаясь с каждым и не произнося ни слова. У многих по лицу катились слезы стыда и раскаяния. Один отдал ему свою шпагу, другой — топор, третий привел ламу, нагруженную какими-то тюками и мехами с водой. Я наблюдала за этой сценой издали, пытаясь справиться со злобой на Вальдивию, такой сильной, что я едва не задыхалась от нее. Когда молодой человек выходил из лагеря, я догнала его, спешилась и вручила ему свое единственное сокровище — коня.
Мы провели в долине семь недель. За это время к нам присоединились еще двадцать испанцев, среди них два монаха и некий Чинчилья, подлец и смутьян, который сразу же стал вместе с Санчо де ла Осом затевать убийство Вальдивии. С де ла Оса сняли колодки, и он свободно бродил по лагерю, расфранченный и надушенный, придумывая, как бы отомстить генерал-капитану, но при этом оставаясь под неусыпным присмотром Хуана Гомеса.
Из ста пятидесяти человек, которые теперь были в нашей экспедиции, всего девять не имели дворянского титула. Остальные происходили из деревенской знати или из обедневших дворянских семейств, но дворянской спеси в них было не меньше, чем в выходцах из лучших домов Испании. Вальдивия говорил, что это ничего не значит, потому что в Испании благородных дворян очень много, но я полагаю, что эти люди перенесли свое тщеславие в Королевство Чили. К высокомерию испанцев прибавилась непокорность мапуче, и из этой смеси получился безумно надменный чилийский народ.
После изгнания юного Эскобара понадобилось несколько дней, чтобы лагерь пришел в обычное расположение духа. Люди были крайне раздражены, в самом воздухе ощущался гнев. По мнению солдат, виновата во всем была я: заманила невинного мальчика, соблазнила его, лишила покоя и довела до смерти. Я, бесстыдная развратница. А Педро де Вальдивия лишь исполнял долг и защищал свою честь. Долгое время я чувствовала, как озлобленные взгляды этих мужчин жгут мне кожу. Я ощущала их злобу так же ясно, как раньше ощущала их похоть. Каталина советовала мне не выходить из шатра до тех пор, пока души солдат не успокоятся, но для подготовки к дальнейшему пути нужно было делать множество дел, так что у меня не оставалось другого выбора, кроме как подставить себя под потоки их сквернословия.
Педро был занят включением новых солдат в экспедицию и слухами о готовящемся предательстве, которые ходили по лагерю, но нашел время, чтобы утолить свою злость на меня. Даже если он и понял, что переступил все границы разумного в своем стремлении отомстить Эскобару, он так этого и не признал. Сознание своей вины и ревность разожгли в нем огонь желания: он хотел обладать мной каждое мгновение, даже в самый разгар дня. Он бросал дела, прерывал совещания с капитанами и тащил меня в шатер на глазах у всего лагеря, так что все были в курсе происходящего. Вальдивию это не волновало, он поступал так намеренно, чтобы показать свою власть, унизить меня и бросить вызов сплетникам. Мы никогда не занимались любовью так грубо, он измочаливал меня и думал, что мне это нравится. Он хотел, чтобы я стонала от боли, раз уж я не стонала от удовольствия. Это было наказанием для меня, и я, как уличная девка, должна была выносить унижения, так же как Эскобар должен был сгинуть в пустыне. Я сносила такое обращение, сколько было возможно, думая, что скоро безумие Педро уляжется, но через неделю терпение мое иссякло, и я, вместо того чтобы повиноваться ему, когда он попытался взлезть на меня по-собачьи, дала ему звучную пощечину. Я не знаю, как это получилось, рука дернулась сама. На долгую минуту мы оба оцепенели от неожиданности, а потом колдовские чары, властвовавшие над нами, рухнули. Педро нежно и раскаянно обнял меня, а я вся задрожала, такая же сокрушенная, как и он.
— Что я натворил! Что с нами сделалось, любовь моя? Прости меня, Инес! Прошу тебя, давай забудем все это… — заговорил он.
Мы так и остались лежать, обнимая друг друга, с замиранием сердца шепча объяснения, прощая друг друга. Наконец мы, истощив все силы, заснули, так и не занявшись любовью.
С этого момента утраченная любовь стала возвращаться к нам. Педро снова стал ухаживать за мной страстно и нежно, как в самом начале. Мы совершали небольшие прогулки, всегда под охраной нескольких солдат, потому что воинственные индейцы могли атаковать в любой момент. Обедали мы наедине в нашей палатке, а перед сном он читал мне, а потом целыми часами ласкал меня, чтобы доставить мне то удовольствие, в котором так недавно отказывал.
Он желал детей так же, как и я, но я все не беременела, несмотря на молитвы Деве Марии и снадобья, которые готовила Каталина. Я бесплодна, я не смогла зачать ребенка ни с одним мужчиной из тех, кого я любила, — ни с Хуаном, ни с Педро, ни с Родриго, — ни с теми, с кем меня связывали лишь краткие тайные встречи. Но думаю, что и Педро был бесплоден, потому что у него не было детей ни от Марины, ни от других женщин. «Завоевать славу и оставить по себе память» — вот зачем он отправился в Чили. Быть может, таким образом он пытался отыграться за династию, которую не смог основать. Он оставил свое имя в истории, хотя и не смог передать его своим потомкам.
Педро был столь предусмотрителен и терпелив, что научил меня обращению со шпагой. Кроме того, он подарил мне нового коня взамен того, что я отдала Эскобару, и поручил своему лучшему наезднику обучить скакуна. Военный конь должен повиноваться всаднику инстинктивно, потому что наездник будет занят оружием. «Никогда не знаешь, что может случиться. Раз ты настолько храбра, что поехала со мной, ты должна уметь защищаться не хуже, чем любой из моих людей», — сказал мне Педро. Это была очень благоразумная мера. Те, кто лелеял надежду отдохнуть от тягот пути в Копиапо, очень скоро разочаровались, потому что индейцы нападали на нас, стоило немного ослабить бдительность.
— Мы отправим послов и объясним им, что мы пришли с миром, — сказал Вальдивия на одном из советов со своими главными капитанами.
— Это плохая идея, — отозвался дон Бенито, — ведь они, без сомнения, помнят, что произошло шесть лет назад.
— Что вы имеете в виду?
— Когда мы прибыли сюда с доном Диего де Альмагро, чилийские индейцы не только вели себя дружелюбно, но и одарили нас золотом, которое собирали в качестве дани Инке — они уже знали, что его свергли. Но подозрительному аделантадо этого показалось мало, и он разными посулами созвал индейцев на совет и, как только завоевал их доверие, приказал нам напасть на них. Многие погибли в этой бойне, но тридцать касиков мы взяли в плен. Их привязали к кольям и сожгли заживо, — рассказал дон Бенито.
— Зачем вы это сделали? Разве не лучше жить в мире? — возмущенно спросил Вальдивия.
— Если бы Альмагро не сделал это первым, индейцы бы поступили так же с испанцами чуть погодя, — вмешался Франсиско де Агирре.
Чилийцы больше всего жаждали заполучить наших коней, а боялись они больше всего собак, поэтому дон Бенито приказал поместить лошадей в загон и охранять его собаками. Полчища здешних индейцев повиновались трем касикам, во главе которых, в свою очередь, стоял могущественный Мичималонко. Он был хитрый старик: прекрасно понимая, что сил штурмовать лагерь уинок у него недостаточно, он решил взять нас измором. Это его воины тайно похищали у нас лам и лошадей, портили запасы провианта, похищали наших индианок, нападали на группы солдат, выходившие из лагеря за едой и водой. Так они убили одного солдата и нескольких наших янакон, хотя янаконы к тому времени поневоле выучились сражаться, потому что иначе шансов выжить у них не было вовсе.
Весна началась в долине и в горах, склоны покрылись цветами, воздух потеплел, и стали рожать индианки, кобылы и ламы. Нет животного более прелестного, чем детеныш ламы. С появлением новорожденных, принесших нотку радости в жизнь загрубевших испанцев и измученных янакон, настроение в лагере улучшилось. Реки, мутные зимой, стали прозрачными и более полноводными — в горах таял снег. Стало много травы для животных, дичи, зелени и фруктов — для людей. Оптимизм, принесенный весенним воздухом, ослабил бдительность, и тогда, когда мы меньше всего этого ожидали, у нас сбежали двести янакон, а за ними — еще четыреста. Они просто испарились как дым. Сколько по приказу сурового дона Бенито ни стегали кнутами надсмотрщиков — за то, что недоглядели, — и индейцев — за то, что пособничали, — узнать, как этим янаконам удалось убежать и куда они направились, так и не удалось. Очевидно было одно: они не могли далеко уйти без помощи чилийцев, которые нас окружали, потому что иначе бы их перебили. Дон Бенито утроил количество караульных и приказал держать янакон связанными день и ночь. Надсмотрщики непрерывно патрулировали лагерь с кнутами в руках и в сопровождении собак.
Вальдивия дождался, когда у жеребят и маленьких лам окрепнут ноги, и тут же отдал приказ продолжать движение на юг, к райскому месту, о котором рассказывал дон Бенито, — к долине Мапочо. Мы знали, что «Мапочо» означало почти то же, что и «мапуче»; что нам придется столкнуться с дикарями, которые заставили отступить пять сотен солдат и по крайней мере восемь тысяч янакон Альмагро. У нас было всего сто пятьдесят солдат и меньше четырехсот непокорных янакон.
Мы поняли, что Чили имеет вытянутую форму и силуэтом похожа на шпагу. Эта страна состоит из россыпи долин, которые простираются между гор и вулканов и через которые текут полноводные реки. Морской берег здесь обрывист, а за ним — страшные холодные волны; леса здесь густы и ароматны, горы — бесконечны. Мы часто слышали вздохи земли и чувствовали, как почва ходит под ногами, но со временем привыкли к этой дрожи. «Так я и представлял себе Чили, Инес», — надтреснутым от волнения голосом признался Педро, созерцая девственную красоту пейзажа.
Но мы не только любовались красотами пейзажа: приходилось преодолевать множество трудностей, потому что индейцы Мичималонко непрестанно преследовали и дразнили нас. Спали мы совсем немного и по очереди, потому что стоило чуть ослабить внимание, как индейцы тут же нападали на нас.
Ламы — животные хрупкие, они не могут переносить тяжести, от этого у них ломается позвоночник. Поэтому нам пришлось заставить оставшихся янакон нести тюки тех, кто сбежал. И хотя мы выбросили все, что не было необходимо, — в том числе несколько тюков с моими нарядами, которые здесь, в Чили, были совершенно ни к чему, — индейцы брели низко согнувшись под тяжестью ноши; к тому же, чтобы не разбежались оставшиеся, они были связаны, и это делало наш путь медленным и мучительным.
Солдаты перестали доверять служанкам-индианкам, которые оказались не такими покорными и глупыми, как они предполагали. Они продолжали сношаться с этими женщинами, но не решались спать в их присутствии, а некоторые стали думать, что индианки их понемногу отравляют. Но не яд разъедал им душу и размалывал кости, а усталость. Многие злились на индианок, только чтобы скрыть собственное беспокойство. Тогда Вальдивия пригрозил вовсе отнять служанок и действительно отнял их у двух или трех человек. Солдаты взбунтовались, потому что не могли допустить, чтобы кто-нибудь, даже глава экспедиции, вмешивался в такую личную сферу, как отношения с наложницами, но Педро, как всегда, победил. Проповедовать нужно, будучи образцом добродетели, сказал он. И добавил, что не потерпит, чтобы испанцы вели себя хуже дикарей. В конце концов солдаты нехотя повиновались. Правда, Каталина рассказывала мне, что они продолжают бить своих женщин, но только не по лицу, чтобы синяки были не так заметны.
Чилийские индейцы вели себя все более дерзко, и мы задавались вопросом, что станется с несчастным Эскобаром. Мы воображали, что его ждет долгая и мучительная смерть, но никто не решался даже упомянуть имя этого юноши, не желая накликать несчастья. Быть может, если мы забудем его имя и лицо, он станет прозрачным, как ветер, и сможет незаметно проскользнуть мимо врага.
Мы двигались черепашьим шагом, потому что янаконы не справлялись с грузом, и было много жеребят и другого приплода. Родриго де Кирога всегда ехал впереди: он обладал острым зрением и видел все до самого горизонта, и отвага никогда не покидала его. Арьергард защищали Вильягра, которого Педро де Вальдивия назначил своим заместителем, и Агирре, которому не терпелось вступить в бой с индейцами. Битвы он любил так же сильно, как женщин.
— Индейцы наступают! — однажды прокричал гонец, посланный к нам Кирогой.
Вальдивия распорядился, чтобы я с другими женщинами, детьми и животными оставалась в месте, более или менее защищенном скалами и деревьями, и сразу стал выстраивать солдат в боевой порядок — но не в терции, как это делалось в Испании, когда на каждого конника приходится по три пехотинца, ведь здесь у нас почти все были верхом.
Я говорю, что все наши были на конях, и может показаться, что у нас был образцовый эскадрон из ста пятидесяти всадников, способный справиться с десятью тысячами индейцев. На самом деле животные были очень худы и измотаны тяжелой дорогой, а люди были в лохмотьях, в плохо подогнанных латах, в измятых шлемах и с заржавленным оружием. Они были храбры, но неорганизованны и заносчивы; каждый стремился к личной славе. «Почему испанцу так трудно быть одним из многих? Все хотят быть генералами!» — часто сокрушался Вальдивия. Кроме того, у нас осталось так мало янакон, а те, что остались, были так измождены и озлоблены из-за плохого обращения, что рассчитывать на существенную помощь с их стороны было нельзя: они сражались постольку, поскольку иначе их ждала смерть.
Во главе отряда стоял Педро де Вальдивия — он всегда шел первым, хотя капитаны просили его поберечься, ведь без него мы бы пропали. С криком «С нами святой Иаков!», которым испанцы много веков подряд призывали помощь апостола в битвах с маврами, он выехал вперед. Аркебузиры уже стояли, уперев одно колено в землю, с оружием наготове. Вальдивия знал, что чилийцы, безразличные к смерти, идут в битву с открытой грудью, без щитов или какой-либо другой защиты. Они не боятся аркебуз, потому что от них больше шума, чем вреда, но останавливаются при виде собак, опасаясь, что те в пылу схватки съедят их заживо. Они толпой идут на испанские шпаги, которые наносят им большой ущерб, а их собственные каменные снаряды отскакивают от металла доспехов. Пока уинки верхом, они непобедимы, но если удается сбить их с коней, индейцы легко истребляют всех.
Мы еще не закончили готовиться к битве, когда услышали душераздирающие вопли, с которыми индейцы идут в атаку. Этот ужасающий ор распаляет их до безумия и должен парализовать страхом врага, но в нашем случае эффект был обратный: воинственные крики индейцев лишь переполняли нас яростью. Отряд Кироги успел соединиться с отрядом Вальдивии за мгновение до того, как полчища врагов хлынули в долину с гор. Их были тысячи и тысячи. Они бежали почти обнаженные, с луками и стрелами, копьями и палицами, воя, вне себя от предвкушения битвы. Залп из аркебуз скосил первые ряды, но это не остановило и даже не замедлило бег остальных. Через пару минут мы увидели раскрашенные лица индейцев рядом с собой, и началась схватка. Копья наших солдат пронзали их тела цвета глины, шпаги рубили головы и руки, копыта лошадей топтали упавших. Когда индейцам удавалось подойти близко, они оглушали лошадь топором, и, как только у нее подкашивались ноги, двадцать рук хватало всадника и стаскивало его на землю. Шлемы и кирасы защищали солдат всего на несколько мгновений, но иногда этого времени оказывалось достаточно, чтобы кто-нибудь пришел на помощь. Стрелы, бесполезные против кольчуги и лат, оказывались очень опасными, когда попадали в незащищенные части тела. В шуме и хаосе битвы раненые испанцы продолжали сражаться, не чувствуя боли и не замечая кровотечения, а когда они в конце концов падали, кто-нибудь их выносил с поля битвы и волоком притаскивал ко мне.
Я с помощью своих индианок организовала крошечный госпиталь. Нас защищали несколько верных янакон, которые хотели спасти женщин и детей своего племени, и темнокожих невольников, которые боялись, что, если они попадут в руки наших врагов, с них сдерут кожу, чтобы выяснить, крашеная она или нет, как — они знали об этом — происходило с их собратьями раньше в других местах. Мы делали перевязки тряпками вместо бинтов, ставили жгуты для остановки кровотечения, спешно прижигали раны раскаленными углями и, едва мужчины были в состоянии встать на ноги, давали им воды или глоток вина, возвращали им оружие и отправляли сражаться дальше. «Дева Заступница, защити Педро», — бормотала я, когда в ужасном деле обработки ран выдавалась мимолетная передышка. Ветер приносил нам запах пороха и лошадиного пота, который смешивался с запахом крови и паленого мяса. Умирающие хотели исповедоваться, но капеллан и другие монахи были на поле битвы, так что я сама крестила им лоб и давала отпущение грехов, чтобы они могли отойти с миром. Капеллан объяснял мне, что в случае необходимости при отсутствии священника крестить и соборовать может любой христианин, но я не была уверена, позволено ли это делать и женщине. К предсмертным хрипам и стонам боли, воплям индейцев, ржанию лошадей и взрывам пороха примешивался плач испуганных женщин, у многих из которых за спиной были привязаны дети. Сесилия, привыкшая к тому, чтобы ей прислуживали как принцессе — ведь она и была принцессой, — вдруг спустилась с небес на землю и работала плечом к плечу с Каталиной и со мной. Эта женщина, такая миниатюрная и изящная, оказалась гораздо сильнее, чем можно было себе представить. Ее туника из тончайшей шерстяной ткани была насквозь пропитана чужой кровью.
Был момент, когда нескольким врагам удалось приблизиться к тому месту, где мы пользовали раненых. Вдруг я услышала крики громче и ближе, чем раньше, и, подняв взгляд — я как раз пыталась вытащить стрелу из бедра дона Бенито, а другие женщины держали его, — очутилась лицом к лицу с дикарями, которые толпой шли на нас с поднятыми топорами, заставив отступить наших слабых охранников — янакон и негров. Не задумываясь, я схватила двумя руками шпагу — с ней научил меня обращаться Педро — и приготовилась защищать небольшой пятачок нашего полевого госпиталя.
Во главе атакующих был пожилой индеец с размалеванным лицом и украшенный перьями. Старый шрам пересекал его щеку от виска до самого рта. Я разглядела эти детали в одно мгновение: все происходило очень быстро. Я помню, что мы стояли напротив друг друга — он со своим коротким копьем, а я со шпагой, которую мне приходилось держать обеими руками, — в одинаковых позах, крича от ярости и одинаково свирепо смотря друг на друга. И тут вдруг старик сделал знак, и его люди остановились. Я бы не поклялась в этом, но мне показалось, что на его лице цвета земли промелькнула легкая улыбка. Он развернулся и начал удаляться с проворством юноши как раз в тот момент, когда Родриго де Кирога галопом принесся к нам и уже был готов обрушиться на нападавших. Старик этот был вождь Мичималонко.
— Почему он не бросился на меня? — спросила я потом у Кироги.
— Потому что не мог вынести позора сражаться с женщиной, — объяснил он.
— А вы бы поступили так же, капитан?
— Конечно, — ответил он, не колеблясь.
Битва продолжалась часа два и шла так интенсивно, что это время пролетело стремительно, ведь осознавать происходящее было некогда. Внезапно, практически отбив территорию, индейцы разбежались и скрылись в тех же горах, откуда появились. Они оставили на поле битвы своих раненых и убитых, но угнали всех лошадей, которых только смогли захватить. Дева Заступница снова спасла нас.
Поле сражения было усеяно телами, и пришлось сажать на цепь обезумевших от запаха крови собак, чтобы они не сожрали и наших раненых. Негры ходили между павшими, добивая раненых чилийцев и подбирая наших, чтобы отнести их ко мне. Я приготовилась к тому, что нас ждало. Долгие часы долина содрогалась от воплей людей, о которых нужно было позаботиться. Мы с Каталиной бесконечно долго вытаскивали стрелы и прижигали раны, а это дело в высшей степени неприятное. Говорят, что человек ко всему привыкает, но это неправда: я так и не смогла привыкнуть к этим душераздирающим крикам. Даже сейчас, в старости, основав первую в Чили больницу и проведя всю жизнь в заботах о больных и раненых, я все же слышу стоны войны. Если бы раны можно было зашить иголкой с ниткой, как зашивают разорванную ткань, это было бы не так невыносимо, но, к сожалению, только огонь помогает избежать кровопотери и нагноения.
На Педро де Вальдивии было множество мелких ран и ушибов, но он отказался от моего лечения. Он сразу же созвал совет капитанов, чтобы понять, каковы наши потери.
— Сколько убитых и раненых? — спросил он.
— Дон Бенито серьезно ранен стрелой. Один солдат убит, тринадцать ранены, один из них тяжело. По моим подсчетам, у нас увели больше двадцати коней и убили несколько янакон, — доложил Франсиско де Агирре, который в арифметике не был особо силен.
— Четыре негра и шестьдесят три янаконы ранены, из них несколько — тяжело, — поправила его я. — Погибли один негр и тридцать один индеец. Думаю, двое не доживут до утра. Придется везти раненых на лошадях: мы не можем их бросить. А тех, кто находится в самом тяжелом состоянии, нужно будет нести в гамаках.
— Мы встанем здесь лагерем на несколько дней. Капитан Кирога, пока что вы будете выполнять обязанности дона Бенито как главы лагеря, — приказал Вальдивия. — Капитан Вильягра, подсчитайте, сколько дикарей осталось на поле битвы. Вы будете ответственны за безопасность, ведь, как я полагаю, враг рано или поздно вернется. Капеллан, займитесь погребением павших и заупокойными мессами. Движение мы продолжим, как только донья Инес сочтет это возможным.
Несмотря на все меры предосторожности, принятые Вильягрой, лагерь был очень уязвим, ведь мы стояли на открытой равнине. Индейцы оставались в горах, но признаков жизни в течение тех двух дней, которые мы провели в этом месте, не подавали. Дон Бенито объяснил, что после каждой битвы они напиваются до потери сознания и не атакуют снова, пока через несколько дней не оправятся от последствий. Тем лучше! Надеюсь, недостатка в чиче у них никогда не будет.

