Часть третья
Глава первая
Абрам фон Хельрунг мощно выдохнул, не выпуская изо рта сигары; широко расставив крепкие ноги и нервно подрагивая плечами, он наблюдал утреннюю толчею на тротуарах из окна своего каменного дома на Пятой авеню. Солнечный свет придавал его лицу с темными ложбинами морщин сходство с каменистым ландшафтом. Его глаза, обычно яркие, как у птицы, сейчас отдавали расплывчатой голубизной зимнего небосклона.
– Беда, – бормотал он. – Беда!
– Бедой принято именовать последствия непредвиденной катастрофы, – пропищал с дивана за его спиной Хайрам Уокер. – Я же с самого начала предупреждал, что размещение экземпляра Т. Церрехоненсиса в Монстрариуме…
– Уокер, – процедил монстролог сквозь стиснутые зубы. Он стоял у камина, как воплощение истинной ярости. – Заткнитесь.
Англичанин шумно шмыгнул носом. Рядом с ним сидел его ученик, Сэмюэль Посредственный, и злобно пялился на меня. Вся левая сторона его лица распухла. Не исключено, что я сломал ему челюсть; во всяком случае на это надеялся. Есть люди, к которым с первого взгляда проникаешься искренней антипатией без всякой своей на то воли. Думаю, я бы ненавидел его, даже если бы он уступил мне на балу.
– Не будем тыкать друг в друга пальцами, это не решит проблему, – заметил доктор Пелт. Он изящно разместил свое большое костистое тело на козетке и пил кофе из чашечки, которая казалась игрушечной в его огромных руках. Коричневые капельки повисли на его пышных, словно куст, усах.
– Верно, – согласился сэр Хайрам. – Прибережем обсуждение последствий кое-чьих действий до конца программы.
– Кое-чьих действий? О чем это вы? – вскинулся Уортроп. – Я поступил абсолютно правильно.
– Вы привезли его сюда. Вы решили засунуть его в Монстрариум. Это же ваш «трофей», не так ли?
Уортроп побледнел. Доктора, занимавшиеся им в Бельвью, настоятельно рекомендовали ему избегать всяческих нагрузок, – точнее, решительно прописали ему постельный режим, – и хорошо, иначе увесистый бюст Дарвина с каминной полки полетел бы кое-кому в голову.
– Хайрам, – сказал он ровным голосом, – вы бесхребетная особь, лишенная воли и подбородка, помесь человека с губкой, а интеллект у вас как у морского огурца, но я не сержусь на вас за это. В конце концов, человек не властен выбирать себе мать.
Пуговичные глаза Уокера стали еще больше похожи на пуговицы, его рот беззвучно задергался, губы приоткрылись, обнажая желтые кривые зубы. Лили рядом со мной подавила смех. Я не стал сдерживаться.
– Смейтесь надо мной, Уортроп, смейтесь сколько хотите. Посмотрим, кто услышит ваш смех, когда он будет доноситься с Блэквел Айленда!
– Это вы во всем виноваты, фон Хельрунг, – заявил монстролог старому австрийцу.
– Я? Почему я?
– Вы его пригласили.
– О, а я уж думал, вы хотите сказать…
– От этого человека толку, как… – Уортроп запнулся в поисках подходящей метафоры.
Пелт предложил свой вариант:
– Как от козла молока.
– Джентльмены, прошу вас, – мягко корил их фон Хельрунг. – Мы здесь не для того, чтобы обсуждать достоинства доктора Уокера.
Плечи Лили ходили ходуном. Еще немного, и она рассмеется во весь голос. Я успокаивающе похлопал ее по руке.
– Что сделано, то сделано, – сказал монстролог из Аргентины, сосед Пелта; его имя – Сантьяго Луис Морено Акоста-Рохас – было больше него самого. Доктор считал его безнадежным спорщиком и упрямцем, но даже он признавал авторитет Акоста-Рохаса во всем, что касалось Т. Церрехоненсиса. – Тыкать пальцами и перекладывать вину друг на друга – не лучше, чем доить гипотетического козла. Утраченного этим не вернуть. А вернуть его мы обязаны, причем быстро! Перед нами две одинаково страшные возможности: либо воры потерпят неудачу с украденным ими существом, либо, наоборот, преуспеют. Если оно сбежит, погибнут люди. Если нет, еще больше людей станут жертвами пагубной привычки к его яду.
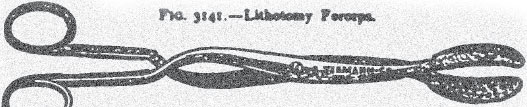
– Вы не сказали о наихудшей возможности, – заявил Уортроп. – Его могут убить.
– Что ж, теперь мы знаем, зачем его похитили, – сказал Пелт. – Осталось только понять, кто.
– Преступные элементы, – фыркнул Уокер с видом человека, сообщающего очевидное. – Мертвые Кролики, скорее всего, если судить по ирландскому акценту, который описывал Уортроп.
– Кха! – каркнул фон Хельрунг. – О «Мертвых Кроликах» с семидесятых годов никто не слышал.
– Гоферы, – предложил Пелт. – Как, по-вашему, Пеллинор?
Монстролог напрягся; он помрачнел так, словно Пелт бросил ему личное оскорбление.
– Гадать на кофейной гуще не в моих правилах. Возможно, мы имеем дело с бандой, или даже двумя, судя по тому, что в процессе совершения преступления одному из бандитов выстрелили в затылок. Однако нельзя упускать из виду и то, что всякий, у кого найдется двадцать свободных долларов и десять минут, чтобы дойти до Пяти Углов, может нанять там сколько угодно распоследних негодяев для этой или любой другой работы, причем без всяких знакомств в криминальном мире. – На нас он не смотрел. Его взгляд был устремлен в пустые глаза Дарвина, пальцем он гладил своего героя по мраморному носу. – Так что главный вопрос не в том, кто или почему, а как. Как эти безграмотные бандиты прознали о сокровище, хранящемся в святая святых Комнаты с Замком?
Вопрос повис в воздухе. Фон Хельрунг сразу понял его подоплеку, и его обширная, точно бочонок, грудная клетка раздулась так, что с жилета едва не посыпались пуговицы. Сдвинув губы, будто собираясь свистнуть, он все же воздержался от отповеди, ожидая, когда Уортроп закончит:
– Доктор фон Хельрунг поправит меня, если я ошибаюсь в подсчетах, но, по-моему, всего шесть человек знали о той особой презентации, которую я готовил для этого совета. Один из них мертв. Остальные в этой комнате.
Акоста-Рохас вскочил, точно ужаленный; ножки его стула заскребли по паркету.
– Я глубоко оскорблен подобными подозрениями!
– Разве предать доверие не более оскорбительно, чем намекнуть на такую возможность? – парировал Уортроп.
– Ну, ну, не надо спешить с выводами, майн фройнд, – запротестовал фон Хельрунг, размахивая перед собой пухлыми руками. – Мы все здесь люди почтенные. Ученые, а не искатели выгоды.
– Ничего удивительного, – объявил Уокер во всеуслышание. – Созерцание худших сторон природы извратило его восприятие природы человеческой.
– Избавьте нас от ваших банальностей, Уокер! – воскликнул доктор. – Все мы здесь изучаем самые совершенные творения природы, но это не имеет отношения к делу. Разум не хорош и не плох сам по себе; почему же тогда им обладают не все люди? Думаю, что Адольфа из числа возможных предателей можно исключить. У него не было мотива. Он шестьдесят лет имел доступ к любым сокровищам, большим и малым, и ни разу не попытался извлечь из этого выгоду.
– По мне, так наиболее вероятный подозреваемый и есть самый очевидный, – сказал Пелт. – Тот тип, Метерлинк, или его таинственный наниматель. Вряд ли они обрадовались, когда вы отклонили их предложение. А уж приехать за вами в Нью-Йорк и вызнать местопребывание Т. Церрехоненсиса для них труда не составило бы.
Тут заговорил я:
– Невозможно. Метерлинк в Лондоне.
– А вы откуда знаете, что он именно там? – спросил Акоста-Рохас, подозрительно прищурившись.
– Ему больше некуда было податься, – ответил я уклончиво.
– Очень странно, – сказал Уокер, – что ученик доктора Уортропа в курсе передвижений таинственного мистера Метерлинка. Любопытно, что еще ему известно.
– Уокер, я даже не знаю, что считать более оскорбительным, – зарычал Уортроп. – Ваш намек на возможное предательство мистера Генри неуместен!
– Хватит! – воскликнул фон Хельрунг, в порыве отчаяния ударяя себя в грудь. – Ваша грызня и детские оскорбления ни к чему не приведут. Мы все здесь друзья, по крайней мере, коллеги, и я готов поклясться честью – даже жизнью, – что в этой комнате предателей нет. При всем уважении к вашему мнению, Пеллинор, нас сейчас должно больше всего заботить не зачем, не кто и не как, а где. Остальное подождет.
– Этим нам и следует заняться, причем быстро, – поддержал его Пелт. – Ведь похитители могут быть уже на полпути в Роаноак, мы же не знаем.
– Роаноак? – переспросил Уортроп.
– Такая пословица.
– Странно, никогда не слышал, – сказал Акоста-Рохас.
– Вы же из Аргентины; что тут удивительного.
– Мне она тоже кажется странным, – сказал Уокер с подозрением. – Почему именно Роаноак, что это за место такое?
– Да первое, какое пришло на ум! – взвился Пелт. – Что тут особенного?
– Пословицы никогда не приходят на ум случайно, – пояснил Акоста-Рохас. – Иначе они не были бы пословицами.
Но чаша терпения Уортропа переполнилась. Даже он, похоже, осознал, что перебранки и подозрительность в такой ответственный момент ни к чему не приведут.
– Фон Хельрунг, боюсь, нам не обойтись без помощи властей, – деловито сказал он, поворачиваясь к своему бывшему наставнику. – Надо аккуратно задать несколько вопросов представителям определенных кругов администрации Нью-Йорка.
Мейстер Абрам серьезно кивнул и перекатил огрызок толстой сигары из одного угла рта в другой.
– У меня есть на примете человек – надежный, не слишком любопытный. Его как раз только что назначили следователем.
Уортроп громко расхохотался.
– Ну, еще бы!
– Одну минуту. – Акоста-Рохас был в шоке. – Вы собираетесь привлечь к делу полицию?
Монстролог не удостоил его взглядом. Он продолжал говорить с фон Хельрунгом.
– Расследование убийства может поставить нас в неловкое положение.
– Несомненно, майн фройнд, но я же не глупец, чтобы заявлять о нем!
Глава вторая
Мы с монстрологом вернулись в «Плазу», чтобы сменить фраки на более подходящую одежду, а фон Хельрунг отправился в полицию, захватив с собой Лили, чтобы попутно завезти ее домой, в Риверсайд. Та не спала уже сутки, но все еще была бодра и полна сил – когда начиналась охота, она не уступала выносливостью самому Уортропу.
– А женщине дадим уютную грелку и отправим спать, поцеловав на прощание! – буркнула она на пороге. Ее платье было в пыли Монстрариума, прическа растрепалась, локоны цвета воронова крыла уныло повисли. Но глаза по-прежнему горели знакомым огнем. Я нежно потрепал ее по плечу и поцеловал в щечку. Но, вопреки моим надеждам, она не развеселилась, а, наоборот, сильно наступила острым каблучком мне на ногу.
– Не пытайся быть обаятельным, тебе это не идет, – сказала она.
– Отдохни, Лили, – ответил я. – Если получится, я позже к тебе зайду.
Она посмотрела мне прямо в глаза и спросила:
– Зачем?
Даже будь у меня готов ответ – которого не было – я все равно не успел бы его дать, потому что из-за угла вдруг вынырнул Сэмюэль, все еще франтом, в пальто и фраке, хотя и с распухшей челюстью.
– Вы все еще должны мне танец, мисс Бейтс. Я помню, – сказал он, немного шепелявя. Приложился к ее ручке, а уж потом повернулся ко мне. Его обезображенный рот скривился в гнусной пародии на улыбку.
– Нас, кажется, не представили, старина. – Похоже, его рот открывался не больше чем на полдюйма. – Моя фамилия Исааксон.
Я не видел, как он нанес удар. Заметил только, как он двинул бедрами, вкладывая всю силу корпуса в движение руки; наверное, учился боксу. Стены в доме фон Хельрунга завертелись; я рухнул на персидский ковер, прижав руки к солнечному сплетению. В мире кончился кислород. Исааксон торчал надо мной, весь черно-белый, с головой как тыква.
– Бойцовый пес Уортропа. – Он ощерился на меня. – Персональный ассасин. Я слышал о тебе и Адене, и о русских во время Тур дю Силенс, и об англичанине в горах Сокотры. Скольких еще ты отправил на тот свет по его заказу?
– Одного ты пропустил, – выдохнул я. – Но Уортроп тут ни при чем.
Трудно смеяться от души, когда у тебя не открывается рот, но Исааксон как-то умудрился сделать это.
– Надеюсь, Чулан Чудовищ тебе по нраву, Генри. В один прекрасный день ты сам станешь экземпляром в этом бестиарии.
Он легко перешагнул через меня, сбежал по лестнице к выходу и подозвал такси. Лили помогла мне встать; ее душил то ли смех, то ли слезы. Я так и не понял, что именно.
– Ты и теперь считаешь его посредственностью? – спросила она.
– Дело не в том, как именно он мне врезал, – ответил я. – А как я упал.
– О, ты рухнул великолепно, – тут она все-таки засмеялась. – Такого впечатляющего падения я не видела никогда в жизни.
Не знаю, что было тому причиной – может, ее смех, приятный, как звон монет, падающих на серебряный поднос, – но я вдруг поцеловал ее, хотя мне по-прежнему не хватало воздуха, и чуть не задохнулся от удовольствия.
– Меня немного беспокоит связь между насилием и любовью, – прошептала она мне в ухо, – которая явно присутствует в вашем сознании, мистер Генри.
Тут я даже обрадовался, что дышу с трудом и не могу ответить.
Глава третья
– Это Уокер, – сказал я Уортропу на пути к «Плазе».
– Очевидно, – согласился он. – Его любовь к роскоши намного превосходит его способность обеспечивать себе соответствующий образ жизни – вот почему меня всегда удивлял его выбор профессии. Монстрология – не самый короткий путь к богатству.
– Пока не подвернется экземпляр, чей яд дороже брильянтов.
Он кивнул и неопределенно фыркнул.
– Нельзя исключать и Акоста-Рохаса. Никто так не жаждал поймать живого Т. Церрехоненсиса, как он, это всем известно.
– Именно поэтому его и следует исключить. Будь у него в руках яйцо Т. Церрехоненсиса, уж он бы точно с ним не расстался.
– Все равно это один из них, или никто, – буркнул Уортроп сердито. – Фон Хельрунг вечно болтает. Наверняка это он разболтал, а теперь даже не помнит, с кем говорил об этом, и говорил ли вообще. – Он вздохнул. – Ирландские бандиты! Не менее глупо предполагать, что за этим стоит Метерлинк или его клиент – если таковой вообще существует.
Он барабанил пальцами по колену, глядя в окно. Экипажи уворачивались от автомобилей, те и другие объезжали редких велосипедистов и невесть откуда выныривавших пешеходов. Раннее утреннее солнце золотило здания вдоль Пятой авеню и покрывало медью гранитную мостовую.
– Зачем вы туда пошли? – спросил он вдруг. – Как вы с Лили Бейтс оказались в Монстрариуме?
У меня загорелись щеки.
– Поздороваться с Адольфом. – Я вздохнул. Что толку увиливать? – Я хотел показать ей Т. Церрехоненсиса.
– Показать что…? – Он явно мне не поверил.
– Она… любит такие вещи.
– А ты? Что любишь ты?
Я знал, на что он намекает.
– Мне показалось, что мы закрыли эту тему еще на балу.
– После чего ты пошел и сломал челюсть ее партнеру. – Почему-то мое замечание показалось ему смешным. – Да и вообще, насколько я понимаю, эта тема неистощима.
– Только не для вас, – напомнил ему я.
– Да, из-за любви я едва не утонул в Дунае.
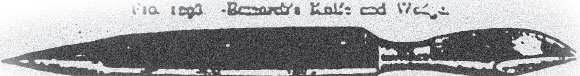
Я мог бы сказать ему, что не из-за любви он сиганул тогда с моста в Вене – по крайней мере, не из любви к другому. Отчаяние – глубоко эгоистичный ответ на удары, которыми осыпает нас судьба.
– Что ж, ваше появление в логове монстрологов оказалось как нельзя кстати, – сухо заметил Уортроп. – Еще минута, и было бы поздно! Также и мой друг успел тогда вытащить меня из воды прежде, чем меня подхватило и понесло течение.
– Лучше любить, но потерять…
Тут уж он не выдержал и взорвался, поэт-неудачник.
– Ты еще будешь стихи цитировать? Зачем – подразнить захотелось? Кто из нас более жалок, Уилл Генри: тот, кто любил и потерял любовь, или же тот, кто не любил совсем?
Я отвернулся, мои руки, лежавшие на коленях, сами собой сжались в кулаки.
– Идите к черту, – буркнул я.
– Можешь сколько угодно утешать себя тем, что лучше любить и потерять любовь, но помни – самый невинный поцелуй может таить смертельный риск для твоей возлюбленной. Никто точно не знает, как именно Биминиус аравакус переселяется от хозяина к хозяину. Так что в твоей страсти – семена гибели, а не спасения.
– Только не надо говорить мне о гибели! – крикнул я. – Мне ее лик знаком лучше, чем кому-либо, – и уж конечно, лучше, чем вам!
И тогда он начал цитировать из «Сатирикона» – видимо, чтобы поквитаться со мной:
– «А вот еще, Сивилла Кумская: я ее своими глазами видел, подвешенную в бутылке; мальчишки спрашивали ее: “Сивилла, Сивилла, чего ты хочешь?”, а она отвечала: ”Смерти”».
Мальчик в вязаной шапчонке, мужчина в запачканном халате и существо, запертое в банке.
Шр-р-р, шр-р-р.
Я спрятал от него лицо, но он повернулся ко мне и заговорил, наклонившись так близко, что я чувствовал его дыхание на своей шее.
– Можешь пренебречь любыми советами, которые я давал и еще дам тебе в жизни, но этот ты должен навеки запечатлеть на скрижалях своего сердца. Любовь приходит, не спрашивая нашего согласия; но ты, ради самой любви, должен дать ей уйти. Отпусти ее, Уилл. Дай себе зарок никогда больше не встречаться с этой девушкой, и ни с какой другой тоже, ибо боги не мудры, а природа не терпит совершенства.
Я горько рассмеялся.
– Мальчишкой я считал эти ваши туманные высказывания величайшей мудростью. Теперь начинаю думать, что внутри у вас полно дерьма, и оно прет во все стороны.
Я напрягся, готовясь к взрыву. Но его не последовало. Монстролог захохотал.
Вернувшись в номер, доктор смыл с себя засохшую кровь и пыль Монстрариума, переоделся и заказал плотный завтрак, к которому, однако, не притронулся, а отдал на растерзание помощнику, отличавшемуся зверским аппетитом. Я действительно оголодал.
– Рекомендую поспать, – сказал он. – Тебе предстоит долгая ночь.
– Вам тоже надо отдохнуть, – сказал я, возвращаясь к привычной роли его няньки. – Ваша рана…
– Не худшая из огнестрельных ран, – заметил он небрежно. – И я почти не потерял крови, благодаря нежным заботам твоей милой.
– Она мне не милая.
– Ну, значит, немилой.
– Она просто дьявольски меня раздражает.
– Это я тоже уже слышал. Кстати, а почему ты бранишься? Ругательства – костыли для лишенных воображения умов.
– Здорово, – сказал я. – Когда-нибудь я запишу все ваши изречения и издам отдельным томом для просвещения и развлечения публики. «Остроты и афоризмы доктора Пеллинора Уортропа, ученого, поэта, философа».
У него даже глаза загорелись. Он думал, что я всерьез. Похоже, забыл уже, что я ему сказал в такси, про дерьмо.
– Прекрасная мысль, мистер Генри! Вы мне льстите.
И он ушел, отказавшись сообщить мне, куда направляется. Меньше знаешь, лучше спишь, ответил он на мой вопрос. Поскольку он вообще любил изъясняться загадками, я тогда не обратил на его слова особого внимания. Я был поглощен завтраком, усталостью и мыслями о предстоящей черной работе. Оглядываясь назад, признаю, что его тогдашняя скрытность не предвещала ничего хорошего; как, впрочем, и всегда.
Глава четвертая
И Сивилла ответила:
– Смерти.
Тварь в банке, шр-р-р, шр-р-р по стеклу плавниками.
Тихо, как муха, бьющая крыльями по воздуху.
И мы тоже, как две засохшие мухи, одна болтается в сером панцире старого дома, другая в сером, безжизненном воздухе, гремит нутром в погремушке собственной кожи.
День переходил в ночь, когда я, изможденный непривычным физическим трудом, рухнул на табурет; ладони саднило от лопаты.
Надо крепиться… пора уже привыкнуть к таким вещам.
Невозможно сказать, как именно умерла женщина по имени Беатрис. Мягкие ткани ее тела не сохранились, а на костях не было никаких характерных повреждений, кроме следов от пилы, которой он расчленял тело. Возможно, он убил ее сам, но, если так, то Уортропа, которого я знал в детстве, действительно больше не существует. Тот Уортроп бывал жесток, когда надо было быть добрым, и добрым, когда жестокость оставалась единственным средством.
– Это я во всем виноват, – шепнул я костям под моими ногами. – Я должен был знать, покидая его, что он рано или поздно вывалится с тарелки этого проклятого мира.
День уже угасал, а я все сидел в углу, ссутулившись. Подавлял желание броситься в дом и высказать ему все в глаза. Он был мне чужим, этот человек, с которым я прожил бок о бок двадцать лет моей жизни, чьи настроения я когда-то читал, как жрец читает будущее по внутренностям жертвенного агнца. Но теперь я и вправду не знал, как он будет реагировать.
Я плотнее запахнул пальто. Пепел летал в воздухе. Мелькнула мысль:
Лучше бы умер он.
Жалкий крик вырвался из моего горла, и я вспомнил ягнят, темноглазых, беломорденьких, жалобно блеющих в темноте.
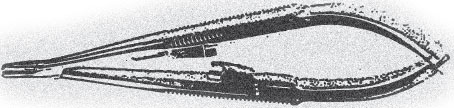
Глава пятая
Риверсайд Драйв в сумерках: тоскливые гудки буксиров и строгие фасады над черной водой, – надежные постройки, основательные дома людей, занятых серьезным делом. Клубы, церковь, смокинги к обеду, хорошие манеры респектабельных людей. На столах хрусталь и крахмальные льняные скатерти. Шелк китайский, чай индийский, манеры английские. А еще лампы, которые отбрасывают только тени, не освещая ничего, шлейфы длинных платьев, которые метут по натертым до блеска полам, и негромкие голоса, доносящиеся из гостиной:
– a ne veut dire rien. Je n’y peux rien.
«Есть ли у вас визитная карточка?» – это спросил дворецкий.
«Нет, просто скажите мисс Бейтс, что пришел девятипалый».
И тут, наверное, на звук моего голоса, в вестибюль вплыла дама в элегантном платье. Это была та самая женщина, чей ангельский голос убаюкивал меня по ночам словами на непонятном языке, та, что сказала при нашей последней встрече, что я не случайно попал в ее дом – что это воля Господа.
– Уильям? – Ее рука взлетела ко рту. – Уильям!
Она сразу отбросила формальности, на которых держался ее буржуазный мир, и прижала меня к своей груди в крепком материнском объятии. Потом положила прохладные ладони мне на щеки, и заглянула в мои глаза, видевшие так мало и так много.
– Боже, как же ты вырос! – воскликнула она. – Лили не сказала мне, что ты стал такой высокий!
– Как вы поживаете, миссис Бейтс?
Услышав жуткие ночные крики своего нечаянного подопечного, которого мучили кошмары, она стремглав слетала в холл, сжимала мальчика в объятиях, гладила по волосам, осыпала поцелуями его голову, пела ему, и ее голос был не похож ни на что, слышанное им ранее, и иногда в этой суматохе и тоске он, забывшись, называл ее мамой. Она никогда его не поправляла.
Сейчас она взяла меня под руку и повела в гостиную, где я почти ожидал увидеть ее мужа – как он сидит в кресле, уткнувшись в свежую газету своим патрицианским носом. Но комната была пуста и нисколько не переменилась за три года моего отсутствия. Здесь я какое-то время был обычным ребенком, играл в игры, слушал музыку и читал книжки, в которых не было и намека на монстров. Вокруг вообще не было монстров, не считая того, что притаился в одной десятитысячной доле дюйма от края моего глаза.
Я поел? Хочу чего-нибудь выпить? И миссис Бейтс присела на краешек стула, скромно сдвинув колени и вся подавшись вперед, а ее глаза, яркие, как у фон Хельрунга, даже в сгущающихся сумерках комнаты манили меня, словно два маяка. Она качала меня когда-то на коленях и пела мне песни, а теперь я не чувствую к ней ничего, совсем ничего, – и это меня злило.
– Лили дома? – спросил я после неловкого молчания.
Она встала и пошла за ней, оставив меня наедине с лицами, которые улыбались мне из-за стекол на каминной полке: фотографиями Лили, ее брата, бесстрастного мистера Бейтса, их отца, и его жены, чьего мизинца он не стоил. Я опустил глаза, точно от стыда.
– Вот уж кого не ожидала увидеть, – прозвучал от двери голос Лили. Позади нее, в холле, маячила мать, не зная, войти ей или не стоит.
– Я вас пока оставлю, – неожиданно робко шепнула миссис Бейтс дочери.
– Да, пожалуйста, – коротко ответила та. И впорхнула в комнату. Ее лицо было не накрашено, и в нем я увидел след той, прежней Лили, которая скакала по лестнице в доме дяди с криками: «А я тебя знаю, я знаю, кто ты!»
– Почему не ожидала? – спросил я. – Я ведь говорил, что зайду.
– Ну, я ведь считала, что тебе предстоит серьезная научная работа сегодня вечером.
– Предстоит, – подтвердил я. – Позже.
– И ты зашел, чтобы пригласить меня участвовать?
– Не стоит тебя втягивать в это, Лили.
– Значит, тебя поймают. Как, по-твоему, поймают или нет?
Я рассмеялся, как будто она пошутила, и сменил тему.
– Вообще-то я кое о чем забыл спросить тебя вчера вечером.
– Ну, еще бы. Ты же был пьян, а потом на нас напали, угрожали пистолетом. Так что я тебя прощаю.
– Я не был пьян.
– Ну, значит, хорошо набрался.
– И вполовину не так хорошо, как мог бы, – уточнил я, вызвав ее смех.
– Так зачем ты вернулся?
Но она уже поняла сама.
– Я знаю, о чем ты хотел меня спросить. – Она помолчала. – Я два года не была дома, – сказала она, наконец. – Скучала.
– И твое возвращение как раз к началу конгресса – простое совпадение?
– А если нет?
Я кашлянул.
– Я никогда не говорил тебе раньше…
Она рассмеялась.
– О, я уверена, ты многого…
– …но иногда твои письма были единственным…
– …мне не говорил.
– …моим утешением.
Она вздохнула.
– Утешением?
– Поддержкой.
– Твоя жизнь трудна?
– Необычна.
– Значит, получение обычного письма для тебя событие.
– Да. Так и есть.
– А сейчас? Тебе по-прежнему трудно?
– Да, немного.
– Странное дело. Или, наоборот, привычное? – И она наморщила лоб, точно не понимая, хотя на самом деле все понимала.
– Думаю, мне стало бы чуть легче, если бы ты меня пожалела.
– У меня нет жалости к тебе, Уилл. Только зависть. Я завидую твоей необыкновенной жизни. У меня-то жизнь самая обыкновенная, с друзьями, со всеми удобствами, мыслимыми и немыслимыми.
– Ты бы не завидовала, если бы знала ее.
– Ее?
– Мою жизнь.
– Боже мой! Сколько драматизма! Знаешь, тебе правда пора от него избавляться. Надо спросить у мамы, действительно ли еще ее предложение.
– Какое предложение?
– Усыновить тебя! – Ее глаза сверкнули. Она наслаждалась спектаклем.
– Я не хочу быть твоим братом.
– А кем ты хочешь быть?
– Тебе?
– Вообще?
– Меня не интересует вообще…
– Тогда почему ты не уйдешь от него? Он что, сажает тебя ночами на цепь?
– Я уйду, когда настанет время. Не хочу стать как он.
– А какой он?
– Не такой, каким я хочу быть.
– Вот мы и вернулись к моему вопросу, Уилл. Кем же ты хочешь быть?

Я потер ладони, глядя в пол. Ее глаза, необычайно яркие, не отрывались от моего лица.
– Ты как-то сказал, что он не может без тебя обойтись, – сказала она тихо. – Думаешь, это когда-нибудь изменится?
Я помолчал.
– Когда ты уезжаешь? – спросил я.
– Скоро.
– Когда?
– В воскресенье. На «Искушении». А что?
– Может, я захочу с тобой проститься.
– Простись сейчас.
– Что я такого сказал, чем тебя расстроил, Лили? Ответь мне.
– Дело, скорее, в том, чего ты не сказал.
– Скажи мне, что ты хочешь от меня услышать, и я скажу это.
Она расхохоталась.
– Ты и вправду образцовый подмастерье! Всем хочешь услужить, каждому доставить удовольствие. Не удивительно, что он так крепко привязал тебя к себе. Ты вода, а он чашка, чью форму ты принимаешь.
Несколько часов спустя чашка воды в человеческом облике в полном одиночестве спускалась по ступеням Монстрариума.
– Пойдем сегодня со мной, – предложил я ей на прощание.
– У меня свои планы, – ответила она.
– Поменяй их.
– Нет желания, мистер Генри.
– Я прогрессивно мыслящий человек, – заверил я ее. – Верю в равенство полов, право голоса для всех, свободную любовь и все такое прочее.
Она ухмыльнулась.
– Удачной охоты. Хотя удача вам не понадобится – он же величайший из всех бывших и будущих. Как это восхитительно, и как трагично, если подумать.
– Да. Восхитительно трагично. Когда я тебя увижу?
– Я здесь до воскресенья, я же сказала.
– Завтра.
– Не могу.
– Тогда в субботу.
– Посмотрю в своем календаре.
Мы в холле, мои руки судорожно прижаты к бокам, кровь грохочет в ушах. И его голос: «Самый невинный поцелуй чреват смертью».
– Значит, ты меня не поцелуешь? – спрашивает она, приоткрыв губы.
– Хотелось бы, – говорю я, придвигаясь к ней.
– Так почему же нет? Чего тебе не хватает – вина или крови?
Горю, кричал мой отец. Горю!
– Мне надо сказать тебе кое-что, – шепчу я, мои губы в миллиметре от ее губ, они так близки, что я чувствую их тепло и ее дыхание.
– Это как-то связано со свободной любовью? – спрашивает она.
– Косвенно, – отвечаю я, и слова застревают у меня в горле. В голубом пламени ее глаз я вдруг вижу своих родителей, они танцуют. – У меня внутри есть кое-что…
– Да?
Я не мог продолжать. Мысли понеслись, как бешеные. Меня обжигало изнутри, черви сыпались из его глаз, я слышал: «Ты боишься иголок?», и еще «Что ты делаешь?»; слова «Лили, Лили, не терпи меня возле себя, гони прочь, не заставляй видеть, как ты страдаешь» рвались с моих губ, и я видел ту штуку в банке, и другую, в располосованной грудной клетке вора, – она лопнула, как лопнула когда-то скорлупа яйца Т. Церрехоненсиса, и наружу глянул янтарный немигающий глаз; зараза – вот мое наследство; каждый мой поцелуй – пуля, летящая точно в цель, отравленный кинжал; я умру, умру, но не полюблю никогда, Уилл Генри, никогда, никогда; бестелесность воды и плотность чашки, сосуда, ее, Лили, таящей в себе неисчислимые годы; нет, прочь, прочь, прочь.
– Прощай, Уильям Джеймс Генри.
Глава шестая
Кто-то толстый вынырнул из озера теней, разлитого у подножия лестницы. Ему хватило ума заговорить раньше, чем я снес с плеч его безобразную башку.
– Эй, слышь, парень, пукалку-то убери. Это я, Исааксон.
– Что ты делаешь в Монстрариуме? – перебил его я. – Разве твой хозяин не кончил свои дела здесь?
Он склонил голову к плечу, как делает ворона, с любопытством разглядывая аппетитный кусок падали.
– Мне велели встретить тебя здесь.
– Кто велел? И с какой целью?
– Доктор фон Хельрунг – помочь тебе прибраться.
– Мне не нужна помощь.
– Да ну? А как насчет того, что больше рук – меньше труд?
– Да, а еще у семи нянек дитя без глазу. Продолжим обмен трюизмами?
Я проскользнул мимо него; он поплелся за мной. Когда я зашел в чулан за ведром и шваброй, он стоял у двери и ждал. Потом ждал у раковины, где я наливал в ведро воды.
– Знаешь, Уилл, у меня такое чувство, что мы с тобой не с того начали. Я понятия не имел, что ты знаком с Лили – по крайней мере, все время, что мы встречались с ней в Лондоне, она и словом о тебе не упоминала.
– Странно. Мы с ней знакомы с детства, регулярно пишем друг другу, а она мне тоже о тебе ничего не говорила.
– Думаешь, она нас дурачит?
– Сомневаюсь. Просто Лили любит, чтобы в жизни был вызов.
Он шел за мной, пока я тащил ведро и тряпку в Комнату с Замком. Ее можно было найти с закрытыми глазами: вонь разлагающейся плоти усиливалась с каждым шагом.
– Она хорошая девушка, не то что большинство в ее возрасте. Не размазня, кажется. Страстная. Точно, вот самое подходящее для нее определение. Она страстная.
– Да, страсти из нее так и прут.
– Капитальная девушка, не то что эти клуши, мои соотечественницы. Она такая – как это сказать? – раскованная.
Я остановился. Он тоже встал. Если я дам сейчас ручкой швабры по его вздутой челюсти, удар не просто свалит его с ног; он раздробит кость, осколки пропорют щеку, вопьются в десну и, может быть, в язык. Пожизненное уродство – вполне ожидаемый результат, не исключено и заражение крови. А я всегда могу соврать, что на нас напали, или что я ударил его в целях самозащиты. В темном и загадочном мире нашей профессии никто не станет докапываться до истины. Фон Хельрунг сам как-то говорил:
– Когда я был моложе, я часто раздумывал о том, что первично: монстрология ли сгущает темноту в сердцах или людей с темной сердцевиной тянет к ней особенно сильно.
– В чем дело? – прошипел Исааксон.
Я потряс головой и прошептал в ответ:
– Das Ungeheuer.
– Что?
Я повернулся к нему. В полумраке его лицо выглядело гротескным, почти безобразным.
– Знаешь, как он убивает, а, Исааксон? Не укусом, нет; яд просто парализует, разделяет мозг и тело. Сознание остается при тебе. И ты прекрасно понимаешь, что происходит, когда оно распахивает пасть, готовясь заглотить тебя целиком. Ты медленно умираешь от удушья; задыхаешься до смерти, потому что в его кишках нет кислорода. При этом ты продолжаешь жить достаточно долго, чтобы ощутить со всех сторон чудовищное давление, от которого трещат твои кости; ты чувствуешь, как ломается твоя грудная клетка и содержимое твоего желудка устремляется по пищеводу тебе в рот из раздавленного живота; ты давишься собственной блевотиной, а каждый дюйм твоей кожи горит так, словно тебя окунули в чан с кислотой, что, впрочем, в некотором смысле верно. В общем, ты попадаешь в кожаный мешок с кислотой, эдакую антиутробу, где происходит нечто противоположное зачатию.
Сначала он молчал. Потом прошептал:
– Ты сумасшедший.
А я ответил:
– Не знаю, какой смысл ты вкладываешь в это слово. Если ты имеешь в виду безумие как противоположность разума, то тебе придется сначала дать определение последнего. Думаешь, ты на это способен? Думаешь, ты сможешь объяснить мне, что это значит – быть в своем уме? Не верить ни во что, противоречащее реальности? Считать, что наши мысли и поступки не несут на себе отпечатка абсурда? К примеру, мы считаем убийство смертным грехом, а сами убиваем друг друга тысячами. Верим в доброго и справедливого бога и закрываем глаза на страдания многих людей, которые только бог в силах представить. Если таков твой здравый смысл, то мы все безумцы, кроме тех, кто не утверждает, будто понимает разницу. Возможно, ее и не существует, этой разницы, разве что в нашем представлении. Иными словами, Исааксон, безумие – это чисто человеческая болезнь, порождение переразвитого – или, напротив, недоразвитого – мозга, призванное облегчить ему непомерную тяжесть бытия.
Я заставил себя остановиться; грешно получать столько удовольствия, сколько я получал в тот момент.
– Ну, я не знаю, Генри, – сказал он. – Но, по-моему, ты только что подтвердил мои слова.
– Давно ты у сэра Хайрама в подмастерьях, Исаак-сон? – спросил я.
– Девять месяцев. А что?
– Маловато.
– Для чего?
Я пошел дальше. Он окликнул меня, его голос гнался за мной по темным изгибам каменного коридора.
– Генри! Для чего мало?
Лучше железным ведром, думал я. Оно тяжелое. И я представил себе, как восхитительно оно врезается ему в скулу. Ха!
Следом за мной он повернул за угол и едва не споткнулся о тело, распростертое у дверей Комнаты с Замком. И судорожно зашарил по карманам в поисках носового платка. Прижав кусочек крахмальной материи к лицу, он сдерживал позывы рвоты, которые вызывал отвратительный запах, висевший в воздухе, точно ядовитый туман.
– Где у него лицо? – выдавил он, с трудом заставляя себя глядеть на труп: его глаза так и бегали, желание посмотреть сменялось отвращением, я боролось с безымянным не-я, с Das Ungeheuer.
– Лицо? Да здесь, повсюду. Частично у тебя под ногами.
Это была неправда. Но он отшатнулся, не отнимая руки с платком от лица. Я поставил на пол ведро, прислонил к стене швабру и пошел за дверь, к груде ящиков.
– Дай-ка я отгадаю, что именно из темного искусства монстрологии ты успел постичь до сих пор, Исааксон. Последние девять месяцев ты провел в библиотеке родового поместья сэра Хайрама, среди заплесневелых томов, где перелистывал страницы таинственных текстов и изучал туманные трактаты, а к настоящей работе – то есть к лаборатории – тебя и близко не подпускали.
Он торопливо кивнул.
– Откуда ты знаешь?
Я уже перебирал ящики, подыскивая один, подходящего размера. Те, что поменьше, я отшвыривал в сторону; они с грохотом падали на бетонный пол.
– Вот несчастье-то, – сказал я в ответ. – Эти все маловаты, а где взять другой, побольше, ума не приложу. Наверняка есть где-нибудь, этажом ниже, но не шастать же тут за ними всю ночь. – С этими словами я повернулся к нему и подчеркнуто членораздельно произнес: – Придется его подрезать, чтобы влез.
– По… подрезать?
– Инструменты у Адольфа в конторе. Длинный черный чемодан под верстаком у стены, как войдешь, направо.
– Ч…черный ч…чемодан…?
– Сразу под верстаком – у правой стены – лицом к его столу. Ну же, Исааксон, чего ты ждешь? Больше рук – легче труд. А ну, живо!
Я продолжал усмехаться про себя, когда он появился с чемоданом. Платок он повязал на лицо, как бандит. Я знаком велел ему поставить чемодан рядом с телом. Он отошел и прислонился к стене; я слышал, как он тяжело дышит, видел, как с каждым вдохом и выдохом белый клочок ткани у него на лице то надувается, то опадает.
– Ящики недостаточно длинные, зато глубокие, – сказал я, откидывая крышку. Она лязгнула об пол, заставив его подскочить. – Руки мы ему согнем, если он еще не слишком окоченел, конечно. А вот ноги придется подпилить. Положим их сверху.
– Куда – сверху?
– На него.
Я вынул из соответствующего отделения пилу и пальцем попробовал остроту зазубренного лезвия. Острое, как черт. Потом ножницы – я пощелкал ими в воздухе. С каждым щелчком Исааксон моргал.
– Ладно, Исааксон, – сказал я решительно. – Давай снимать с него штаны.
Он не шелохнулся. Его лицо стало того же цвета, что и платок.
– Знаешь, в чем разница между монстрологом и вурдалаком? – спросил я. Он беззвучно затряс головой, выпученными глазами следя за тем, как я отрезаю штанины, обнажая бледные ноги трупа. – Нет? – Я вздохнул. – А я все надеюсь, что когда-нибудь встречу того, кто знает.
Придвигая пятки трупа к его заду так, чтобы колени поднялись кверху, я объяснял, что это будет простая операция по ампутации нижних конечностей до высоты коленного сустава.
– Так, а теперь держи его обеими руками за лодыжки, Исааксон, да крепче держи, чтобы он не качался. Лезвие очень острое, если я порежусь, виноват будешь ты.
Бледная плоть разошлась легко, словно податливые губы, из-за них потекла кровавая слюна; пила, завизжав, вгрызлась в сустав. Не знаю, чего я ожидал, но, когда нога отвалилась и осталась у Исааксона в руках, тот с визгом отшвырнул ее в сторону; с тошнотворным «хлюп» конечность врезалась в стену. Исааксон уже полз на карачках в сторону. Видя, как изогнулась его спина, я подумал: «На свете есть лишь одна вещь, которая пахнет хуже смерти – блевотина».
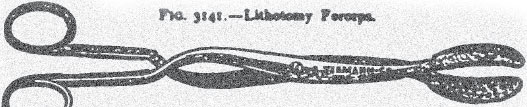
Я ждал, изучая свои ногти с запекшейся под ними кровью. И почему я не догадался захватить перчатки?
– Знаешь, так дело не пойдет, – сказал я негромко.
– Что? – выдохнул он, вытирая платком рот. Взгляд у него был измученный: интересно, что он теперь будет делать?
– Если бы речь шла о Рохасе, или даже о фон Хельрунге, оно бы еще ничего; старик уже не тот, что прежде. Но околпачивать Пеллинора Уортропа я лично поостерегся бы.
– Что ты плетешь, Генри?
– Не то чтобы его нельзя было околпачить – у него, как и у большинства людей, есть свои слабые стороны – но дело в том, что Пеллинор Уортроп человек необыкновенный; он князь аберрантной психологии, а ты ведь читал Макиавелли, правда?
– Да пошел ты, – сказал он и махнул на меня своим платочком. – Точно, спятил.
– Он вас вычислит, тебя и твоего босса, и что, по-твоему, тогда с вами будет? Ты сам говорил: «Бойцовый пес Уортропа». Ты знаешь, что случилось в Адене. И про Кровавый Остров тоже знаешь.
– Это что, угроза? Ты угрожаешь мне, Генри? – Похоже, он нисколько не боялся. Такая невероятная реакция показалась мне любопытной.
– Это же Хайрам Уокер прислал ему яйцо. Знал, что он повезет его сюда. И решил, что выкрадет его здесь, сдобрив добычу изрядной порцией унижения и мести. Что, не так? Тогда скажи правду, и я отпущу тебя. Насчет твоего хозяина ничего не обещаю, но тебе даю слово ученого и джентльмена, что ни один волосок не упадет с твоей слегка деформированной башки.
– Я тебя не боюсь.
– Тогда чего трясешься?
– Я н-не т-тр-трясусь.
– Ну, не его же ты боишься. Он мертвый, и к тому же без ног.
Я подтянул к себе ящик, запихнул в него укороченный труп, сверху положил ноги и забил крышку гвоздями. Вот так, одной заботой меньше.
Когда я выпрямился, он шарахнулся от меня так, словно боялся, что настал его черед.
– Я ни в чем не виноват, – сказал он. – И доктор Уокер тоже.
Я покачал головой, поцыкал и сказал что-то идиотское, совсем в духе Уортропа:
– Не верю я тебе, парень.
Надо отдать Исааксону должное, про невиновность он больше не заикался, да и я усомнился, чтобы Уокер посвятил его во все подробности своего грандиозного плана. Однако полностью исключать подобную возможность тоже было нельзя. Конечно, вряд ли племя неандертальцев живет до сих пор где-нибудь в Гималаях, но «маловероятно» не значит «исключено».
С выпотрошенным вором у хранилища я возился недолго, так что полчаса спустя у боковой двери, выходящей на Двадцать третью улицу, уже стояли два полных ящика. Шел легкий прохладный дождик, температура держалась чуть выше нуля, уличные фонари шипели в ореолах золотистого света.
Я вышел первым, велев Исааксону оставаться внутри и ждать моего сигнала, а сам, держа руки в карманах, перешел на другую сторону. Едва я ступил на противоположный тротуар, из-за угла, громко цокая копытами, показалась огромная ломовая лошадь рыжей масти, запряженная в видавший виды фургон. Возница резко взял вправо и затормозил у боковой двери Монстрариума. Он даже не поглядел на меня, когда я снова перешел на его сторону. На нем была шляпа с висячими полями и широкое черное пальто, руки, державшие вожжи, были большие, тяжелые, с раздутыми от многочисленных драк костяшками. Это был один из «специалистов» Уортропа: людей, зарекомендовавших себя умением держать язык за зубами, рисковать, когда надо, и плевать на закон. Типаж малоприятный, но необходимый всякому, кто намерен изучать преступную сторону человеческой природы. Уортропу они служили курьерами и шпионами, играли роль мускулатуры, обслуживавшей его мозг. Этого я еще не встречал.
– Мистер Фолк, – радушно приветствовал я его.
– А вы, стало быть, мистер Генри, – ответил он сиплым, пропитым голосом.
– Планы немного изменились, – сообщил я, вручая ему пятидолларовую купюру. Он сунул деньги в карман и едва заметно кивнул.
Пять минут спустя мы, погрузив в фургон оба ящика, бодро катили прочь от Монстрариума. Я сидел рядом с возницей; Исааксон с грузом в фургоне. Крепко вцепившись в перила, точно ребенок на американских горках где-нибудь на Кони-Айленде, он наблюдал, не увязался ли за нами кто-нибудь. Температура продолжала падать, и на подъезде к реке мелкие ледяные кристаллики уже вовсю кололи нам щеки. Впереди высился Бруклинский мост, его верхняя часть терялась в морозной дымке.
А во мне освобождалась тварь.
Мистер Фолк остановился на середине пролета. Я осторожно спустился. Под моими ботинками хрустел лед. Высоко над рекой ветер выл, дождь летел прямо в лицо, царапая щеки как ледяной наждак. Исааксон нетерпеливо притоптывал, поджидая меня у задней части фургона; для него эта ночь уже слишком затянулась. Для тебя она хотя бы кончится, с горечью подумал я. Он взял ящик за один край, я за другой, и, шаркая ногами, мы вместе поволокли его к перилам. Реки внизу не было видно, зато мы слышали ее плеск, чувствовали запах и ощущали гулкую черную пустоту между полотном моста у нас под ногами и черной-пречерной поверхностью под ним.
– Осторожно, Исааксон, – предостерег я его. – Следи за ногами, а то поскользнешься и полетишь прямо за ним. На счет три…
Вперед и вверх… а потом все вниз, вниз и вниз, и долгая пауза до всплеска, который оказался совсем тихим, почти неслышным, как вздох. Подавшись к Исааксону, я спросил:
– Молиться умеешь? – и, не дожидаясь ответа, пошел к фургону.
Сбросив второй ящик, мы задержались у перил. Капельки дождя застыли на наших волосах, намерзли на ворсинках пальто; мы сверкали, точно ангелы. Теперь, когда дело было сделано, Исааксон стал понемногу приходить в себя, и к нему даже отчасти вернулась его былая наглость.
– Слушай, старина, это дельце могло бы быть даже приятным, не будь оно так чертовски неприятно.
– Ты не ответил на мой вопрос, – сказал я тихо.
Он оцепенел. И вроде бы даже обиделся.
– Молиться? Конечно, умею. Тебя об этом даже спрашивать бесполезно.
Он резко обернулся, и его хорошее настроение улетучилось так же быстро, как перед этим вернулось. Сделав всего два шага, он осознал, что мистер Фолк уже не сидит, нахохлившись, на месте возницы.
Он замер и медленно повернулся ко мне.
– Где кучер? – спросил он тонким от волнения голосом.
– У тебя за спиной, – ответил я.
Повернуться во второй раз ему не дали. То, что высвобождалось у меня внутри, вырвалось на свободу с такой силой, что едва не разорвало весь мир пополам. Мой кулак въехал ему в солнечное сплетение, – туда же, куда он ударил меня раньше. Он уронил голову; его колени подогнулись. Исааксон не был коротышкой, но мистер Фолк был больше: закинув Исааксона на плечо, точно куль с углем, он понес его к перилам. Там он схватил Исааксона огромными лапами за лодыжки и, вытянув руки над пустотой, держал его вниз головой, а тот отчаянно пытался ухватиться за воздух…
Тварь в банке, шр-р-р, шр-р-р.
– Исааксон! – снова закричал я против ветра. – Исааксон, так ты умеешь молиться?
Он взвыл. Его лица я не видел.
– Это был доктор Уокер, верно? – продолжал я. – Доктор Уокер нанял Метерлинка, чтобы тот привез нам яйцо, и доктор Уокер подкупил ирландцев, чтобы те его украли!
– Нет!
– Правдивый ответ вернет тебе свободу, Исааксон!
– Я говорю правду! Пожалуйста, пожалуйста! – Он не мог продолжать. Его вопли заглушал равнодушный дождь.
Мистер Фолк медленно повернул ко мне голову, на его выдающемся лбу застыл невысказанный вопрос: «Бросать?» Я потряс головой.
– Хорошо, Метерлинка нанял не он, но ирландцы – его рук дело? Скажи «да», Исааксон, и мы тебя вытащим!
– Нет, матерью клянусь, он не нанимал их! Пожалуйста, пожалуйста!
Я посмотрел на мистера Фолка.
– Что скажете?
Тот пожал плечами.
– Руки устали.
– Исааксон! Еще один вопрос. Отвечай правду, и тебя вытащат. Ты ее уже поимел?
– Что? Что? О, господи!
– Ты трахал Лили Бейтс?
Я ждал ответа. Он был упрям, но все же не глуп. Если он был с ней и сознается в этом, то я могу и не сдержать обещания. Если он станет все отрицать, то, независимо от того, правда это или нет, я ему не поверю, а значит, моя дилемма не станет проще.
Брыкаясь на ветру, Исааксон испустил нечеловеческий вопль.
– Нет, нет, этого никогда не было! Клянусь богом, Уилл; клянусь!
– Чем ты клянешься?
– Богом. Богом, богом клянусь!
– Это не бог держит тебя сейчас, Сэмюэль. – Внезапно мной овладела ярость. – Мной клянись, и я тебя вытащу.
– Хорошо, клянусь. Тобой клянусь!
Мистер Фолк рядом со мной тихо хихикнул.
– А ведь он врет.
– Нет, мистер Фолк. Это один бог знает.
– Да, только бог тут ни при чем.
– Вы правы, мистер Фолк.
В подвальной лаборатории, когда лопнула оболочка яйца, я видел свое отражение в янтарном глазу. Я был лишь скромным ассистентом при рождении монстра, неловким акушером, избавителем и жертвой.
Прости меня, прости, ибо я ничтожен в сравнении с тобой.
Назад: Часть вторая
Дальше: Часть четвертая

