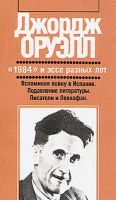Часть 3
Да, Леня был прав, царствие ему небесное. Четыре года с его смерти прошло, и четыре года с того памятного разговора прошло. А будто вчера было. Кажется, даже голос Ленин журчит в голове теми же скорбными нотками, немного удивленными – «…как жить-то будешь, Кать?.. Глядеть будешь изо дня в день на ребеночка… Со стороны будешь глядеть… Жалко мне тебя, Кать…»
Да. Ей и саму себя теперь жалко. Можно, конечно, на внучку Марусю из окна глядеть, никто ей этого запретить не может. Но… Это ж настоящее издевательство над собой получается. И даже в болезненную привычку перешло – из окна на ребенка смотреть. Можно, конечно, к ней подойти с какой-нибудь конфеткой-пряником, посюсюкать по-соседски… Но ведь это и будет – по-соседски. Подойдешь, как к чужому ребенку. Нет, лучше не надо… Лучше вообще никак. Да и Татьяна этого не приветствует. Однажды она вот так подошла – Маруся еще крошкой была, в коляске лежала. А Татьяна сзади ей в спину как выстрелила:
– Не надо, Екатерина Львовна… Не подходите к Марусе, пожалуйста. Никогда.
– Почему? – обернулась она, виновато втянув голову в плечи.
– Потому что мне больно, Екатерина Львовна. Вы сами разве не понимаете? Я вас прошу. Не подходите. Пожалуйста.
Ее тогда особенно поразило это «Екатерина Львовна». Никогда она для Танюши Екатериной Львовной не была, всегда тетей Катей. А тут… Столько отчуждения в голосе. Прямо мороз по коже продрал.
С тех пор она стала опять шмыгать от крыльца к калитке, не поднимая глаз и здороваясь торопливо. И Грише наказала особо по двору не разгуливать. Была, конечно, мыслишка еще и забором разгородиться… Поставить его вдоль двора, отдельную калитку на улицу соорудить и не наблюдать грустных картин…
Да, хорошая мысль была. Но потом она ее отбросила. Потому что из-за забора и внучку Марусю не увидишь. Нет, лучше уж так…
Да, годы идут, все меняется. Недавно Маркелов умер. На поминках собрался старый костяк больницы, решили в администрацию города петицию написать – пусть, мол, Маркелову переулку официальный статус присвоят. Потому как все его называют Маркеловым, а на самом деле он переулок Лесной. Говорят, в администрации «добро» дали. Недавно Ольга пошутила – теперь, мол, и ты, Катя, вполне можешь числиться законной леди Макбет Маркелова переулка…
Хм. Смешно. Какая из нее леди Макбет – теперь-то? Нет, Ольга, теперь другие леди свои правила устанавливают, те, которые деловые, которые на дорогих иномарках ездят. И в Маркеловом переулке почти во всех домах жильцы поменялись, и большинство из них не имеет к больнице ни малейшего отношения. Владелец большого супермаркета, например, или сын милицейского начальника с семьей… Дома вверх полезли надстройками, заборы бетонные выросли, асфальт новый проложили, и даже тополя все до одного вырубили, будто они им мешали. Не узнать Маркелова переулка, одно название и осталось, словно в насмешку. Хоть оно теперь и официальное, а толк от него какой? И главврач в больнице нынче молодой да резвый. Не главврач, а бизнесмен. Когда оперативку проводит, так и кажется, будто в каждом глазу зеленая долларовая бумажка светится.
И Гриша как-то незаметно вырос. Был нескладный худой подросток, молчаливый и замкнутый, а в последнее лето вытянулся, окреп, возмужал… Уже не подросток, уже почти мужичок. Ничего, симпатичный получился. А характер такой и остался, молчаливый и замкнутый, слова лишнего из него не вытянешь. Все время приходится эту крепость штурмом брать, как сейчас, например:
– Гриш, а когда вас поведут на медкомиссию в военкомат? Вы ведь из школы пойдете, организованно, насколько я знаю?
– Ну да… А зачем тебе знать, мам? Когда пойдем, тогда и пойдем…
– Гриш! Ты что, совсем глупый? Я же должна подготовиться. Чтобы твоя медицинская карточка уже там была, в лучшем виде…
– Какая карточка? Зачем? Я ж вроде никогда и ничем не болел.
– Ага! В роде, числе и падеже! А я зачем к тебе пристаю с такими вопросами, как ты думаешь? Не болел он! Запомни, мой мальчик, ты болел, ты очень даже сильно болел… Уж твоя мама заранее позаботилась и постаралась, чтобы карточка у тебя была, как произведение искусства, как образцовая причина полной негодности к армейской службе.
– Да зачем?.. Не надо, мам… Я хочу как все…
– Гриш, ты чего, в армию хочешь? В дедовщину? Мечтаешь зубной щеткой унитазы чистить?
– Я хочу как все, мам.
– Да что ты заладил – как все, как все! Я твоя мать, я обязана тебя защищать, я хочу, чтобы ты был живой и здоровый! И чтобы ты моей опорой был, чтобы рядом всегда со мной был… Я же объясняла тебе – ты будешь всегда со мной рядом, ты не можешь по-другому… Именно ты… Понимаешь это или нет?!
– Да. Я понимаю, мам.
– Тогда не зли меня лучше. Вот, опять из себя вывел…
– Извини.
– Да что извини! Вот, полистай лучше, – плюхнула она на стол перед Гришей внушительных размеров медицинскую карту. – Листай, листай. И учи названия своих болезней. А главное, все симптомы учи, я там специально их четким почерком прописывала. Вот здесь, видишь? – ткнула она пальцем в нужное место. – Чтобы на медкомиссии, когда спросят, от зубов отскакивало! Ты меня понял, Гриша?
– Да, понял… А это что, мам? Вот это что за вклейки?
– Это не вклейки, это анализы.
– Чьи?
– Да какая тебе разница, чьи…
– Это чужие анализы, да?
– Еще раз тебе говорю – не вникай в технологию. Лучше симптомы запоминай. И не смотри на меня так, я знаю, что делаю! Нет чтобы матери спасибо сказать… Я ж долгие годы эту карточку для тебя компилировала…
– То есть я должен ее с собой на комиссию брать?
– Конечно… А как ты думал? Ты же, Гриш, на год позже в школу пошел, и тебе в последнюю школьную весну как раз восемнадцать исполнится! И ты можешь сразу после экзаменов в армию загреметь, на весенний призыв успеваешь. Так что, если сам вовремя не подсуетишься…
– А если я вообще не хочу суетиться, мам?
– Гриш… Мне что, с тобой на медкомиссию идти? Ты этого хочешь?
– Нет, не хочу.
– Тогда бери карточку!
– Ладно…
Потом, после медкомиссии, спросила Гришу:
– Ну, и как там все прошло?
– Нормально, мам.
– Что значит нормально? Ты можешь объяснить? Что тебе сказали?
– Ничего не сказали. Там как-то не особо разговаривают, мам.
– Ну да… Здесь ты прав, конечно. Надеюсь, они в твоей карточке сами все увидят. Если сомнения будут, к нашим же специалистам на консультацию пошлют. Хотя не должны… В карточке я все как по нотам расписала, не придерешься. Ох, сынок, сынок, да если б ты знал, как я это сочинение годами придумывала, как настоящая писательница-детективщица… Там, между прочим, все результаты анализов подлинные, только не твои, конечно. Ой, а как я анамнез тебе расписывала, каждый год помаленьку добавляя симптоматики, чтобы к нужному и неоспоримому диагнозу в конце концов подобраться! Это ж песня, а не диагноз, это ж отдельная история!
– То есть… Это подлог такой, что ли?
– Ишь ты, подлог! Сидит, рассуждает! Чтоб я от тебя таких слов больше не слышала, понял?
– Но ведь все равно это нечестно, мам…
– А ты хочешь, чтобы все кругом было честно? Эх ты… Вот поэтому я за тебя и боюсь… Ты же пропадешь без меня со своим идеализмом! Вот за Никитку я не боялась, что его в армию заберут, а за тебя боюсь… Тем более что ты моя надежда и опора, сынок. Какая армия, что ты… Ни на минуту тебя от себя не отпущу! Ты с институтом, кстати, определился? Куда поступать будешь?
– Нет. Думаю еще.
– Ну, думай, думай. Время пока есть. В армию тебя не возьмут, можно и на заочный поступить, чтобы из дома не уезжать.
– Может, мне и на работу потом устроиться, чтобы из дома не выходить?
– А ты не хами матери, сынок. Какой ты бирюк вырос, однако… То слова из тебя не вытянешь, то хамишь… Скажи, а девушка у тебя есть?
– Нет!
– Да ладно, не психуй, ишь, как побледнел… Мать все про сына знать должна! И про девушку тоже! Хотя, если бы появилась, я бы точно узнала… Кстати, а почему у тебя девушки нет?
– Боюсь, тебе никто не понравится.
– Ты это серьезно, Гриш?
– А почему не серьезно? Вдруг она тебе не понравится, и ты отправишь меня из дома с глаз долой!
– Погоди, погоди… Это ты что, на Никиту сейчас намекаешь? Ничего себе, сынок… Всех бы так матери с глаз долой отправляли – прямым ходом в Англию на учебу! И вообще, я не поняла… Ты мать осуждаешь, что ли? Думаешь, я Никиту от Тани силой оторвала?
– Нет, мам, я тебя не осуждаю. Кто я такой, чтобы тебя осуждать?
– Вот именно! Ты пока никто и звать никак! И не воображай о себе много! Вот так растишь, растишь детей, вкладываешься, а они потом тебе же и кулаком под дых… Фу, расстроил меня, не могу…
Встала со стула, пошла прочь из Гришиной комнаты. Обернулась от двери – Гриша сидел весь красный, уткнувшись взглядом в пустую столешницу. И не удержалась, понесло…
– Да ты… Да если бы ты понимал до конца! Если б знал, как все было! Твой отец меня бросил, когда ты еще зародышем был. Да я бы могла… Чтоб тебя вообще не было! Я полное право имела! Но я же этого не сделала, не сделала! А ты, тварь неблагодарная… А, да что говорить…
Потом, когда пришла в себя, конечно же, устыдилась. Особенно это ужасное слово «тварь» не давало покоя, скреблось в голове виноватостью. Даже собиралась специально подойти к сыну, извиниться за противное словцо, да закрутилась с домашними делами, забыла…
Выпускные школьные экзамены Гриша сдал хорошо, набрал вполне приличные баллы для поступления в институт. Катя и расслабилась, и упустила момент, и не проконтролировала… И потому – как гром среди ясного неба! Пришла вечером домой с работы, а он ей бумажонку протягивает! Сначала не поняла, что это за бумажонка. Решила, что это очередной денежный перевод от Павла пришел.
– Что это, Гриш?
– Это повестка, мам.
– Какая повестка? Кому?
– Мне. В армию. Меня в армию забирают, мам. Завтра утром надо прибыть на призывной пункт с вещами.
– Как – завтра утром? Погоди, погоди, я ничего не понимаю… А как же комиссия? Тебя же должны были комиссовать подчистую! У них же карточка твоя есть!
– Нет у них моей карточки. Я ее не взял тогда, мам.
– Как не взял? А где она?
– Под столешницей лежит, я ее туда спрятал, чтобы ты не увидела.
– Зачем?! Как ты мог, сынок? О господи, и я не проверила… И что нам теперь делать?
– Ничего… Рюкзак собирать… Завтра утром встану и пойду на призывной пункт.
– Гриш… За что ты со мной так, а? Что я тебе плохого сделала?
– Мам, да все хорошо, чего ты… Все нормальные пацаны служат, а я почему не должен? Я сам так решил, мам. Я ж не на войну иду, всего лишь в армию… Ну, мне так надо, понимаешь? Надо, мам, очень надо…
– Ты хочешь от меня оторваться, да?
– Ну, в общем…
– То есть бросить меня хочешь? И ты тоже, да?
– Мам, не надо… Ну не плачь, пожалуйста. Все ведь уже случилось…
Она опять плакала всю ночь. А утром рано Гриша ушел, даже не попрощавшись. Как потом объяснил телефонным звонком – побоялся будить…
Одиночество навалилось сразу, как новая форма существования. Через такое полное и всеобъемлющее одиночество она еще не переступала ни разу в жизни. Разве только в юности, после смерти бабушки. Первый месяц приходила с работы, сидела на диване, как истукан, слушала тишину…
Иногда тишину разбавляла подруга Ольга. Единственная и верная, других за прожитые годы как-то не образовалось. Да и то, слышались в ее голосе маленькие нотки злорадного торжества, куда же без них-то:
– Ой, да перестань, Кать… Посмотри на меня – как я одна живу? Всю жизнь – одна и одна? И не сижу вот так, не умираю. Подумаешь, сын в армию ушел, горе какое! Все матери когда-то одни остаются, так и должно быть. Не так это и плохо, между прочим! У тебя просто привычки к одиночеству нет…
– Да, ты права, Оль, относительно привычки… Я не ожидала от сына такого… За что, Оль, за что?
– Да ни за что! И вообще, почему так надо ставить вопрос? Тогда бы все матери только и делали, что мучили своих детей этим «за что»! Ты, Кать, встряхнулась бы как-то, мысли в другую сторону направила… У тебя ведь еще сын есть, между прочим. Никиткой зовут. Забыла?
– Да ну тебя, Оль, с твоими издевками…
– А как он, кстати, в Англии с молодой женой поживает?
– Да ничего…
– Никого еще не родили?
– Не знаю… Не собирались пока вроде. Он очень редко мне звонит…
– Сама ему звони чаще!
– Я звоню. А толку? Разве он что-то про себя расскажет? Голос – будто чужой… Будто и не с матерью разговаривает. Послушаешь, так все у него хорошо да отлично.
– Ну, значит, так оно и есть…
– Не знаю. Может, и так. И Марьяне неловко звонить и выспрашивать, ей сейчас не до меня. Говорит, Павел сильно болеет… Совсем я одна осталась, Оль. Никому, никому не нужна.
– Да ладно, не прибедняйся. Гришка из армии придет, женится на хорошей девахе, внуков тебе нарожает, успевай только, поворачивайся! Надеюсь, Гришку ты к Павлу не отправишь?
– Нет! Нет, что ты… Нет, Гриша мой, я его не отдам.
– Тогда живи спокойно, хватит умирать. Главное, есть кого ждать…
– Да, ты права, чего там, два года всего. Да, я подожду. В Грише вся моя надежда… Кому-то и я должна быть нужна! Нет, Гриша меня не предаст. Он мой. Он должен меня любить. Я для себя его родила. И он знает об этом…
– Хочешь по старым векселям получить, да? По векселям любовью не платят, к сожалению.
– Замолчи, Ольга! Вечно ты все испортишь!
– Но ведь это правда, Кать… Нельзя ждать благодарности от детей за свои материнские подвиги, какие бы они героические ни были. Дети хотят своей жизнью жить, а не по векселям платить. Тоже, придумала себе… Все векселя давно порваны, Кать, и по ветру развеяны. А ты так бедного Гришку обязательствами напугала, что, я думаю, он вряд ли к тебе вернется.
– Замолчи, замолчи… Вот вся ты в этом… Сначала приободришь, а потом кулаком в солнечное сплетение! И почему я столько лет с тобой дружу, Ольга? Почему? Не понимаю!
– Потому что не с кем больше. И мне – не с кем… Так что не обижайся на меня, Кать. Получается, мы с тобой друг в друга глядим, как в зеркало. А Гришу ты отпусти все-таки, самой легче жить станет.
– Нет!
– Ну-ну, поглядим…
Если б она могла тогда предположить, как все будет! И что Ольга окажется права…
* * *
Гриша из армии не вернулся. Служил он на Дальнем Востоке, где-то под Уссурийском. Письма писал скупые, звонил редко. Говорил, со связью проблемы, тайга кругом. Катя верила и не верила… А потом, когда срок его службы истек и уже приказ вышел о демобилизации, как гром среди ясного неба – его последний звонок… И голос прерывистый, будто с трудом из себя трудные слова выталкивал:
– Мам, ты меня не жди, я не приеду… Я здесь останусь.
– Гриша, о чем ты говоришь! Где ты останешься? В армии?
– Нет, нет… Я еще две недели назад демобилизовался. Просто я не могу приехать, понимаешь? Я женился, мам. Ну, то есть… Мы в загсе еще не были, Лене еще развестись надо…
– Гриша, я об этом даже слышать не хочу! Какая Лена? Кому развестись? Приезжай, я тебя жду!
– Нет, мам… Я не могу ее оставить. Она от мужа ушла, он ее бил… А сейчас из дома выгнал, с ребенком…
– Господи, час от часу не легче… У Лены еще и ребенок! Зачем тебе все это, сынок? Куда ты вляпался? Опомнись!
– Не могу. Я люблю ее. И сразу тебе сообщаю – как только Лена разведется, я на ней сразу женюсь. И еще! Она старше меня на восемь лет! Чтоб ты знала, мама!
– Так. Так… Мне все понятно, сынок. Тебя там просто оболванила какая-то Лена… Давай так поступим. Я сейчас иду и покупаю билет на самолет… А завтра уже постараюсь быть у тебя. Как называется населенный пункт, где ты находишься? Я сама тебя найду, мы сядем, поговорим…
– Мама! Мама, остановись! Никуда лететь не надо, прошу тебя! Давай договоримся – я сам знаю, что делаю! Тем более, некуда пока тебе приезжать… Мы комнату в коммуналке сняли, восемь метров всего, нам втроем негде повернуться. Я устроюсь на работу, снимем жилье получше, и тогда… приедешь, познакомишься с Леной…
– Да не буду я с ней знакомиться! Не нужна она мне! Ты мне нужен, ты мой сын! Да как она смеет вообще?! Вешается на шею мальчишке… Еще и на восемь лет старше… И с ребенком… Нет, я не хочу, Гриша! Я тебя дома жду! Ну, пожалуйста… Одумайся, сынок…
– Я люблю ее, мам. Все, больше ничего объяснять не буду, ты все равно не услышишь. Да и не должен я тебе ничего объяснять.
– Как это – не должен? Это она тебя против матери настроила, да?
Молчание в трубке. Потом вообще связь прервалась, полились из трубки короткие гудки. А может, Гриша сам прервал связь?..
Да, вот так взял и прервал связь с матерью. Ради какой-то Лены с ребенком. Ради восьмиметровой комнаты в коммуналке. Предал, значит. Порвал все обязательства по векселям, развеял по ветру. Выходит, Ольга была права и она эти векселя сама себе придумала… Но разве это справедливо, разве так правильно?
Несколько дней обида стояла комом в горле, не давала дышать. Катя пробовала снова звонить Грише – не получалось. И писать некуда. Где эта восьмиметровая комната, по какому адресу находится? Бродила по пустому дому из угла в угол, чувствовала себя обманутой. В который уже раз – обманутой! За что, за что? Неужели она такая плохая мать? Или… Или есть за что? Господи, да неужели за Стасечку?.. Она тогда свою мать выгнала, теперь ее материнскими чувствами пренебрегли… Все возвращается бумерангом. Но ведь несправедливо, если бумерангом! У бумеранга тоже шкала справедливости должна быть! Какая была Стасечка мать, и какая она… В чем ее-то можно упрекнуть? Да, иногда шла по головам… Но все ради счастья Никиты и Гриши…
Мысль о несправедливости бумеранга так крепко засела в голове, что грозила перерасти в неврастению. Потом Катя еще вспомнила тот разговор с Павлом на вокзале про Стасечку… Да, он тогда записку сунул с ее телефоном и адресом!
И Катя принялась искать записку, будто от того, найдет она ее или нет, зависело очень многое. Будто стоило позвонить по номеру телефона, обозначенному в записке, поговорить со Стасечкой, и все сразу встанет на свои места, и справедливость восторжествует, наконец!
Весь дом перерыла, нашла записку. Пальцы дрожали, когда набирала номер.
Ответили неожиданно сразу, после первого длинного гудка. Старческий хриплый голос, явно раздраженный.
– Кого? Стасечку? А кто такая Стасечка, вы куда вообще звоните? А хотя стойте… Вам Зинку, наверное?
– Да, да, по паспорту она Зинаида, все правильно!
– Эка, вспомнили… Зинка уж померла давно. А вы кто ей будете?
– Я? Я просто знакомая…
– А… Ну так поздно ты про Зинку вспомнила, знакомая. Уже год как схоронили ее.
– А… Как она умерла?
– Как, как… Машиной ее сшибло. Слепая она совсем к старости стала. Я ее за кофе отправила в магазин, у нас аккурат кофе кончился… А я не могу без кофе! Вот ее и отправила… Да, шпыняла я ее, было дело, да… Не шибко с ней считалась. Так опять же, имела право, она ж у меня в приживалках жила. Квартиру-то Зинка профукала, а дочка родная ее на улицу выгнала! Что ж, имела право, да! И поделом, что ж! А как Зинка хотела? Дети – они существа злопамятные. Ты их в детстве на копейку обидишь, а они тебе в старости на рубль отомстят. Хорошо, у меня детей нет… А вы, значит, знакомая Зинкина будете, да? Интересно, интересно…
– Да, я ее знакомая. Спасибо вам, до свидания…
Катя быстро положила трубку на рычаг, словно испугалась, что обожжется, а после начала бродить кругами по комнате, с трудом устраивая в себе полученную информацию. Умерла, значит… Машиной сшибло. Совсем к старости слепая стала. За кофе в магазин пошла. Хозяйка квартиры не может без кофе…
Катя закрыла глаза, услышала визг тормозов. Наверное, Стасечка сразу умерла, ей не было больно. Хотя – она теперь никогда этого не узнает…
Потом вдруг шагнула к телефону, снова набрала тот самый номер. И ответили опять сразу:
– Да, слушаю вас!
– Это снова я… Звонила вам десять минут назад…
– А! Ну-ну! Которая про Зинку спрашивала, да?
– Да. Только я не про Зинку, а про свою мать спрашивала. Извините. Я – ее дочь… Та самая, которая когда-то ее выгнала.
– Ну, так я это сразу и поняла… Кто еще Зинкой интересоваться будет? А чего сейчас-то звонишь? Стыдно, что ль, стало, что мать не признала?
– Да, стыдно.
– А ты не стыдись. Знаешь, как со стыдом жить трудно? Если он у тебя внутри поселится, все, считай, пропащая твоя жизнь. Покою в душе не будет. А к старости надо покой души сохранять, иначе это уж и не старость получится, а маета сплошная. Ведь ты не молоденькая, я думаю? Боишься маетной старости?
– Да, вы правы. Очень боюсь.
– Ну, вот видишь…
– Спасибо вам, что мать у себя приютили.
– Да ладно, не надо мне твоего спасибо. Неизвестно еще, где бы ей лучше жилось, у тебя иль у меня… Да не реви, чего уж теперь! Что было, то быльем поросло! А если хочешь мать навестить, позвони мне, когда в Москву приедешь. Так и быть, покажу, где она похоронена!
– Да, спасибо вам… Я обязательно позвоню, когда приеду…
Не могла Катя дальше разговор поддерживать. Даже попрощаться толком не могла. Положила трубку, сразу пошла в спальню, забралась с головой под одеяло.
В доме было тихо. До ужаса тихо. И на душе – маетно… Права эта старая женщина, трудно нести в себе стыд. И никуда от него не денешься, если прилетел бумерангом. Значит, все-таки нет у бумеранга никакой шкалы справедливости. Значит, механическая это штука и ей все равно, кто прав, а кто виноват. Бьет наотмашь, и все.
Катя впала в депрессию. Жила, как автомат, заставляя себя по утрам идти на работу, присобачивая к лицу мину, озабоченную чужим здоровьем, потом возвращалась домой, глядела из окна, как гуляет по двору маленькая девочка Маруся… Как подхватывает ее на руки чужой человек с бритой головой. Раньше хоть один затылок брил, а теперь вся голова такая. Хоть бы Таня ему сказала, как это некрасиво…
Однажды к ней подошла заведующая терапевтическим отделением, предложила участливо:
– Кать… Может, тебе обследоваться, а? Если хочешь, могу в областной диагностический центр устроить, там аппаратура вся новая. Слишком уж ты сдала в последнее время, плохо выглядишь. Похудела, высохла вся.
– Нет, не надо, спасибо… Я просто устала, наверное. Скоро у меня отпуск, вот и отдохну.
– Ну, смотри… А то, честное слово, глядеть жалко…
А потом она свалилась с гриппом. И даже обрадовалась, будто получила неожиданную передышку. И даже лечением не озаботилась. Лежала, плавала в температуре, глядела в потолок. Оказывается, это не так и плохо, когда лихорадка, когда температура зашкаливает… И тело плавится, и мысли плавятся. Странный такой полет, будто кругами над кроватью. И в голове звенит. Или это не в голове? Да, это же телефон…
Сначала не узнала Марьянин голос – непривычно слезный, пришибленный какой-то. Потом вдруг дошло, о чем она ей говорит…
– Что? Что вы говорите? Павел умер?! О боже… А когда?
– Сегодня ночью. Он долго болел, но как-то не думалось, что все так быстро случится.
– А когда похороны?
– Завтра. Я потому, собственно, и звоню. Вы приедете, Катя?
– Да я болею, температура под сорок, никак сбить не могу… Встаю с постели и падаю, ноги не держат… Нет, я бы прилетела, конечно…
– Да не надо, Кать. Может, оно так и лучше… Пашина душа меньше виной страдать будет, отлетит спокойно. Знаете, на нем эта вина за свой поступок всю жизнь грузом лежала… А впрочем, ладно, о чем это я. Не к месту и не ко времени… Вы простите его, Катя. Хотя бы сейчас простите.
– Да, Марьяна, конечно. Я давно его простила. В последние годы как-то ушло прошлое, свернулось клубком. Уже и не вспоминаю… А Никита на похороны прилетит?
– Да, он уже в дороге.
– Пусть после похорон ко мне приедет. Хотя бы на один день. Попросите его, ладно, Марьяна? Он вас послушает…
– Да, да, конечно! Я ему скажу! Ладно, Катя, выздоравливайте…
– Да я-то чего! Это вы держитесь. И Павлу поклонитесь от меня, пусть и он меня простит…
Потом лежала, не шевелясь, думала о Павле. Отстраненно думала, не чувствуя особого импульса горя. Было внутри лишь смятение, такое, когда узнаешь о кончине давнего знакомого и вздыхаешь при этом тоже несколько отстраненно – все, мол, под богом ходим… И нисколько не причисляя себя к этим «всем», конечно же.
Думала и вспоминала свою замужнюю жизнь… И правда, уже и не помнилось ничего толком. И было, и не было. И лицо Павла размылось в памяти, и обиды на него нет. А ведь хороший был человек… Умный, честный, дело свое любил. И с Марьяной ему повезло, потому что она его по-настоящему любила. Видно, не всем это чувство дано, чтобы по-настоящему. Чтобы сердцем любить, а не перепуганным чувством собственности, как она когда-то…
Катя вздохнула, и тут же пробилось сквозь лихорадку – Никита же приедет! И потому надо постараться выздороветь, напрячь больной организм усилиями. Например, Ольге позвонить, попросить, чтобы в аптеку сходила, а то у нее элементарного жаропонижающего нет! Сапожник без сапог! И завтра надо встать обязательно, в доме порядок навести. Вдруг Никита с женой приедет, а у нее такой бардак… Тем более, эта жена далеко не простая. Целеустремленная девочка из хорошей семьи, как Марьяна говорила. Хоть поглядеть на нее. И в магазин надо сходить, продуктов хороших купить… А лучше – на рынок…
Не прошло и двух дней, а в доме уже все блестело чистотой, холодильник забит продуктами. Болезнь тоже прошла, будто и не было ее вовсе. Вот что значит – счастливое ожидание… Правда, на душе было тревожно – как-то они с сыном встретятся! Совсем чужие стали за эти годы. Хотя, надо признать, и раньше были не особо близки… Теперь можно и признать, оглядываясь назад и оценивая свое неказистое материнство. Да если вспомнить хотя бы, как она его тогда, на вокзале в Москве, толкнула к Павлу… На, мол, владей, а я умываю руки… Вот и умыла – на долгие годы. Теперь вспоминать стыдно.
Заверещал телефон, Катя бездумно взяла трубку. Лучше бы не брала! Заведующая отделением звонит, теперь от нее не отделаешься…
– Екатерина Львовна, миленькая, выручите, а? У меня сегодня ночное дежурство, а я совсем не могу, ну никак… Подежурьте за меня, пожалуйста!
– Так я же на больничном…
– Знаю, знаю! Но я вас видела сегодня на рынке, и вы чудесно выглядели. Пожалуйста, Екатерина Львовна, вы же знаете, что за мной не пропадет…
– Что ж, хорошо. Я согласна.
– Ой, спасибо, миленькая! Как же вы меня выручили! Тогда я ставлю вас в график… С восьми вечера до восьми утра… Спасибо, спасибо, милая!
Катя положила трубку, чертыхнулась про себя. А как откажешь, когда застают врасплох? Надо собираться, идти на дежурство.
Вздохнув, она глянула на часы – можно вполне успеть поужинать. Или просто чаю попить. А еще лучше – кофе, чтобы немного взбодриться.
Села за кухонный стол, по привычке глянула в окно. И вздрогнула от неожиданности. По двору медленно шел красавец парень, ее сын… Шел так, будто и не уезжал никуда, делово и привычно, и так же упруго вскочил на первую ступеньку крыльца, и взялся рукой за перила…
Катя поднялась из-за стола, шагнула к двери. Упала ему на грудь, обхватила руками, расплакалась. Даже самой неловко стало за такую сентиментальщину. Да и Никита, видно, растерялся.
– Мам, ты чего, не плачь… – бубнил тихо, с осторожностью оглаживая ее плечи.
– Я не буду, не буду, сынок. Я сейчас… Ты голодный, наверное? А у меня ужин есть! Я тебя ждала! Я думала, ты с женой приедешь… Садись за стол, я сейчас котлетки разогрею. Твои любимые говяжьи котлетки, помнишь? С поджаристой корочкой…
– Помню. Спасибо. А жены у меня нет, мам. Развелись мы.
– Да? Как же это? А почему?
– Да не люблю я ее. И она меня не любит. Заигрались поначалу, потом одумались. Да ты не переживай, мам, все нормально. И вообще, давай обо мне потом… Расскажи лучше, как ты живешь…
– Да что я? Ты и сам все знаешь, наверное. Гриша вот из армии не вернулся, я тут одна…
– Да, я знаю. Так уж у нас получается, что делать. Ты одна, я один, Гришка был один… Правда, теперь уже не один…
– Ты… Ты осуждаешь меня, да, Никита?
– За что, мам?
– Ну…Что увезла тебя тогда?
– Нет, не осуждаю. В том все и дело, что ты увезла, а я – уехал. Как я мог не уехать к отцу… Я ж все свое детство мечтал об отце. Я очень его любил, мам. Ты даже не представляешь, как я его любил. Да и сейчас… Он умер, и меня будто нет. У нас особая привязка была, я так думаю. Она навсегда и останется. Извини, тебе обидно это слышать, наверное.
– Нет, не обидно. Что ж делать, если так получилось. А почему ты мне звонил редко? И на мои звонки не всегда отвечал?
– Не знаю. Не могу объяснить. Все время перед тобой виноватым себя чувствовал. Ну, будто я отца больше люблю, чем тебя… А потом, знаешь… Как-то меня закрутило новой жизнью. Покатилось все само собой, покатилось… Покатилось…
Голос его изменился, будто улетел куда-то в пространство. Катя удивленно обернулась от плиты – Никита стоял у окна, глядел во двор. По двору шли Татьяна с Марусей…
– Никита, не смотри, не надо… – сказала Катя первое, что пришло в голову.
Никита ее не слышал. Замер изваянием у окна, сжав кулаки в карманах брюк. Ей казалось, он не дышит. Таня медленно подошла к своему крыльцу, потянула за руку упирающуюся Марусю… Поднялась по ступенькам, скрылась в доме. Никита выдохнул, повернул к Кате дрогнувшее неожиданной болью лицо:
– Что ты сказала, мам? Ты ведь что-то сказала сейчас, да?
– Не смотри, говорю, не надо! Она замужем, сынок.
– Я знаю. Мне Гришка говорил.
– А он тебе часто звонит, да? – опять спросила первое, что пришло в голову. Лишь бы увести разговор от опасной темы.
– Ну, не так чтобы часто, но звонит.
– А ты ему?
– И я ему…
– Надо же, как интересно получается! Из Англии, выходит, проще на Дальний Восток дозвониться, чем отсюда… Да ты садись за стол, садись. Ешь, все разогрелось. И как там у Гриши дела? Он же мне ничего не объяснил толком. Какая-то женщина у него, старше на восемь лет, с ребенком…
– Да, ее Леной зовут. И у них любовь, мам. Она даже от мужа ушла, вполне себе благополучного. А муж ей не простил и Гришку преследует всячески. Один раз даже нанял кого-то, и Гришку так отмолотили, что в больнице неделю провалялся. Да, трудновато ему там приходится… Но он парень упертый, сражается за свою любовь, как может. Молодец. Настоящий мужик, уважаю!
– Никит… А ты поговори с ним, скажи, чтобы домой ехал, а? Нет, я понимаю, конечно, у вас мужская солидарность и все такое прочее… Но согласись, что неправильно как-то. Он ведь судьбу свою собственными руками ломает. Сам подумай – какая чужая жена, какой ребенок!
– Мам… Если он сюда и приедет, то не один, а с Леной и ее дочерью. Он их там не бросит, он любит их.
– Господи, любит… Его бьют, его обвели вокруг пальца, а он любит! И не надо мне тут никакой Лены с ребенком, еще чего не хватало! Чтоб и духу не было этой хищницы!
– Да, мам, а ты не меняешься, все так же ладонью воздух рубишь. Вот поэтому Гришка там и остался, чтобы не попасть под твою ладонь.
– Никит, но я же… Боюсь, ты меня не понял.
Она и в самом деле испугалась. Не то, не то хотела сказать! Ну почему она не умеет сдержать первую эмоцию? Или в подсознании засело из прошлой жизни, что можно с сыновьями не церемониться? Да, крепко засело… Трудно привыкнуть к другой ипостаси. Не уследишь, как быстро неверное слово выскакивает. Его ж не поймаешь и обратно не втолкнешь.
– Я не то хотела сказать, сынок. Не то. Я тебе сейчас все про себя объясню… И про тебя объясню, и про Гришу… Или давай к этому разговору позже вернемся, ладно? А сейчас мне пора идти… Черт меня дернул на это ночное дежурство согласиться! Если б знала, что ты приедешь…
– Да, иди, мам. Успеем, наговоримся еще.
– А сколько времени ты у меня побудешь, Никит?
– Не знаю… Не решил еще. Иди, мам, а то опоздаешь.
– Да, иду…
Быстро оделась, заторопилась, опаздывала уже. И весь остаток вечера сердце было не на месте. Еще и дежурство выпало беспокойным, ночью на «Скорой» больного с острой почечной коликой привезли. Только под утро удалось ей прилечь в ординаторской на кушетку. Закрыла глаза, и тут же всплыло в памяти лицо Никиты, как он на Таню из окна смотрел… А Валеры, кстати, в последнее время не видно. Может, его вообще дома нет, может, уехал куда-то. Господи, что-то будет?.. Скорей бы это дежурство заканчивалось.
Обратно домой Катя почти бежала. Открыла калитку, сдерживая торопливое дыхание, прошла по двору, открыла своим ключом дверь…
Они сидели на кухне за столом, пили кофе. Никита с Таней. Повернули к ней лица, опрокинутые бесстыжим ночным счастьем. Совсем незрячие лица. Друг друга видят, и прекрасно. А кто там в дверь вошел, зачем…
Никита очнулся первым, приставил палец к губам, прошептал хрипло:
– Тс-с-с, мам, тихо… Маруся спит…
– Где Маруся спит? – спросила обалдело, переводя взгляд с Никитиного лица на Танино.
– Там, в гостиной, на диване…
– Ага. Так, так… Ой, дайте хоть дух перевести, сообразить, что происходит.
– Да все нормально, мам. Вот, сидим, кофе пьем.
– Ага. Вижу. А Маруся на диване спит, поняла. То есть на нашем диване. Так…
– Да, мам, на диване. Да ты не волнуйся, чего ты? Ну, спит…
– Это я ее сюда принесла, Екатерина Львовна, – подняла на нее виноватые глаза Таня. – Испугалась одну в доме оставлять. Она спала уже… Валера только под утро приехал…
– Валера?! Так он дома? О боже…
– Мам, да сядь, сядь, пожалуйста! Нам поговорить надо, – подвинул ей стул Никита.
– Нет, я-то сяду, конечно… – прошептала Катя, перебегая отчаянным взглядом с Никитиного лица на Танино, – я-то сяду… А вы! Вы-то, ребята, что о себе думаете? Или вообще ничего не думаете? А если он… Таня! А если твой Валера сейчас…
– Не надо, мам… – болезненно сморщился вдруг Никита, обнимая за плечи притихшую Таню. – Не надо… Мы и сами все прекрасно понимаем. Да, ситуация отвратительная, но что с ней сделаешь? Теперь уже ничего не сделаешь. Надо как-то разруливать, исходя из того, что мы теперь вместе.
– То есть?
– Да, мама. Мы с Таней больше не расстанемся. Все, хватит с нас, и без того кое-как выжили друг без друга. И зачем, спрашивается?.. Натворили делов… Теперь все кончилось. Вернее, только начинается.
Катя лишь вздохнула, разведя руки в стороны. Собралась что-то ответить, но осеклась, глядя в окно. Страх накатил такой, что стало нечем дышать.
В окно было видно, как вышел во двор Валера, огляделся задумчиво, задержавшись взглядом на окнах соседской половины дома. Потом так же задумчиво прикурил сигарету. Медленным театральным жестом отвел от себя мощную руку, стряхнул пепел в траву. Слишком медленным, слишком театральным жестом.
– Он что, курит? – сипло спросила Катя, не отрывая взгляда от окна.
Вопрос получился почти риторическим. По крайней мере, Таня ничего ей не ответила, лишь прикрыла глаза веками, будто пытаясь отгородиться от навязанной картинки.
Потом на крыльцо вышла Надя, и Таня вздохнула со стоном, дернулась у Никиты в руках:
– Я пойду, Никит, пусти… Мне надо идти….
Никита рук не разжал. И Таня больше не дернулась. Так и осталась сидеть, будто не в силах была отвести взгляда от окна. Казалось, их заморозило в объятии. Так сковало, что разнять невозможно.
Валера тем временем, глянув на тещу, деловито прошагал к сарайчику, вынес табурет с тазиком, установил нехитрую конструкцию на привычное место около забора. Так же деловито сходил в дом, принес ведро воды, опрокинул в таз. Грубо опрокинул – вода выплеснулась фонтаном, окатив брызгами и Валеру, и Надю. Чертыхнулся, и ведро взвилось из его руки, отлетело далеко в сторону, с грохотом шмякнулось о землю.
– А ведь он сейчас убьет тебя, Тань… – тихо констатировала Катя, прижав ладони ко рту. – И Никиту тоже убьет…
– Мам, прекрати, – спокойно проговорил Никита. – Никто никого не убьет. Я сейчас выйду и поговорю с ним по-мужски, объясню все.
– Нет… – тихо, но решительно выдохнула Таня, вцепившись Никите в плечо, – сиди, Никита, ты никуда не пойдешь. Екатерина Львовна права – он убьет тебя. Да, он может убить, я знаю… Нет, мне надо самой. Там же мама… Я пойду, Никит…
– Тогда мы вместе пойдем, – решительно поднялся с места Никита, увлекая к двери Таню. – Пусть будет, что будет! Идем!
Катя первая юркнула со своего стула к двери, встала, раскинув руки, проговорила, почти рыдая:
– Не пущу, сынок! Он же и впрямь тебя убьет, ты что, не слышал? Таня, скажи ему!
– Да, Никит, я знаю Валеру, он тебя убьет… Не ходи… Я сама…
– Пусти, мам…
– Не ходи, сынок!
Наверное, если со стороны посмотреть, довольно нелепая вышла у них сутолока у двери – кудахтанье, вскрики, хватание друг друга за руки. Пока все не обернулись на детский испуганный голосок:
– Мама, я боюсь…
У Кати от этого голоска подкосились ноги. Внучка Маруся стояла в коридорчике, терла кулачками припухшие спросонья глаза. Потом всхлипнула тихо, с писком, собираясь расплакаться.
– Марусь, не бойся, ты чего… – кинулась к ней с объятием Таня. – Все хорошо, Марусь…
– Мам, я же дома заснула, в своей кроватке!
– Да, ты спала… Потом я тебя сюда принесла…
– А зачем?
– Ну… Не могла по-другому. Прости меня, Марусечка.
– А кто это, мам? – осторожно разглядывая растерявшихся Катю с Никитой, тихо спросила девочка. – Эту тетю я знаю, она наша соседка…
– Это не соседка, Марусь. Это твоя бабушка.
– Кто? Бабушка? Прямо самая настоящая?
– Да. Самая настоящая.
– Такая же, как бабушка Надя? Значит, она тоже любит забор мыть?
– Ну… Нет, она не любит забор мыть. Она… Она…
– Да я и забор тоже могу помыть, Марусечка! – с радостной готовностью шагнула к девочке Катя, опустилась перед ней на корточки, ласково огладила по худеньким плечам. – Да, я такая же, как бабушка Надя! А ты моя внучка! И я очень рада… И очень тебя люблю…
Это «люблю» вышло досадно невразумительным, хлюпающим слезами. Быстро проглотила комок в горле, хотела повторить уже веселее, да не успела. К Марусе шагнул Никита, легко подхватил ее на руки, улыбнулся.
– Это твой папа, Марусь… – тихим эхом откликнулась Таня, придерживая девочку со спины, будто она могла упасть. – Помнишь, я тебе про него говорила?
– Конечно, помню. Ты говорила, что у меня есть еще один папа… Я потом спросила у папы Валеры, и он осердился, и кричал на тебя, помнишь? А ночью ты сильно плакала, я слышала… А что нам теперь делать, мам, сразу с двумя папами? Так ведь не бывает, правда?
– Да уж… – вздохнула Таня, мельком глянув в окно, и тут же лицо ее побледнело, вытянулось испугом. И шепот получился тоже испуганным: —Он сюда идет, Екатерина Львовна… Валера сюда идет…
Катя быстро обернулась к окну – Валера и впрямь широко шагал по двору, направляясь к их крыльцу.
– Так! Идите все в гостиную и сидите там тихо! Я сама с ним поговорю! – скомандовала она решительно и подтолкнула Никиту в спину.
– Мам, я сам… – попробовал тот возразить, но Катя уже шагнула к двери, выскочила на крыльцо и быстро захлопнула ее за собой. Услышала, как щелкнул автоматикой рычажок замка, и это обстоятельство придало уверенности. Катя зачем-то опустила ладонь в карман пиджака, нащупала ключ, сжала его в кулаке…
Валера стоял на нижней ступеньке крыльца, рассматривал ее желтыми от ярости глазами. Но голос прозвучал неожиданной вежливостью:
– Доброе утро, соседка. К вам вчера сынок приехал, да? И Татьяна с ребенком у вас? Я правильно догадался, уважаемая соседка?
– А с какой стати я вам должна докладывать, кто у меня в доме?
– Ну, ну… Ладно, не надо докладывать, и без того понятно. Скажите ей, пусть не боится, убивать не стану. Я тоже гордый, чего там. Любил ее, дурак… На руках носил… Она с пузом была, а я женился. Сука она после всего этого, что еще скажешь. Подлая баба сука. Ладно, пусть живет… А меня больше она не увидит, все. Передайте, нет меня больше. С-сука…
Развернувшись, Валера быстро пошел по двору, на ходу пытаясь прикурить сигарету. Катя выудила из кармана ключ, с трудом попала в замочную скважину – руки сильно тряслись. Приоткрыла дверь, юркнула в дом, перевела дыхание. В коридорчике стояла Татьяна, прижавшись спиной к стене, глядела на нее виновато.
– Я все слыша, Екатерина Львовна… Спасибо вам…
– Да ладно! Валеру твоего тоже можно понять, между прочим. Нельзя было как-то иначе все решить?
– А я не могла иначе, Екатерина Львовна… У меня сил не хватило. Как увидела вчера Никиту… Я все эти годы его любила! Даже еще сильнее, чем раньше! И он меня любил… Нам одного взгляда хватило, одного прикосновения… Простите меня, пожалуйста. А про Марусю он и не знал, я ж ему тогда не сказала… Хотя я думала, что вы ему сказали… А вы…
– Да ладно, не продолжай. Да, я тоже перед тобой виновата. Было дело, не хотела, чтобы Никита…
Катя замолчала, не в силах больше произнести ни слова. Как же тяжко даются эти признания! Нет, лучше паузу взять… Лучше потом, позже…
– Иди, Танюш, я сейчас. Я только на кухню, воды попить… В горле совсем пересохло…
Татьяна неловко пожала плечами, попятилась в гостиную, откуда слышался звонкий голосок Маруси. Катя прошла на кухню, припала к стакану с водой. Потом села на стул, прислушалась к звукам, доносящимся из гостиной. Смеются. Бормочут что-то. Маруся счастливо повизгивает. Надо же, и впрямь любовь! Ни Настя с Англией, ни Валера с женитьбой от той любви не спасли! Да уж… Если еще и вспомнить, как давеча Никита застыл-закаменел у окна, увидев Татьяну с дочкой. Выходит, ошибалась она, когда лучшей доли для сына хотела. Никто не знает, где она, эта доля. Выходит, именно в этом дворе его доля. Все возвращается на круги своя, как тот бумеранг…
Валера двигался по двору, как ей казалось, под аккомпанемент ее грустно-философских мыслей. Вот выгнал машину за ворота, вот понес чемоданы мимо несостоявшейся тещи, кинул их в багажник. Надя даже не оглянулась, старательно возила тряпкой по пластику. Вот Валера сел в машину… И вдруг выскочил обратно. Сунул кулаки в карманы ветровки, набычился, пошел по двору… Снова в сторону их крыльца пошел! Да что же это такое?! Что ему надо? Вроде все сказал, что хотел… Может, с Марусей попрощаться решил? Нельзя, чтобы он в дом вошел, Никиту увидел… А вдруг не сдержится, покалечит…
Катя снова выскочила на крыльцо, захлопнув за спиной дверь. И снова Валера стоял на нижней ступеньке, только глядел уже по-другому. Не было в его взгляде ярости. Было другое что-то, более страшное, чем ярость.
– Я вот что решил вам сказать, уважаемая соседка… Вернее, честно предупредить… Я ведь убью вашего сына. Точно, убью. Нет, сейчас на глазах у ребенка не буду, не бойтесь. Даже и в дом не войду. Но я очень скоро его убью. Может, сегодня, может, завтра. Вы уж меня извините, конечно. А что делать, не могу с собой совладать. Сейчас вот сел в машину и понял – не могу. Отсижу потом, сколько надо. А иначе никак. Так что готовьте поминки, уважаемая соседка. Я все сказал.
Он развернулся, быстро пошел к машине. А до Кати только-только начал доходить смысл сказанного. И как-то поверила она Валере, толкнулось в грудь осознание… Да, убьет. Непременно убьет. Может, сегодня, может, завтра. Если она ничего сейчас, сию секунду, не предпримет, Валера ее сына убьет.
Открыла дверь, тяжело ступила в прихожую. Потом прошла в гостиную, встала в дверях, чувствуя себя статуей Командора. И скомандовала яростно-тихим голосом:
– Никита, собирайся немедленно, ты сейчас уезжаешь. Я тебе такси вызову. До станции. Нет, лучше сразу в область, в аэропорт…
– Что, мам, я не понял?
Никита смотрел на нее, будто не видел. А может, и впрямь не видел – слишком увлечен был общением с Марусей. Девочка тоже обернулась к ней, нахмурив досадливо бровки. Татьяна сидела на диване, смотрела на Никиту с Марусей, улыбалась блаженно. Потом тоже повернула голову к ней, напряглась лицом, так и не убрав счастливую улыбку с лица.
– Я не понял, мам, что ты сказала? – весело повторил Никита. – Ты меня прогоняешь, что ли? В чем дело, мам?
– Нет, нет… Я тебя не гоню, что ты, сынок. То есть не в том смысле… Просто тебе нельзя больше здесь оставаться. Валера снова сейчас приходил, и он сказал, что должен тебя убить… А иначе у него никак не получается.
Она увидела, как медленно сползает улыбка с Таниного лица, как оно бледнеет на глазах, покрывается пылью страха. Как шевелятся губы, пытаясь вытолкнуть какие-то слова. Что она там шепчет, господи? Хоть бы говорила громче… Надо ей сказать…
Но Таня и без того встрепенулась, подскочила с дивана, заговорила быстро, взахлеб:
– Никита, тебе надо уехать! Екатерина Львовна права! Хотя бы на месяц надо уехать! А лучше на два! Я знаю Валеру, он правду говорит… Он может убить, я знаю…
– Да не говори ерунды, Тань! Почему я должен его бояться?
– Это не ерунда, Никита! Да, он такой… Если его обидеть, он собой первое время совсем не владеет, у него психика так устроена. Если сказал, что убьет, значит, так и сделает, и никто его не остановит. Тебе надо уехать, Никита, пожалуйста! Хотя бы на два месяца! А я тебя буду ждать… Мы с Марусей будем тебя ждать…
– Хм… А почему именно на два месяца?
– Потому что два месяца ему хватит, чтобы волна аффекта схлынула! Я знаю, о чем говорю, поверь мне. Я ведь жила с ним, я знаю… Уезжай, Никит, пожалуйста. Я боюсь.
– Да никуда я не поеду. Почему я должен уезжать из-за странного устройства Валериной психики? Нет уж, Танюш, теперь я тебя не оставлю… Никогда… И не надейся даже, ты что! Я больше без тебя жить не смогу, ни минуты, ни секунды! Все, хватит!
Катя шагнула вперед, встала рядом с Таней плечом к плечу, глянула на сына сурово:
– Ты хоть понимаешь, чем рискуешь, а? Тебе же русским языком объясняют – у человека психика так устроена. И ничего с этим не сделаешь. И в милицию с заявлением не побежишь! А если даже побежишь, то все равно они палец о палец не ударят! Нет, сынок… Просто так о подобном не предупреждают, я сама глаза этого Валеры видела… Таня права, он может. Ну зачем, зачем рисковать своей жизнью, сам подумай?
– Я никуда не поеду, мам. И все, и хватит об этом…
– Нет, поедешь!
Последнюю фразу они произнесли с Таней дружным хором, практически в унисон. И переглянулись удивленно под смех Никиты:
– О! О! Вместе наехали, надо же! Девочки, да у вас голос одинаковый, и выражение лиц сейчас одинаковое! Так вы забавно выглядите сейчас обе, дорогие мои… Мам, а ты помнишь, как любила Танюшу, когда она была маленькая? И она тебя… Она тебя тетей Катей звала…
– Помню, конечно… Я потом с Танюшей поговорю, Никитушка… Я все, все ей расскажу, я покаюсь, обещаю тебе… Только уезжай, пожалуйста! А лучше… Знаете что, ребята? Уезжайте-ка вы вместе! Да, да! Господи, как же мне сразу в голову не пришло? Конечно же, вместе!
– Екатерина Львовна… Теть Кать… – тихо прошелестела Таня, грустно склонив голову, – ну что вы такое говорите… Вы же знаете, что это невозможно…
– Да почему?
– А на кого я маму оставлю? Что вы…
– Да на меня и оставишь! Что я, с Надей не справлюсь? Да я уж давно все ваши хитрости знаю, гляжу на них в окно изо дня в день… Так надо, Тань, положение безвыходное! Видишь, этот балбес без тебя с места не сдвинется? И Марусю тоже мне оставь, чего ее тащить неизвестно куда… А кстати, куда бы вам уехать-то… Может, в Москву, к Марьяне? Лучше бы подальше куда-нибудь, в Москве Валера может вас вычислить… Ведь может, да?
– Да, пожалуй… – задумчиво кивнула головой Таня. – Говорю же, если он задумал чего… Вообще-то у меня подруга недавно дом в деревне купила… Где-то под Самарой, на Волге. Писала, что туда можно только на пароходике добраться, и то не каждый день.
– Вот и поезжайте в деревню! И отлично! Телефон той подруги есть? Давай, звони ей немедленно!
– Да… Но я Марусю не хочу оставлять, теть Кать…
– Таня, пожалуйста! Умоляю тебя! Она же моя внучка… У меня ведь давно сердце по ней изболелось… Знаешь, как отец твой покойный говорил? Кровь не вода, намучаешься еще… Вот я и намучилась, Тань. Смотрела на нее изо дня в день… Чуть с ума не сошла…
– Бабушка, я останусь с тобой, не плачь! – неожиданно подала звонкий голосок Маруся.
– А я плачу, моя хорошая, да? – счастливо засмеявшись, неловко склонилась она над девочкой. Потрогала свои щеки ладонями – и правда мокрые…
– А ты мне книжки читать будешь? И компот из яблок варить? А мультики смотреть столько, сколько я захочу, разрешишь?
– Да разберемся, Марусь, что ты… Сейчас маму с папой отправим и разберемся со всем этим хозяйством…
– А жить будем у нас в доме! Потому что бабушку Надю нельзя надолго одну оставлять!
– Конечно, нельзя! Умница ты моя…
И, не отрывая счастливого взгляда от Марусиного личика, проговорила ворчливо в сторону застывшей в удивлении Тани:
– Ну, чего смотришь? Собирайся быстрее, увози Никитку от греха… Давай, давай, справлюсь я со всем твоим хозяйством… Хотя чего уж, теперь и моим! Сама видишь, у нас тут кровь не вода! Моя, моя внученька…
Через полчаса такси сорвалось с места, увозя Никиту и Таню. Катя с Марусей остались у ворот, махая им вслед. Ей вдруг подумалось невольно – и ладно, и хорошо, что уехали… Пусть это будет их свадебным путешествием, пусть вместе побудут, насладятся друг другом сполна. Наверное, у судьбы случайностей не бывает. Наверное, так и надо… Пусть, пусть.
– Ну что, Маруся, пойдем хозяйничать? Ты мне подсказывай, если где растеряюсь, хорошо?
– Да, бабушка Катя, – важно кивнула головой Маруся. – Вот сейчас надо, к примеру, бабушку Надю домой отвести, она уже свой забор помыла. Надо ее взять под локоток и сказать – все, пора домой. И она пойдет.
– Ага, поняла…
Надя и впрямь послушно пошла за ней в дом, улыбаясь. Когда ступили на крыльцо, повернула голову, спросила ласково:
– А ты кто будешь, девушка?
– Я? – растерялась вдруг Катя. Не столько с ответом на Надин вопрос растерялась, сколько на «девушку». И проговорила неуверенно: – Я твоя соседка, Надь… Я Катя Романова…
– А ты красивая, Катя… Никогда тебя прежде не видела… Новенькая, что ли?
– Она не узнает никого… – тихо, со взрослой интонацией в голосе пояснила Маруся. – Она даже меня не узнает… Каждое утро спрашивает: а ты кто, девочка? А я ей отвечаю – Маруся я, твоя внучка. И она так же мне говорит – какая ты красивая, Маруся… И по голове гладит… Ты не думай, бабушка Надя очень добрая! Она хоть и не помнит никого, но всех-всех любит!
– Да, Марусь, я знаю… – грустно подтвердила Катя, усаживая Надю на стул в кухне. – Да, бабушка Надя очень добрая… Я знаю, я помню… И ко мне она была очень добра…
– Она ведь не виновата, что заболела, правда?
– Да, она не виновата.
– Она молодец, она все, все делает, что ей скажут! Если сказать – надо покушать, она покушает. Или, например, в туалет сходить… Или спать ложиться… А так она просто на диванчике сидит, в окошко смотрит. И никому не мешает. А по утрам ей надо обязательно забор помыть… Она его моет, моет, потом устанет и сидит…
Слушая Марусю, Катя незаметно осмотрелась в доме. А ничего, кстати… Валера был хороший хозяин, порядок навел. И кухня очень уютная, современная. Да, жалко Валеру… Наплевали ему в душу, конечно. Надо было хоть прощения попросить… Только когда, в какой момент вылезешь с этим прощением? Когда он сына обещает убить, что ли? Нет уж, Валера, извини. Своя рубашка все равно к телу ближе. И своя кривда дороже чужой правды. И вообще, скорей бы уж ребята позвонили, как у них там с билетами на проходящий до Саратова срослось!
– Ну что, Маруся, будем обед готовить? – улыбнулась она девочке, отогнав грустные мысли.
– Да! Только давай что-нибудь вкусное! Картошку жареную, например!
– А может, суп сварим? Все же обед… А картошку на ужин…
– Ладно, бабушка. Я тебе помогать буду, хочешь?
– Конечно, хочу… Как же я без тебя-то управлюсь, умница ты моя? Без тебя я и не жила вовсе… Ходила мимо, даже подойти боялась…
– А почему?
– Да глупая была! Вот подрастешь немного, и я тебе все-все про свои глупости расскажу, ладно?
– А разве взрослые делают глупости?
– Ой, что ты! Делают, и еще какие…
Надя сидела, смотрела на них с ласковой улыбкой. Так и день прошел на фоне этой улыбки, перетек от обеда к ужину.
Спать Катя легла на одном диване с Марусей – показалось, так надежнее. Первую ночь провела беспокойную, прислушивалась к каждому шороху. Вставала, подходила к окну, вглядывалась в жидкую темень. Никого, только луна ущербная светит. Еще и фонарь уличный за забором наяривает, во дворе все хорошо видно. И мышь чужая не проскочит. Где-то собака лает… Хорошо, завтра выходной. А потом надо будет к начальству идти, в отпуск раньше срока выпрашиваться. С таким хозяйством теперь не забалуешь, уже и сама себе не принадлежишь. А ведь хорошо, черт возьми, когда сама себе не принадлежишь…
Не выспалась, конечно. А Надя утром рано поднялась. Глаза беспокойные, озабоченные.
– Пойдем, бабушка Надя, пойдем! – скомандовала Маруся, взяв Надю за руку. – Сейчас бабушка Катя тебе табурет поставит, потом тазик с водой принесет… Пойдем…
Когда Катя несла тазик с водой, произошло с ней странное что-то. Будто увидела себя со стороны… И не просто так со стороны, а будто из окна своего дома увидела. И подумалось отстраненно, словно мысль тоже бежала от окна – надо же, опять новое лицо в их дворовом сюрреализме… Получается, сама про себя так подумала – новое лицо? Женщина, которая несет воду в тазике для Нади, – новое лицо!
Встряхнулась, чтобы отогнать видение. Да, смешно и грустно получается. Хотя, если вдуматься, вполне обычное состояние для человека – смешение грусти и смеха. Удобоваримое. Не страшное. Ничего, ничего… Правильно Маруся говорит – бабушка Надя не виновата в своей болезни. Да и вообще – надо смиренно принять очередной бумеранг… А что это, если не бумеранг? Захотела оградить сына от грустного обстоятельства – получай сама это обстоятельство, еще и радуйся, что не отказали!
Что же, она и радуется. И спорить не собирается. Чего с бумерангами спорить? Раньше надо было думать о бумерангах…
За день так умаялась, что вторую ночь спала как убитая. Вернее, половину ночи спала. За окном еще темно было, когда открыла глаза, чувствуя, как пробежал внутри холодок… Не страх, а именно холодок щекотливый. Подняла голову от подушки, прислушалась…
Тихо. Маруся спокойно дышит, размеренно. Вот Надя в своей комнате пробормотала что-то во сне. За воротами машина колесами прошуршала, вроде остановилась… Или показалось? Или калитка скрипнула? Господи, кто там?.. Валера приехал, чтобы свершить задуманное и утолить странное состояние психики?
Тихо встала, на цыпочках подкралась к окну. И тут же отпрянула назад испуганно – да, так и есть! Какая-то тень тихо пробирается по двору, прямо к ее крыльцу… Сейчас войдет в свет фонаря с улицы… Вгляделась…
Господи, да это же Гриша! Как она его не узнала с перепугу! Гриша, сынок! Приехал!
И метнулась к двери, выскочила босая на улицу, побежала по траве, путаясь в подоле длинной ночной сорочки.
– Гриша! Гриша, я здесь… Я у соседей… Ты приехал, сынок!
– Тише, мам… – развернулся к ней Гриша, посмотрел умоляюще, – тише, разбудишь… Здравствуй, мам. Да, мы приехали…
Она стояла перед сыном, раскинув руки для объятия. И только потом увидела, что Гриша держит на руках спящую девочку. Маленькие ножки в красных сандаликах мотыляются безвольно, один сандалик уже сползает, держится на честном слове, вот-вот упадет в траву. И опустила руки, и тут же невольно потянула их, чтобы успеть поймать этот красный сандалик.
– Это Риточка, Ленина дочка. Ну, теперь она и моя дочка, конечно… – тихо пояснил Гриша. – Вот, мы решили к тебе, мам. А Риточка плохо перенесла полет, ее тошнило всю дорогу, умаялась.
– Так вы на самолете?
– Ага. Понимаешь, у нас так обстоятельства сложились – надо было срочно уезжать. А иначе… Ну, это долго рассказывать… Мы практически на чемоданах сидели. А вчера Никита как раз позвонил – кончай, говорит, ерундой заниматься, бери семью, езжай к матери. Не бойся, говорит, она совсем другая… И ей помощь нужна… А толком не объяснил ничего! Что случилось-то, мам? Какая тебе помощь нужна?
– Ты мне нужен, сынок. Нет, не в том смысле, что ты мне обязан чем-то, я не это хотела сказать! Мне очень многое нужно тебе сказать, сынок! Давай завтра поговорим, хорошо? Сядем с тобой и долго, долго будем говорить. Никита прав, я другая стала, я многое поняла про себя, про вас… Но все это завтра, Гриша. А сейчас иди, укладывай ребенка. А жена твоя где?
– Вон, сзади идет… Наверное, у такси задержалась.
За воротами и впрямь слышались приглушенные голоса. Фыркнуло, отъезжая, такси, во двор шагнула худая маленькая женщина, похожая на подростка.
– Там вещи, Гриш… – проговорила жалобно и осеклась, глядя на Катю. И сделала маленький шажок назад, будто собираясь исчезнуть.
– Это Лена, моя жена… – глянул на мать с опаской Гриша.
– Да, да, конечно! Я поняла, это Лена! Иди, сынок, открывай дом, ключи там, на притолоке. Давай я тебе открою… А я сейчас у соседей ночую, с Надей и с Марусей…
– Ой, мам, да ты ж босиком, простудишься! Иди в дом, мы сами справимся, не беспокойся.
– Хорошо, хорошо, как скажешь… Заходите, устраивайтесь. А я пойду, у меня там Маруся. Вдруг проснется, испугается?
– Конечно, иди. Утром увидимся, мам.
– Да, конечно. Счастье-то какое, Гришенька… Приехал…
Утро выдалось прохладным, но ярким и солнечным. Надя поднялась рано, и надо было пристраивать ее к необходимой процедуре в авральном режиме, не производя лишнего шума. Все еще спят…
Пристроила. Надя начала старательно шлепать мокрой тряпкой по пластику, а она села на скамью, оглядела двор. Как Леня сиживал когда-то… А она из окна смотрела. И злилась… И сумасшедшим домом называла. «Прости меня, Леня. И Надя тоже. Простите…»
Катя вздохнула – пролетел тихий ангел. Одновременно она хозяйским глазом подметила непорядок – пора лишнюю траву выкосить. Ночью бежала по этой траве, ноги путались. Ах, какое сегодня солнце, боже! И птицы так поют… И Гриша приехал!
– Бабушка… Я проснулась, а тебя нет.
– Маруся, солнце мое! Иди сюда, садись рядом! Посмотри, какое утро.
– А кому ты улыбаешься, бабушка?
– Да всем улыбаюсь! Тебе, солнцу, бабушке Наде, нашему дому…
– Здорово! А давай вместе будем улыбаться!
– Давай…
Подняли вверх лица, вздохнули одинаково, прикрыли глаза. Катя сняла теплую кофту, накинула на плечи девочке, обняла ее, прижала к себе, чуть покачивая. Хорошо…
Скрипнула дверь в ее половине дома, на крыльцо ступила девочка. Такая же по возрасту, как Маруся, лет шести. Рыженькая, смешная.
– Риточка, иди к нам! – ласково позвала Катя. – Иди, не бойся!
– А кто это, бабушка? – тихим ревнивым шепотком спросила Маруся.
– Это Риточка, она будет здесь жить… Смотри, какая хорошенькая! Какая рыженькая!
Риточка подошла, глянула исподлобья, потом спросила деловито:
– А вы кто?
– Я – Маруся! – опередила Катю со знакомством внучка. – Вон там – бабушка Надя! А это – бабушка Катя! Это моя бабушка Катя! И бабушка Надя тоже моя!
– Ух ты, сколько бабушек… Здорово… – восторженно-завистливо отозвалась Риточка. – А у меня ни одной бабушки нет, даже самой малюсенькой…
– А хочешь, я буду твой бабушкой? – склонилась к девочке Катя, заглядывая в глазки и убирая за ухо непослушную рыжую прядь.
– Хочу… А можно?
– Конечно, можно!
– А я? – обиженно надула губки Маруся. – Бабушка, ты чего?
– Марусь, так это же хорошо получается! Если Риточка будет мне внучкой, значит, тебе она будет сестренкой! Ну чем плохо, сама подумай!
– Вообще-то да… Ладно, пусть будет. Я давно сестренку хочу.
– Ну, вот видишь…
Риточка взвизгнула, хлопнула в ладоши от нечаянной радости и тут же пристроилась на скамью с другого боку, прижалась худым тельцем. Катя раскинула руки, обняла детей, приговаривая что-то невразумительно-ласковое и чувствуя себя курицей-наседкой.
И вдруг замолчала на полуслове… Ощущение полного, стопроцентного, абсолютно чистой воды счастья обрушилось на нее, как передозировка кислорода на организм. Даже симптомы те же – появилось чувство жжения за грудиной. И туман в глазах, и голову понесло, понесло… Какое оно острое, чувство счастья! Видать, залежалось невостребованным за долгие годы там, у нее внутри, под нафталином страха и обманчивых установок, а теперь высвободилось и хлещет фонтаном! Ох, с катушек бы не слететь от такого сильного стресса! Счастье ведь тоже – стресс…
Катя вздохнула – и отпустило немного. Но туман перед глазами остался. А в тумане появилась на крыльце женщина – маленькая, лохматая, похожая на подростка. Лицо испуганное… Ее, что ли, боится?
– Рита, дочка, ты что! А ну, иди сюда быстро… Ты же мешаешь, наверное…
– Нет, она не мешает. И ты иди к нам, Лена. Только накинь на себя что-нибудь, утро сегодня прохладное.
Катя говорила и не узнавала своего голоса. Другой он был. Звонкий, молодой, счастливый. А главное – искренний. Да, да… Искренний посыл – это ведь тоже компонента счастья! Посыл проснувшейся внутри любви. Да, точно, это любовь в ней проснулась! А если есть любовь, значит, и счастье есть. Ой, да если бы раньше знать, господи… Можно было бы всех этим счастьем-любовью накормить до отвала! С головой завалить! И жизнь бы текла по-другому…
Катя почувствовала, как горячая волна подступила к горлу, но плакать было нельзя. И некогда было плакать. Потому что важный предстоял момент – знакомство с невесткой. Тоже своего рода счастье, между прочим.
– Ну, что же ты, Леночка? Иди к нам, иди! Будем знакомиться, наконец…
Назад: Часть 2
На главную: Предисловие