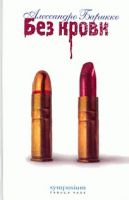Глава VII. ЗАХВАТ
Утро наступило так, словно что-то над Волгою разорвалось. Выспев, треснула и разодралась — даже не по краям, а, кажется, в самом зените — ночная пелена и с невнятным шорохом осыпалась по бокам сразу же, ослепительно и бескрайне, блеснувшего в этом молодом проране летнего утра.
Плод его сочен, сверкающ и душист — из каждого надкуса радугой брызжет роса. Прекрасно натянутая душа его сладострастно трепещет под неисчислимыми хлыстами разновеликих птичьих голосов.
Волга!
Сергей и Виктор вскочили одновременно, помолодевшие, трезвые, утренние.
По очереди побрившись, вместо душа почти что голышом потрюхали к реке. Вскоре к ним присоединились и другие. Один за одним, как дубовые бочонки с соленьями в прорубь, плюхались с дощатого помоста, служившего лодочным причалом, в еще холодную, утреннюю волжскую воду полновесные голые тела — еще чуть и Волга выйдет из берегов. От мужских оглушительных возгласов на миг, оглохнув, примолкли даже окрестные птицы. А когда, опомнившись и раззадорившись, запели вновь, в их песнопениях появилась солоноватая примесь здорового утреннего мата, как будто запели они теперь не свои классические произведения, а похабные народные частушки. Плыл по Волге молоток, ну и пусть себе плывёт… Скопировали…
Завтрак был на скорую руку, и в восемь утра вице-губернатор вывел их на рыбалку: так детишек в детском саду выводят на экскурсию. Взяли несколько лодок, распределились попарно. Из Сергея рыбак никудышный: червяка посадить, распять по-людски не сумеет, и вице как-то сразу, с одного взгляда разглядел это и, как самый сноровистый в команде, что также видно было с первого взгляда, определил его напарником к себе.
Сергей, пожалуй, вообще второй раз в жизни выходил рыбачить на лодке.
— Поздно… Лежебоки, — сетовал Антон Петрович. — Кто же на рыбалку идёт, позавтракавши? Вон даже собак перед охотою не кормят…
Сергей улыбался: как будто не он сам, не Антон Петрович, только что едва ли не силком заставлял подналечь на кислые блины с икрою и запивать не только водкою, но еще и местным, домашнего приготовления и потому не менее забористым, чем водка, кумысом из конского и верблюжьего молока.
Волжский рукав, который они пересекают, почти недвижим. Лоно вод — точнее не скажешь. Ни одной гримасы на нём, если не считать широких и медлительных, как потаённые мысли, разводов, остающихся после их пластмассовой лодки. Плыви они по небу, разводы были бы точно такими же, эфемерными. Да они и плыли почти что в вышине, и всё, что их окружало, казалось всего лишь небесным отражением. Преломлением земного. Если так, тогда не птицы поют сейчас вокруг, а сами ангелы, благо что лексика их вновь стала вполне нормативной и совершенно благозвучной: мир, всколыхнувшийся было обрушеньем десятка выхоленных мужских тел, вновь вошел в утренние свои берега. Антон Петрович велел рассредоточиться лодкам по разным заводям и сам гнал их посудину, не доверяя Сергею, сильно и целенаправленно, как будто точно знал, где зарюет косяк легкомысленных золотых подводных лежебок. Сергей исподволь наблюдал за ним и, в общем-то, проникался к нему расположением. И думал о том, что в бизнес всё-таки приходят люди немного другие, нежели приходили в своё время в партию. Партийцы, тоже начинавшиеся когда-то с таких вот рукастых и молоткастых, с годами и поколениями стали вырождаться и скукоживаться. Каста со временем стала всё больше воспроизводить себя сама, а если и черпала что-либо на стороне, то предпочитала в подручных материалах иметь воск, а не гранит. Так, постепенно, и стала циркулировать дистиллированная вода там, где циркулировала кровь.
Вспомнился старый-старый партийный анекдот.
— Сколько проживет на необитаемом острове секретарь ЦК КПСС?
— Ровно столько, сколько протянет его помощник. Как только помощник окачурится, в тот же день и секретарь отбросит копыта…
Эти — другие. Спокойно и плотно ведёт лодку, без посторонней, особенно Серегиной, помощи разбирается с удочками, насаживает и забрасывает так, что леска со свистом режет утренний вкусный воздух… Видно, что на реке вырос — уже по одному ходу лодки и по знанью мест, куда править, где может обретаться тот же волжский щеголеватый канатоходец — судак. И сруб при необходимости поставит, и душу, при случае, вынет. Такой не только сам себя, но еще и помощника запросто прокормит. Не зря именно к ним липнут сейчас прилипалы всех мастей. Пришедшие из конкретных дел, из племени челноков, этой сеголетковой молоди современного российского капитализма, из фирм, где за копейку удавятся, а за две удавят, они и в новых своих эмпиреях предпочитают не терять этой генеральной, дубовой направляющей. Навыка выживать на необитаемом острове.
И даже Серегу обучить пытается!
И червя насаживать, и забрасывать. Напарник вице-губернатору действительно попался слабообучаемый. С червяком-то справился, с лескою тоже — правда, без врожденного вице-губернаторского шика: какой там шик, сам себя чуть за ухо не поймал! — а вот ни одного утянутого в серебристый концертный фрак судака выманить на публичные вокализы не удалось. А у Антона Петровича под ногами — целая вибрирующая спевка. Пасти яростно разевают, но такие высоченные ноты берут, что человеческому уху не разобрать — только нечеловеческому. Рыбная ловля в подмастерьях — все равно, что эпигонство в литературе или другом искусстве: и червяк тот же, и замах замечательный, и стиль — как у мэтра, а улова-то всё равно нема.
И Сергей, откинувшись на нос лодки, что увязла в недвижной воде, тоже как пойманная за волосы кем-то снизу, и, подложив под голову скрещенные кулаки, просто любовался ловким и бывалым человеком: занятие не хуже рыбной ловли.
И думал.
Кто он сам для этого человека? Директор, даже не хозяин, мелкого московского издательства. Некое уважение и дружелюбие Антон Петрович сдержанно излучает по отношению к нему скорее по инерции — в силу каких-то некогда занимавшихся Сергеем высот, возраста — вице-губернатор года на четыре помоложе него — а главное, благодаря серьезной компании, в которой явился Сергей под его гостеприимное покровительство. Уважение и дружелюбие не столько по отношению к самому Сергею, сколько к Виктору, Воронину, Мусе, которых вице-губернатор действительно знает не один год и которые весьма полезны и ему, и области: вон сам Тракторный завод берет у того же Виктора кредиты на зарплату… Чужим светом торгуете, Сергей Владимирович!.. А ведь было время, когда пирамида торчала в обратном положении. Пропасть была между ним и этим парнем. Сохранись прежнее положение вещей, вряд ли они и пересеклись бы когда-либо. Маловероятно, что рыбачили бы вместе где-то до тыща девятьсот девяносто первого. Слишком разные берега были у них.
С высокой-высокой горы летишь ты, Сергей Владимирович, — и неизвестно ещё, где остановишься.
Но каким бы горьким ни был личный, Сергея, счёт к событиям девяносто первого года, отбросившим его к той социальной ступени, с которой он когда-то лишь начинал, стартовал, но в его размышлениях о темных, венозных русских революциях в последнее время появился какой-то настойчивый новый импульс — не в предощущении ли очередной?
Их сейчас принято ругать налево и направо. И яростнее всего почему-то клеймят и хоронят революции именно те, кто всегда успевает воспользоваться их плодами. Считая, видимо, что дозволенное им не может быть дозволено более никому. Серёгин род революция рубит под корень, и уже не в первый раз. И всё же…
При специфической русской самоорганизации и ревностном самообслуживании власти именно революции как таковые являются, увы, едва ли не единственным инструментом смены элит. А стало быть — просто инструментом истории, ибо вся история человечества есть не что иное, как бесконечная смена элит. Окуклилась, выдохлась, разложилась и выродилась одна элита — девятым валом над нею, вздымая с самого дна и грязь, и ворвань, и камни, и песок, и кровь, кровь, кровь, встает другая. И ни от чьего конкретного желания или нежелания это не зависит. Вернее, зависит примерно так же, как от страстей наших грешных зависят, скажем, цунами или землетрясения. Это скорее страсти наши зависят от революций и даже формируются ими — так же, как в самой прямой зависимости, оказывается, находятся они от первоисточника всех абсолютно земных пертурбаций — солнечной активности. Они и зарождаются по одним и тем же грозным и мерным законам, скорее геофизическим, чем психофизическим.
И последние станут первыми — эта библейская истина реализуется в России чаще всего своим самым сжатым, самым пневматическим ходом: передёрнутого затвора.
Весь вопрос лишь в качестве предоставляемого эпохой оружия, определяющего разницу между убийством и самоубийством.
Самые ловкие, акробаты, поняв, что сопротивление бесполезно, умудряются оседлать неотвратимое, а самые расчетливые — расфасовать его по пробиркам.
А без того, чтобы последние вновь и вновь не стали первыми, нет и не может быть движения вперед. И потому — нет в природе конченных людей. Ни на ком не ставь при жизни крест! — этому тоже Сергея научила именно новая жизнь. Скольких, казалось бы, пустых, отжатых и даже отживших увидал он сейчас — на коне. И прекрасно смотрятся и даже, похоже, справляются. Но дело даже не в этом. Конченных людей быть не может уже потому, что для бога нету избранных: и последние станут первыми…
Может, он поэтому вновь и вновь и возвращается к этим тяжелым мыслям, что втайне и для себя ищет надежду, лазейку для надежды? На поворот судьбы. Но это уже иллюзия — для него лично поворот уже маловероятен: не успеется.
Любая власть в России является абсолютизмом и к нему стремится — отсюда, наверное, проистекает и своеобразие методов противодействия ей.
Хорошо пупком кверху размышлять о неизбежности революций. Если б они каждый раз не метили в тебя самого. И если б ты сам не был колесован только что одной из них. Тебе только кажется, что лежишь кверху пузом, весь такой облагодетельствованный и сытый чужой заботою, а на самом-то деле это взгляд на окружающий и блистательно несущийся мимо тебя — уже после переезда — мир из кювета.
Как сохранить в себе даже не силы, а сосредоточенность к жизни и на жизни? Любопытство и цельность? Не деморализоваться, не впасть в растительную летаргию, не переехать еще и самого себя?
Не знаю.
Есть только одно, что делает человека самодостаточным, независимо от карьеры и даже физического состояния: способность мыслить самому и воспринимать чужое. Сызмальства отравленный честолюбием, Сергей утешает себя тем, что за эти годы не только издал то, что без него никто не издал бы — он стал ч и т а ю щ и м издателем, что сейчас большая редкость: на книгах зарабатывают, как на наркотиках — стараясь не вляпаться, не пристраститься, не заполучить самому наркотической зависимости…
Сергей любит молчаливых людей. Антон Петрович ушёл в рыбалку, как суслик в норку. Молча, размеренно и сладострастно. Смолкли, ближе к полудню, птицы на островке, близ которого примерзла, как муха, набредшая на зеркале на капельку мёда, их лодка. Молчит пустая, поделённая на рукава река, вместе с которой безмолвно движутся куда-то и острова, и лодка их, и само небо: кажется, слышно, как вращается Земля. Осознав всю безнадежную глубину Серегиной необучаемости, вице-губернатор не пристает к нему с дальнейшими наставлениями, не делает новых попыток обучить столичного медведя езде на велосипеде, не занимает его расспросами и, в свою очередь, не ждёт бесконечных восхищенных возгласов по своему адресу. Сергей раза два, после особо крупных дирижаблевидно прочертивших кривую от воды до лодочного дна экземпляров, льстиво подгавкнув, был удостоен ответно поднятого вверх большого пальца — этим оба и удовольствовались.
Сергей любит не просто молчаливых, но еще и понятливых, что чаще всего и сопрягается между собой.
Лишь умножавшиеся в числе судаки, выпучив глаза и неистово гримасничая, тщились, как младенцы, быть услышанными. Но и их, кроме волжской, материнской прогретой утробы, никто не слыхал.
Голову припекало. Сергей вспомнил о вчерашнем ночном происшествии, и ему стало не по себе. Живи, пока живется. Конченных людей нет, человек способен возрождаться вновь и вновь, до последнего вздоха. Есть только два качества, которые действительно роднят человека с Богом: умение прощать и способность возрождаться. Искупаться бы, да судаков распугаю…
Заслышался гул моторки.
— Кого еще несёт?! — недовольно проворчал Антон Петрович, приставляя щитком волосатую ладонь.
Несло опять нечто военизированное: небось, по всему Поволжью пошла молва о том, где водятся караси отменно зеленого цвета.
— Документы! — еще на подлёте хмуро затребовал некто в зеленом со споротыми погонами.
И опять, черт подери, с автоматом между колен — время какое- то у нас пошло, автоматическое! Что ни блоха — кусачая.
— Какие еще документы? — ответно рявкнул вице-губернатор, как будто и у него между ногами валялся «Калашников».
— Личности…
Антон Петрович вынул что-то из портмоне, припрятанном в одежде под сиденьем: собираясь на рыбалку, не забудь кошелек — вдруг на рыбном базаре реабилитироваться предстоит.
— А этот? — спросила уже миролюбивее физия, чуточно показывая на Серегу стволом.
— Этот — спит. Не видишь?
— Ну да, — зафиксировал автоматчик. — А под каким фамилием?
Вице-губернатор назвал.
— А-а… — было ответом.
И еще — треск газанувшего движка и его же взметнувшаяся вонь.
Этот — спит под своей (чужой) фамилией, как под крестом.
— Твою мать! — удивительно ласковым тоном произнес Антон Петрович вослед вонючему и необычайно шумливому насекомому и стал сматывать удочки: какая уж теперь рыбалка. Настроение пропало — спугнул, мутило, настроение. Да и куда уж больше: дюжина увесистых, как пощёчины, судаков, обламывая встопорщенные плавники, тяжко бились в последних припадках на дне.
— Можно нырнуть? — спросил Сергей, разлепляя глаза.
— Туда и обратно, — разрешил, как пионеру, Антон Петрович, поглядев на часы. — Пора публику на обед скликать.
— И обратно! — повторил, шутливо погрозив пальцем Сергею, уже приготовившемуся к нырку.
А вода такая, что обратно и не хотелось. Пробив нежное, прохладное лоно до самого дна, Сергей по пути, в воде уже, дважды перевернулся через голову и кончиками пальцев осторожно коснулся речного восхитительного песка. Как будто под лифчик к кому-то прокрался.
Посидел на корточках, эмбрионом, на дне, подумал. Но потом всё-таки с силой распрямился и оттолкнулся от нежной, нежнее пепла, плоти — теперь пальцами ног. Наверху, уже как сам Господь Бог, его строго встречал Антон Петрович. В руке у него мобила, по которой он с кем-то говорил, скорее всего с Мусою, ибо больше Господу говорить здесь не с кем, но при этом сурово и внимательно смотрел на воду, в лунку, из которой, если всё благополучно, и должен объявиться Сергей. Интересно, берет ли мобильник под водою? Явление получилось шумным, с фонтаном брызг, с утробным пыхтеньем и отдуванием: китобойная флотилия «Слава» явно потеряла заманчивый экземпляр.
Одна за одной, повинуясь мобильной команде, лодки вернулись к причалу. Разумеется, ни в одной из них не было столько добычи на дне, как у них с Антоном Петровичем. Половину улова Антон Петрович сразу же щедро, как Аллаху, приписал Сергею. Сергей пытался отнекиваться, рассказать, как все было на самом деле, но Антон Петрович выразительно подмигнул ему. Сергей понял, что дар его совершенно искренний, хоть и незаслуженный, и в конце концов принял его и сполна разделил чужую славу. По стакану им обоим налили прямо на пирсе.
Обед все же перенесли: искупаться решили на пустой, если не считать водки, желудок.
Купаться отправились на песчаную отмель, нежная холка которой выступала, женственно выгибалась прямо посреди речного рукава. Сергей в своей жизни побывал на многих пляжах и едва ли не на всех океанах, но такого рафинированного, крупитчатого песочка, как здесь, под боком, на Волге-матушке, нигде еще не встречал. Народ подобрался плавучий: у каждого за спиною, кроме армии, еще и какое-нибудь спортивное прошлое. За Мусою вообще не угнаться — можно подумать, что в юности был чемпионом не по вольной борьбе, а по плаванию вольным стилем. Да и молодой еще, моложе всех в компании. Сергей плавать тоже умеет. Кроме дядьки, учила его, в одном из лучших спортивных бассейнов Москвы, чемпионка СССР Света и всё сокрушалась, что он, с такими длинными граблями, поздно к ней пришел, в тридцать с лишком, подпихиваемый в спину гипертоническим кризом.
— Попадись ты мне раньше, я бы точно тебя в люди вывела, — говорила, поигрывая глазами, сорокалетняя отставная чемпионка.
Сергей, улыбаясь про себя, тоже сожалел, что поздновато они встретились. Но по другой причине.
Научила: деревенскими саженками он теперь давно уже не плавает. Но один старый мимолетный разговор все же помнит. Зашла во двор к ним когда-то цыганка. Мать подала ей, что Бог послал, и та без заморочек — мол, дай погадаю, расскажу, что было и будет — засобиралась дальше. И вдруг пристально-пристально вгляделась в Сергея.
— Отпусти его со мною, — обратилась к матери. — Зачем тебе трое, одной? Беленьких оставь, а этого, чернявенького, отдай мне, хуже не будет…
— Да ты что! — возмутилась матушка. — Что мелешь, дура бесстыжая!
Не такая уж она и дура: из беленьких пока наличествовал только один, второй, кажется, на тот момент даже и не намечался…
— Как хочешь, — пожала плечами цыганка. Только бойся: не я уведу — вода увести может… И спорым шагом пошла со двора. Мать аж побежала за нею, улещивая и выпытывая: скажи, мол, да скажи, что означают эти твои слова.
Не сказала. Но темное это пророчество, напугавшее тогда матушку больше, чем Сергея — он ведь не собачонка, чтоб его кому-либо отдавать, хотя самого его давно манили видения, открывавшиеся с родной камышовой крыши — всё-таки в душу запало. И входя в море, в речку ли, на любом судне, включая военные и даже подводные лодки, на которых ему тоже доводилось бывать, всегда невольно вспоминает о нём: вернуться бы обратно. Вон, даже Петрович строго-настрого наказал: и непременно обратно!
И главное, опаска эта не избылась и тогда, когда плавать стал не саженками, а так, как плавают в телевизоре…
Дурачились, плескались. Прыгали, как мальчишки, с чужого плеча, бросали, раскачивая вдвоем, третьего в воду: вес у каждого таков, что совместно с третьим валились, поднимая фейерверки брызг, и первые двое.
Но Сергей вылез из воды довольно рано и вновь развалился на песке. Что-то смутно тревожило его, не позволяло отдаться сполна теченью воды и воли.
Солнце вошло в зенит и калило уже всерьез. Закрываешь глаза, и перед глазами возникают оранжевые пропеллерные круги.
Обед растянулся до ужина и даже дольше — до самых песен. Два барана, источая библейские ароматы, одновременно жарились на вертелах. Каждый страждущий подходил к ним с ножом и тарелкою и отрезал понравившийся кусок. Прямо какая-то древняя коллективная и невероятно обжорная казнь. Судаки всех видов: отварные, припущенные, жареные под маринадом. Уха не только в тарелках, но и, как водка, и в литровых жестяных кружках — чтоб водку же и запивать…
Сергей улизнул к себе довольно рано. Но сон не шел. День отдыха, но Сергей чувствовал себя усталым и подавленным. Все эти упражнения, видимо, уже не по нему. Поздно. Раз за разом пытался нырнуть в забытьё, а его раз за разом выталкивало наверх, как незадачливого утопленника, чьё время — всё-таки! — еще не подоспело. Не поспел!
Часа в два ночи появился и Виктор. Сергей удивился: рановато и, судя по походке, трезвовато. Виктор ступал осторожно, ощупью — боялся разбудить.
— Шагай смелей, комсомольское племя! — отозвался Сергей. — Я не сплю.
— А-а… Не спишь один или с поварихою?
— Сам с собою — достиг полного совершенства. А ты чего досрочно? — я думал, только к утру заявишься. И поступь какая-то не такая — прямостоящая… Не задалось?
— Да нет, Сереж. Просто о войне разговорились, а потом и разбрелись потихоньку…
Он грузно сел на свою кровать.
Если о войне, то понятно. Война по-разному отбирает отцов у сыновей. У Виктора фокус свой она проделала очень уж коварно. На фронт отец уходил из одной семьи, с Дона, а вернулся почему-то к другой и уже — на Ставрополье. Не сказавшись ни жене, ни сыновьям. До седых волос Виктор считал, что отец погиб. Смертью храбрых. А он, после ранения, жил-поживал в соседнем крае. Жизнью тоже не самых робких: ещё двоих сыновей нажил, один из них, как позже обнаружил Виктор, — копия его самого, Виктора. Брошенного на дальнем казачьем хуторе в обмен на Победу.
Чего уж такого необычайного дает война русскому мужику хоть в восемьсот двенадцатом, хоть в девятьсот сорок пятом, что он всякий раз ворочается с неё, если ворочается, более раскрепощенным, чем до войны, и даже более забывчивым? Способным переступать через непереступимое — во имя самого себя.
Неужели только на войне, после войны русский мужик и вспоминает о себе? Опамятывается. Что такого показывает, как чужая баба, она ему, после чего, ежели доживает, необоримо тянет его и на мирные подвиги? Жить иначе. Слаще. Повторно умытый её с ним совместной, материнской и материковой, кровью, считает возможным начать жизнь сызнова…
Будучи уже большим начальником и отдыхая в номере «люкс» кисловодского санатория «Горный воздух», Виктор получил однажды прямо в рецепции письмо без штемпеля.
— Просили передать из рук в руки, — сказала регистраторша, вручая конверт.
— От кого?
— Сейчас узнаете.
Глазки выстроены столь соблазнительно, что Виктор уже обрадовался: неужели от нее самой?
То было время, когда одинокие дамочки, отдыхавшие по соседству с ним, еще искали его общения. Самые смелые по телефону, а робкие и застенчивые — в переписке из номера в номер.
В лифте распечатал и — проехал свой этаж. Вышел где-то наверху и медленно-медленно спустился вниз пешком. Отец! И не под Берлином, а здесь, рядышком, в станице под Кисловодском. Узнал случайно, от соседки, что в санаторий каждый год приезжает человек с его фамилией, да еще и имя-отчество совпадает. И даже год рождения. «Если можешь, сынок, заедь к нам — кто знает, сколько мне осталось…»
«Если можешь…» Умеет же русский человек просить прощенья! Не сразу и разберешь, перед тобою ли виноваты, сам ли ты кругом виноват…
Не радость, нет, вовсе не радость первою зажглась в душе. Горькой-горькой мальчишескою обидою вспыхнула, как соломенная, сама душа. Весь он вспыхнул: просто удивительно, как это от него, такого большого и пылающего, не пыхнул к чертовой матери и весь этот «Горный воздух»! Обида даже не за себя, а за мать, маленькую, старенькую и серенькую, так и не вышедшую больше замуж, так и израсходовавшуюся, подымая сыновей, в нужде и ожидании. На автопилоте отыскал свой номер «люкс», вошел и так же, как сейчас, не раздеваясь, опустился даже не на диван в холле, а прямо на двуспальную кровать в дальней комнате.
Но надо знать Виктора. Даже этой, может, самой большой и жгучей в жизни обиды хватило ровно настолько, чтобы набрать номер давешней смазливой администраторши и заказать черную санаторную «Волгу» не на немедленно, а на завтрашнее утро.
Промаявшись до утра, с кульками, свертками, бутылками — поехал. Заикающийся больше, чем обычно.
Фронтовик встречал его во дворе, почувствовал. Но первым Виктор увидел своего младшего, послевоенного брата, стоявшего позади отца, на крыльце, на возвышении. Как будто самого себя, обомлев, увидал. Даже челку, подлец, зачесывает так же, как старший брат! Разница одна: если старший — дите войны, то этот явное дитя Победы: пузо в два обхвата. Ну, и сразу видать — работа на свежем воздухе, не то, что у Виктора, кабинетная, нервная. Механизатор, небось, дитя природы. Победы и природы. А какого черта было ему учиться — при живом-то, не терявшемся батьке? Зачатый, судя по всему, ещё на фронте, а рожденный уже в тылу. Этого — не забыл, не отдал войне батька…
Парня увидал и уже с другим чувством, с облегчением, входил в комнату. Пожар как бы дождиком прибило.
Отец обнял его, словно блудного сына.
А там и постаревшая, что тоже отметил про себя приезжий, фронтовая медицинская сестра на крылечко высунулась.
Не сразу, не сразу сообщил он матери о нашедшейся пропаже. Где-то через год, когда вновь побывал в «Горном воздухе». Мать же повидаться отказалась. И больше он об отце с нею не заговаривал: женские обиды живут дольше, потому что они еще горше детских. Но сам он еще года три наведывался в «Горный воздух», причем добирался теперь из Волгограда не самолетом, а персональною машиною, чтоб можно было больше привезти всякого разного инвалиду, участнику и кавалеру. А на четвертый год отпуск пришлось взять досрочный — его позвали на похороны. И схоронил, и памятник сам через год поставил: времена пошли такие, что механизаторам, даже послевоенным, стало не до памятников мертвым — прокормить бы живых…
— Знаешь, Сергей, если сейчас на нас, не приведи Господь, нападет кто-нибудь серьезный, мы уже не победим, — сказал после долгого молчания, по-прежнему сидя на кровати и уронив голову в упертые локтями в колени руки.
Интересное начало: что это они там, на свежем воздухе, обсуждали?
— Почему это не победим? Что за пораженческие настроения? Разговорчики в строю…
— Тебе сказать, почему?
— Ну да, интересно же знать, с какого конца козу драть.
— Слушай, — не принял Серегиного тона. — Недавно я был в нашем Волгоградском госпитале. Привозил харчи, подарки ребятам, воевавшим в Чечне. Собрали мне их в буфете. Двоих или троих так даже в инвалидных колясках доставили. Раздали мы с помощниками, что привезли, телевизор на общее пользование преподнесли. А потом спрашиваю; «Поднимите, пожалуйста, руку, кто из города?» Никто не поднял. «А из райцентра?». Тоже ноль рук. «А кто из села, хутора или аула?». Подняли даже те, у кого обе руки на перевязи. Вот так. Суверенитет России большой защищает Россия маленькая. Деревенская…
— Ну и что? И в сорок первом воевала преимущественно деревенская…
— А то, что деревенская сегодня — значит, бедная. В сорок первом народ был более или менее единым. А сейчас у нас аж два народа: бедный и богатый. И как бы богатые ни подталкивали бедных в спину, а воевать, как в восемьсот двенадцатом, беднота все равно не будет. Потому как уже есть, был опыт жизни без богатых и бедных — и его, увы, не вычеркнешь… Другое время на дворе, другие песни.
Сергей не раз поражался своему другу. Речи его нередко «темны и бессвязны», но в них всегда даже сквозь нетрезвое или природное — остаточное — косноязычие светится исподний смысл. Здравый. Народный. Не зря с тертым народцем столько лет, до собственной старости, работает. Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него? Так и вернемся — в одну, общую, почву…
— Ладно, Витёк, давай помогу тебе раздеться.
Сергей встал и начал стаскивать с друга рубаху и штаны. Тот не сопротивлялся, хотя и сидел по-прежнему, скорчившись. Когда дело было закончено, так же, подтянув колени к подбородку, калачиком свалился в постель.
— А знаешь, что мне Муса сказал?
Интересно-интересно.
— Вот ты, говорит, сталинградский. А в курсе того, что в Пантеоне Славы на Мамаевом кургане выбита и чеченская фамилия? «Как так? — спрашиваю. — Вас же выслали». «Ну да, — говорит. — Держи карман шире: с фронта никого не высылают — куда уж страшнее! И тысячи наших воевали до конца войны. И, как минимум, один восемнадцатилетний парень, Хан-Паша Нурадилов, защитник Сталинграда, за свои подвиги занесен на скрижали Славы…»
— Так, возвышенно, и сказал: «на скрижали Славы»?
— Так и сказал.
— А ты ему что на это сказал?
— Спасибо, сказал, за науку…
Последние слова Виктор протянул уже сквозь сон и храп. Блаженное племя! — засыпающих, ныряющих солдатиком. Раз — и на матрас.
Интересный, однако, разговорец затеялся у них там, за столом.
Укрыв храпящего дружбана простынею, Сергей направился к себе. И вдруг в окно, при полной луне, увидал нечаянно, мимоходом, покачивающуюся на реке давешнюю странную яхту. С мускатными приспущенными парусами и неяркими мускатными огнями по периметру. И музыка, показалось, добрезжила. Что за летучий голландец? Если яхта и плыла — то вместе с их гостевым домиком. Дрейфовала совместным печальным дрейфом.
И черное пятно лоснилось на флаге, как только что пролитая дымящаяся человеческая кровь.
Что за аттракцион?
Со странно колотящимся сердцем умостился Сергей на свою кровать и тоже поджал ноги к подбородку.
— А мы-то с тобою кто, бедные или богатые? — спросил скорее сам себя, нежели Виктора.
И с другой кровати неожиданно, сквозь храп, но вполне отчетливо раздалось:
— Богатые… Духом.
Ну-ну — чем бы дитя ни тешилось…
* * *
Сад кипел, пульсировал и властно притягивал к себе. Не вкрадчиво, как притягивает красота, а именно властно, требовательно: пчела планирует на цветок, влекомая ведь не одним лишь чувством прекрасного. И сам он был совершенно диковинным. Листья на плодовых деревьях размером с человеческую ладонь. Хлорофиллом заряженные ладошки — трепещут в неистово счастливом своем, безмолвном рукоплескании. И плоды в их солнечной мгле светятся мягкими золотыми шарами величиной в детскую голову. Свет их тоже пульсирует, не изливается, не лучится покойно и ровно, а бьет с призывными, властными междометиями маяка. Прямо по плодовым деревьям ползут гигантские лианы, неся на скрученных стеблях резные пагоды листьев размером, сочностью и формой напоминающие листья тыквы. Николай Гоголь, по легенде, однажды так определил границы фантастического: мол, можно представить яблоню с золотыми яблочками, но нельзя рисовать яблоки на вербе. Похоже, здешние садовники опровергают самого Гоголя. То, что бархатисто светится сквозь яблоневую трепещущую листву и зовет тебя не только этим манящим заветным светом, но еще и алкогольным приворотом дурман-аромата, — не яблоки. Иллюминаторы самых тайных твоих грёз! И колдовские цветы, которыми там и сям, как уже приготовленная, на брачном ложе, невеста, тоже убран сад: то ли яблони, одновременно с плодоношеньем, цветут этими жадно разинутыми нежно-розовыми гортанями с ядовитым угольком поднёбного язычка на дне, то ли лапающие их лианы.
Сад гудит счастьем. Рокочет и трепещет им. Его, как спелый плод, будто бы чуть-чуть сдавили чьи-то пальцы, и счастье прыщет, сладко обливая их. И чадит — чудесным запахом сквозь снега прорастающей весны. Во весь горизонт встал он на небосводе, и ты, как голодная пчела, как случайная птица, весь уже во власти этого короткого стремительного пути — туда. Ты встал уже на этот санный сверкающий след — запаха, света, мечты. Сладкая шелковичная нить, искрясь, уже натянулась между ним и тобой — направляющая твоего предстоящего короткого полета.
Только набрать воздуха.
Или наоборот: выдохнуть в последний раз.
Но каган умеет читать сны — даже во сне.
— Мне рано туда, — говорит он сам себе, спящему.
Потому что каган сразу понял, что за волшебный сад разверзся, зацвел навзрыд пред ним на небесах. На земле, даже в Итиле или Семендере, и даже в самой роскошной оранжерее такой не вырастить.
— Мне рано туда…
И пытается ставшую пудовой правую руку оторвать от собственной груди.
Крест послать?
Или перекреститься?
Но он и жестов-то этих толком не знает. И верит только в судьбу — и Хазарский, и Киевский теологические диспуты еще далеко впереди.
И все-таки рука его правая, пудовая, приподнялась. И каган проснулся. Он спал полулёжа в откинутом кресле с удобной скамеечкой для ног. Кресло стояло на носу его флагманского корабля. Слабый встречный ветерок овевал лицо, руки сперва покоились на широких, ковром, как и всё кресло, застланных подлокотниках, но правая потом почему-то соскользнула, заломилась неловко — от этого каган и проснулся. Лицо его было в слезах — он сам этому изумился. За его спиной застыл истуканом верный страж.
Неспешно плыла навстречу Волга. Потихонечку расширявшаяся и расширявшаяся и, как под невидимым костяным гребешком, расплетавшаяся на всё большее количество шелковых прядей.
Обложившие её леса, за которыми угадывались великие степи, замерев, с удивлением вглядывались в собственные текучие отражения. А может, в Волге как раз и отражались небесные кущи, только что привидевшиеся кагану? Раскрыв глаза, он первым делом невольно взглянул на небо: пусто! Лишь несколько облаков сосредоточенно ведут свою нескончаемую шахматную партию. Зато внизу, в Волге, он на миг всё же успевает застать обрывок своего причудливого виденья. Встряхнувшись, всматривается внимательнее. Да нет же, — это отраженья дремучих приречных дебрей на мгновение приняли облик, навязанный им его же, кагана, затуманенном взором. Вполне возможно, что и сад тот божественный порождён не самим сновиденьем, а всего лишь слезою, нечаянно выкатившейся у него и повисшей на кончиках ресниц — слёзы, помнил каган из времён, когда еще был способен плакать, меняют внутренний взор человека и даже ход мыслей его — меняют. То, что не видно сухим глазам, легко дается влажным: видимо, потому, что в любой слезе, радости или горя, всегда присутствует и микроскопический кристалл соли.
Таким вот неспешным ходом, с остановками и роздыхом, к осени и прибудет в Итиль.
Здесь, в кресле, он давно. Досыпать не хотелось, вот и поднялся сюда. Как ее звали, вчерашнюю? Когда писала выгнутым пальцем с накладным перламутровым ногтем на заслезившемся иллюминаторном стекле, все время выходило что-то, связанное с «мамой…» При этом священном слове у него лично не дрожит ничто — матери своей не знал никогда. Нет, прислушался, не дрожит.
Не так уж много женских имен с корнем «мама», что само по себе даже удивительно. Можно и вычислить. Потом, на досуге… Мама и рай — тоже, можно сказать, однокоренные слова.
— Мне туда рано, — повторил каган и поднялся.
Сон разбередил его. Каган покинул покойное кресло под дорогим ворсистым ковром и тяжело ходил взад-вперед, сопровождаемый, как маятник тиканьем, особо доверенным стражником.
Что будет с ним — об этом он действительно знал: до сорок пятого года царствования времени не так и много.
Что будет с его страною?
Клей, рыба, мёд, несметные овечьи отары… Но все это требует трудов, и трудов, и трудов. Единственное же, что приносит чистый, причем громадный доход, чистоган, не требуя каторжных усилий — это данное самим Всевышним местоположение страны. В самом средостении, в паху двух и даже более миров. На перекрестке самых главных дорог современного мира. И сухопутных, и водных. Вздумай Он действительно поселить их в раю, и то лучше б у Него не вышло. Хазарская река Волга, Хазарское море Каспий, Великий шёлковый путь, второе название которого — Хазарская дорога… Три величайшие природные и человеческие коммуникации наречены именем его народа.
Поэтому вполне логично, что если и есть рай на Земле, то он тоже должен зваться Хазарией!
А ежели есть, бывают богоизбранные народы, то это, конечно же, — хазары.
Таможенные сборы! — самая золотая и самая же нетрудоёмкая статья доходов Хазарской империи. Куда б ни держал любой чужестранный торгаш свой караванный или водный путь, хазарских бдительных постов не миновать.
Золотым дождем обозначил Всевышний границы Хазарии и золотым ливнем — её столицу, в которую впадают все три великих пути.
Но в этом же и первопричина ее уязвимости. Зависть страшнее ненависти, потому что именно первая порождает вторую, а не наоборот. И смотреть приходится в оба. Ибо всё больше дерзающих не давать, а брать. Брать, взимать самим. Нахрапом взломать Хазарию. Не понимая, в силу собственной своей примитивности, божественного упованья Хазарии, сместить ее с золотого трона судьбы и взгромоздить на него собственные чугунные задницы. Или стереть ее с лица земли, рассеять ее народы, дабы — какая простодушная близорукость! — убрать препятствия со всех трех дорог цивилизации, сделав её взаимопроникновение совершенно свободным и справедливым.
Благо и беда местоположения — пах даже у человека, у мужчины в особенности, самое уязвимое место. И у кагана нет более важной заботы, чем армия и флот — сила даже силу ломит.
Но долго ли удастся противостоять волчьим стаям? — вон, даже из самой Скандинавии уже тянутся.
Каган вновь опустился в кресло, стражник подсунул ему под ноги обитую войлоком скамеечку. По дощатой палубе гулко везли передвижной походный столик на деревянных колесиках с завтраком и напитками.
Каган вновь подставил лицо встречному волжскому ветерку и закрыл набрякшие веки, сквозь которые пока еще слабыми, но все более и более выспевающими кровоподтеками просачивалось вздымавшееся над империей — высшим дозором — солнце.
Как будет.
Род пресечётся, и дело твоё пресечётся тоже.
Но путь, который изберут со временем новые правители, а точнее узурпаторы Хазарии, бесплодным тоже назвать нельзя.
По большому счету у них и выбора-то особого не было. Им просто нельзя было выбрать религию ни одного из сопредельных народов. Выбери правители ислам, они стали бы врагами Византии. Выбери христианство — стали бы врагами подпиравшего их с трех сторон мусульманского мира.
И они выбрали религию народа, с которым границ у Хазарии не было. Потому что границ у этого народа к тому времени вообще ни с кем не было.
Да, выбирали веру — выбрали судьбу.
Есть народы, чье имя происходит от исповедуемой ими религии. Пример — караимы, бывшие когда-то просто тюрками.
А, не будучи в подавляющем своем большинстве евреями, тысячи и тысячи хазар, принявших под давлением обстоятельств или облечённых властью, точнее, перехвативших власть лоббистов иудаизм, сами стали со временем промежуточными прародителями евреев — по меньшей мере в половине света, даже если светом считать одну Европу.
Прародителями собственных «отцов».
Из собственно Палестины в Европу пробился ручеёк: сефарды, одним из которых был и гишпанский иудей царедворец Хасдай, известный адресат известного хазарского кагана. Венцом этой ветви, возможно, явился наш блистательный соотечественник Борис Пастернак.
Сегодняшние же евреи большей части Европы и Азии — не кто иные, как потомки, рассеянные, хазар. Ни одна Палестина не настачилась бы их в таком количестве на Восточную Европу и Среднюю Азию: только светлой памяти Хазария.
Предкам абсолютно все равно, признают ли их таковыми, своими предками, их законные потомки: открещивались и от более именитых прародителей.
Но ашкенази, похоже, и впрямь — целый народ, происходящий из выкрестов.
Выкресты Рая — это и есть потомственные хазары.
А стоило ли креститься, чтоб потом от тебя открещивались?
Не нам судить.
Выходит, в исторической перспективе узурпаторы все же перехитрили судьбу? Ведь если живы, даже после падения и рассеяния от Ферганы до Лондона, пусть под чужим именем, хазары, значит, жива, пусть под чужими именами (в т. ч. и «Россия»?) и Хазария?
…Каган и хотел бы вновь — издали, издали — увидать рай, да солнце печёт все больше и больше. И он, выбрав изо всего стола крынку кумыса, возвращается в свои апартаменты. Ему еще многое сегодня предстоит додумать.
Велит принести почту и надолго углубляется в разбор деловых бумаг. Рядом с письменным столом его стоит изысканный, палисандрового дерева, резной походный сундучок, с которым каган никогда не расстается. В одном из боковых отсеков его имеется заподлицо закамуфлированная кнопка, о существовании которой, кроме кагана, не знает никто на свете. Нажмёшь на неё, и из задней стенки сама собой бесшумно выдвигается шкатулка.
В ней живет чёрная вдова. Каган кормит ее иногда со своего стола и даже ведет с нею длительные опасные разговоры. Черную вдову держит при себе, взаперти, с молодых лет — не хочет, чтоб его душили, когда бы то ни было, волосатыми жирными пальцами. Свою судьбу он решит сам, не дожидаясь последней ночи. Утром ли, днем, ночью в канун последней ночи — все равно: сам! Вдовы тоже стареют. Пока состарилась его старшая жена, хатун, состарился с десяток черных вдов: самый доверенный стражник время от времени меняет их.
Вдов ему меняют так же, как и юных наложниц.
Придет время, жена тоже станет чёрной вдовой. Натуральной.
Сегодня с самого утра ему хотелось повидаться-позабавиться с чернявенькой крестоносицей. Но, знаток вещих снов, сейчас он всецело ушёл в дела. Вызвал вестового и стрекулиста с папирусом и грифелем. Вестовому, в обход Первого бека, велел передать в Итиль команду: опечатать его личный архив и сменить при нём охрану. Стрекулисту, заморышу-писарчуку, велел расположиться поудобнее со своею доской на ковре (каган писал за столом, писарь же трудился по-старинке, скрестив по-турецки тонкие кривенькие ноги) и записывать его, кагана, задиктовку.
Встал, мягко прохаживаясь от борта к борту, медленно и твердо заговорил:
Об управлении Империей… Глава первая… «Искусство жить с соседями»…
Юный, молчаливый, грамотный украдкой, но цепко-цепко взглянул на повелителя и истово склонился над доскою с папирусом: он даже слушал теперь не только ушами, но и лопатками.
Не успел с утра. Не побеседовал с вдовою. Не поиграл со смертью. А напрасно. Если б вовремя заглянул в палисандровую шкатулку, то наверняка заметил бы, что она сегодня почему-то пуста.
Черная вдова вышла из заточения.
* * *
Бешеная автоматная стрельба. Гортанные злобные выкрики, перемежающиеся отборным русским матом — из одних и тех же, похоже, глоток. Зловещие всполохи, сопровождающие как выстрелы, так и мат, что и звучат практически одновременно. Они озаряют и окно, и комнату, и в неё вползает удушливый угарный газ. Ещё и горим! — пронеслось в мозгу у Сергея. Мечется по комнате в поисках штанов и рубахи. Врубает, нащупав выключатель, свет, но тут же сам и выключает его: не привлекать лишнее внимание. Но в долю секунды, пока горело электричество и дрожала очередная трассирующая зарница, заметил, что кровать напротив пуста. Виктор! Где же Виктор? Когда и куда исчез?
Но додумать ему не удается.
Грохот приклада в дверь, и она разлетается вдребезги.
— Выходи, твою мать!
Его, полуодетого, хватают за шкирку, выталкивают на улицу, в ночь, потом, едва не запахавшего носом, вновь подхватывают за шкирман и куда-то ведут.
— Что происходит? — спрашивает Сергей и в следующее же мгновенье сам понимает нелепость и безответность своего вопроса.
Но ответ все же последовал:
— Гы-гы-гы! — загоготали вокруг поросячьи головы.
Всё ясно. Приехали-приплыли. Отдых на свежем воздухе в низовьях Волги.
Рай на земле, как говорит один знакомый персонаж. Выходит, не только на земле. Где же Виктор? Где Муса? Наверняка всё это как-то связано с Мусою…
Их всех сталкивают к фонтану. Фонари подсветки, как и вообще все фонари на огороженной территории, расстреляны. Нападающие в масках из черных капроновых женских чулков. Щетина проросла сквозь капроновые чулки, как будто это и не чулки уже, а другая часть интимного женского туалета. Сталкивают друг к другу вплотную, как на плацу. Ведут Мусу. Его тоже пытаются ухватить за шиворот, но он яростно рявкает:
— Руки!
И передергивает могучими плечами.
Вцепившаяся в него троица на какое-то время повинуется этому властному возгласу. Один из троих срывает зло с помощью автомата: задирает его одной рукою в небо и дает туда длинную- длинную трассирующую очередь. Точка-тире, точка-тире… Привет марсианам.
Последним волокут Виктора, причем явно откуда-то со стороны пищеблока. Сергею сразу вспоминается замечание насчет полезности сна с поварихою: неспроста, зараза, спрашивал, только когда же улизнул? — вроде спал, как убитый…
Отставной погранец Витя тоже делает как бы борцовский, матом усиленный выпад, но ему просто-напросто заламывают руки.
И вот они — кучкою, все друг подле друга, как истерзанные и приготовленные к расстрелу партизаны. Нет только Наджиба, но его, похоже, никто и не ищет.
— Подонки! С кем вы связались?! Я уже вызвал омон, через десять минут они будут здесь! Разбегайтесь подобру-поздорову! — кричит, срывая голос, Антон Петрович.
Хохот ему ответом.
— Ребята, давайте жить дружно, — неожиданно спокойно и веско говорит, делая шаг вперед, Муса. — Вам наверняка нужен я. Возьмите — потом разберемся. Всё, что было у меня с собою наличных, вы уже скоммуниздили…
— Как это — возьмите? — перебивает его Воронин. — Нечего брать, давайте, как положено, вступим в переговоры. Ваши условия?
— Действительно, чего там брать по одному, — зевает не то с недосыпу, не то от волнения Виктор. — Гребите всех. Только дайте сыну позвонить.
Их никто не слушает.
По лицам бродит фонарь. Вдоль их нестройной шеренги, всматриваясь в каждого и огибая Мусу, как скальный утёс, медленно-медленно идет один, без маски, чёрный и жесткий — Сергей узнает в полутьме парня с бритыми висками, сопровождавшего его в номер и обратно, и поражается тому, как моментально люди из слуг преображаются в хозяев. Прямо как в семнадцатом.
Голова раскалывается. Правой рукою он пробует украдкой, пока фонарь не дошел до него, помолиться: рано мне туда, рано… Но рука — чугунная.
Парень с двумя автоматчиками за спиною доходит до Сергея и, внимательно заглядывая ему в глаза, дотрагивается до его плеча:
— Этот.
Друзья, чувствуется, ошеломлены не меньше Сергея.
— Куда?! — вопит за спиною Виктор. — Мы — все! Мы — вместе!..
— Назад!! — орет кто-то из бандитов, которых навскидку не меньше двух десятков. — Назад!
Сзади у Сергея вновь раздается длинная автоматная очередь. Судя по каленым высверкам над головою, опять покамест в направлении марсиан: сигнал от братьев по разуму.
Сергей, оборачиваясь, делает друзьям, тесно окруженным, задавленным бандитами, общий печальный прощальный жест.
Не поминайте лихом.
Его ведут на причал. Никто не держит его ни за воротник, ни за руки. Его лишь плотно обступают. Хозяин-слуга легко ступает впереди и иногда, как немой, делает какие-то непонятные жесты конвоирам, которые слушаются его беспрекословно. Чтобы Сергей не разобрал, о чем идет речь? Но они могли бы спокойно изъясняться и на своем гортанном языке, которого Сергей все равно не понимает. Как и их жестов. Или какие-то слова, как в стершейся, выцветшей рукописи, все же разбирает?
Пристрелят на берегу, возле уреза? Чтоб спутники его не видали?
«Мама… мамочка… мамура… рано мне к тебе…» — шепчет он про себя в такт последним своим шагам. Точка-тире, точка-тире…
Спускаются к самой воде, чуть слышно плещущей что-то своё и тоже похожее на предрассветную молитву. Но и здесь его не останавливают и лицом к Востоку не разворачивают. Сергей вспоминает Вахида; случаются, случаются же, черт возьми, чудеса! Так почему же не с ним?
Парень подает ему руку и ведет за собой на дощатый, прогибающийся — чего днем не было — под их шагами причал. Проходят несколько метров: там, сбоку, их ждет на своем глиссере Наджиб. Лицо его в катере опущено, скрыто темнотой, но уже по посадке головы Сергей догадывается: Наджиб.
Час от часу не легче.
Наджиб тоже молча подаёт руку, и они с провожатым спрыгивают в катер. Сергей обращает внимание: возле штурвала у Наджиба появился автомат. Конвоиры за ними не следуют, остаются на причале.
Глиссер взмыкивает, дрожит, как племенной бугай, готовясь к рывку. Автоматные сигнальные очереди раздаются над причалом. И только тут Сергей соображает, куда его везут: прямо по курсу, на речном рейде слабо светится, мерцает странными, спитыми окнами — иллюминаторами давешняя яхта с бесшумно поднимающимися над нею, видимо, по команде с причала громадными парусами.
На подходе к ней Наджиб выключает мотор, и к ее просмоленному, гробовому борту они приближаются, скользят уже совершенно бесшумно. Словно с большой высоты планируют. Наджиб, не отрываясь, вглядывается вперед. Парень сидит на корме и потихоньку насвистывает что-то меланхолическое. Предутренние звёзды, отражаясь, с мягким щелочным шипеньем гаснут в волжской воде.
Голова гудит. Сергей, закинув руки назад, охватывает затылок горячими ладонями.
— Что происходит?
Ему никто не отвечает. За спиною свист, тихий и невнятный. Впереди — жесткая, курчавая проседь Наджиба и воронёный, черно лоснящийся, словно кровью смазанный, ствол автомата под правой наджибовой рукою.
Что происходит?
Они мягко утыкаются в древний, траченный, словно эксгумированная домовина, борт, и кто-то невидимый осторожно бросает им сверху веревочную лестницу.
Лестницу… Ну да, вот оно, последнее гоголевское слово:
— Лестницу! Давай скорее лестницу! — кричал он, задыхаясь, в доме у графа Александра Толстого.
Лестница скатывается прямо к Серегиным ногам. И он задирает голову вверх, глядит на химически мерцающие, словно за ними телевизор без звука смотрят, двояковыгнутые иллюминаторы. На вздымающиеся, готовые полной грудью вдохнуть, обесцвеченные луною паруса. И еще дальше, откуда слабо льётся мелодия, которую, оказывается, и насвистывает, копируя, его провожатый: лестницу, похоже, и впрямь спускают не с борта, а еще выше, выше самой грот-мачты.
Мама, мамочка, Мамура…
* * *
— Скорую! Скорую! — кричит по мобильнику Виктор, прыгая в одних трусах посреди комнаты. — У нас чэ-пэ! Солнечный удар!.. Скорая! — терзает мобилу, потихонечку обкладывая неживую, неотзывчивую на мольбы пластмассу свистящим доверительным матом.
И, спустя некоторое время, две машины начинают разбег. Одна, джип «лендкрузер» с волгоградскими крутыми номерами, на сумасшедшей скорости вылетает из кованых, восточного орнамента, ворот, которые едва успевает распахнуть перед его нетерпеливым широким носом заспанный цыганистый парень с бритыми висками. И другая, невыразимо отечественный «уазик» зеленого цвета с красными крестами на боках, уазик-буханка, как его еще называют, и впрямь похожий на кирпичик чёрствого ржаного хлеба. С заспанным, не очень тверёзым седоком, за которым пришлось бегать на соседнюю улицу, и с девочкой фельдшерицей со вспухшими со сна губами — с трудом заведясь, прочихавшись, поскольку бензин, разумеется, лукойловский, не единожды женатый, он похмельной ощупью вываливается с казенного дворика, огороженного воздухом да полуразрушенной саманной стеночкой, дувалом, в прогал, олицетворяющий, по всей видимости, ворота. На сонную сельскую улицу далекого нерусского райцентра. И, задумчиво шаря бледными фарами, размышляет над дальнейшим маршрутом следования. А чего, спрашивается, размышлять, когда дорога в селе вообще единственная: одним концом упирается, где-то в конце света, в Астрахань, а другим — и тоже в конце света, противоположном — в Волгоград. Всё остальное — чеши по степям, как бог на душу положит. Тут не карта нужна, не атлас автомобильных дорог, а исключительно компас. Как в море-окияне.
— Твою мать! — с проникновенным наслаждением произносит раскосый калмык-спаситель. — Никакого кайфа! Держись, Маша, интим начинается!
И давит до полика:
— Больше газу — меньше ям!
И льняная Маша держится, вцепившись обеими тонюсенькими ручками практикантки в металлический поручень перед собой. И брезентовый саквояжик, отдаленно напоминающий те, с которыми вываливаются, вытряхиваются из «кукурузника» начинаюшие парашютисты, только у них он не спереди, а сзади, нещадно болтается на лямках у неё на животе. Вот в нем, тощем, как и девочкин живот, так же, как и в воздухе, всё спасение и заключается.
Держись, Маша! А Маша ни жива, ни мертва не от колдобин и степных буераков — потому как «махнём напрямки и насикось» — а от самой предстоящей встречи, первой в её практикантской жизни: в этой глуши люди, похоже, не болеют, а помирают сразу и беспрепятственно.
Мчатся — «кирпичик» тоже разгоняется, как утюговатый болид, и здоровенный калмык-спаситель аж досрочно трезвеет от взятых немыслимых скоростей.
— Кэмэл-трофи! — ласково объясняет, перекрикивая грохот и скашивая глаза не в разные, а в одну сторону, в свободном парении находящейся спутнице.
И «лендкрузер» — с побагровевшим, медвежьей хваткой вцепившимся в руль, облапившим его Антоном Петровичем впереди: губы закушены, глаза налиты кровью.
Где и когда они встретятся?
На каком таком свете: том или этом?
Кто кого? — он её или она его?
…Солнечный удар?
Просто черная вдова, давно облюбовавшая уютное, царственное местечко, вышла из заточения.
А там — кто же его знает? Там и соперницы есть, они же — наследные заступницы.
Жми, Вася! На том свете выспимся, если на этом не дадут.
Мама, мамочка, Мамура.
Цыганка гадала — за ручку брала…
* * *
В винодельной Прасковее, под Буденновском, в доморощенном сельском музее, среди разрозненных экспонатов, восходящих к располагавшимся на этих сиреневых прикумских холмах древним Маджарам и даже к самой Хазарии, повстречал совершенно удивительную реликвию. Кирпич. Уплощённый, с чёткими гранями, прекрасно обожжённый допотопный — кирпич. Из таких, наверное, первые церкви ладили. А на нём — наискосок — лёгкая стремительная вмятина. Летящий след босой детской стопы. С заметным углублением на месте пальцев: мальчик или девочка, забегавшись, увлекшись, нечаянно, в пылу, наступили на выложенный для просушки глиняный сырец. И, не остановившись, помчались дальше, друг за дружкою. Или какая-то беда, пожар, вражеское вторжение гнали их, не разбирая дороги? А может, то была просто метка на счастье, оставленная юным наследником или наследницей, бережно сохраненная, обожжённая затем, как царственный автограф, и уложенная впоследствии неведомыми строителями, тоже опаленными зноем сухопарыми зодчими, в основание чьего-то незапамятного дома.
Как бы там ни было, а я теперь доподлинно знаю, какого размера чудесной ножкой топчет нас, стремительным босым рикошетом, это вечно юное и насмешливое, всеобъемлющее ураганное божество: Время.
Тридцать второй — тридцать четвёртый.
Хожу, вглядываясь теперь во всех босоногих и юных. Он? Она? Оно?
Гонка продолжается.
2000–2006 гг.
Назад: Глава VI. МАМУРА
На главную: Предисловие