Книга: Старая крепость (роман). Книга третья "Город у моря"
Назад: ИЩЕМ КАРТУ
Дальше: ПИСЬМА ДРУЗЬЯМ
СОСЕДКА БУДИТ МЕНЯ
Приятели еще не вернулись: их цехи кончали работу позже литейного. Хотя, не в пример вчерашнему дню, стояла жара, в полутемной кухоньке Агнии Трофимовны было на редкость прохладно, да и в нашей комнатушке, несмотря на близость крыши, дышалось легче, чем на открытом воздухе.
Берег моря был заполнен людьми. Одни купались: поблескивали на солнце их мокрые тела. Другие лежали без движения на песке.
Поглядел я на эту картину из окна, и захотелось двинуть туда, на солнышко, погреться до прихода Маремухи и Бобыря, да и помыться заодно после работы.
Долго не раздумывая, я снял рабочие ботинки, завернул в полотенце чистую одежду, надел кепку, предупредив хозяйку, где меня искать в случае чего, выбежал босиком во двор.
Всего несколько минут побыл я в тени дома, а сейчас солнышко снова ударило мне в глаза, и я шел до калитки жмурясь. Высокие мальвы расплывались перед глазами в дрожащем от зноя воздухе.
Солнце накалило бетонный парапет набережной. Пробежав по нему несколько шагов, я должен был спрыгнуть на мягкий песок. Однако ступать по нему оказалось еще труднее: верхний слой песка раскалился до того, что казалось, его нарочно поджарили на огромной сковородке.
Хотелось поскорее добраться до воды.
Вокруг лежали, грелись на солнце купальщики. Я нисколько им не завидовал.
После первого дня работы на заводе, усталый, измученный, но гордый, я считал их бездельниками. «Пока они тут переворачивались бесцельно с боку на бок, закрывая носы клочками папиросной бумаги и листьями сирени, мы там, в цехе, таскали тяжелые ковши с расплавленным чугуном», — думал я и чувствовал, что больше, чем кто-либо, имею сейчас право отдохнуть здесь.
У самой воды оказалась свободной низенькая скамейка. На одном конце ее лежала чья-то одежда, покрытая сложенным вдвое пикейным одеялом. По-видимому, хозяин вещей плавал среди тех купальщиков, которые плескались далеко в море, за красными поплавками. Я не спеша разделся и, бросив рабочую одежду под скамейку, шагнул к воде.
Море еще ночью выгладило полоску песка вблизи берега. Уходящий в воду песчаный скат был ровный и твердый, точно нарочно накатанный для удобства купальщиков. По нему скользили маленькие, чуть заметные чистые волны — последние вздохи измученного штормами Азовского моря.
Я поплавал немного у берега, а потом, выйдя на песок, упал на него мокрый. И вот лишь здесь, лежа с закрытыми глазами на мягком песке и слушая тихое шуршанье прибоя, я понял, как устал за целый день. И хотя я лежал без движения, давая полный отдых уставшему телу, мне все казалось, что мои пальцы крепко сжимают набойку и она то и дело подскакивает передо мной, врезаясь в черный формовочный и еще дымящийся с прошлой ночи песок. «Скорее, скорее! Нажимай! Нельзя отставать от Науменко!» — мысленно шептал я себе. Лопата взлетала у меня в руках. Потом где-то вдали зазвонила рында. «Наш черед, — послышался словно с неба строгий голос Науменко. — Бросай все. Пошли за чугуном!»
…Мы идем по сухому песку главного прохода. Впереди, протянув назад сильные руки, шагает Науменко. Морщинистая шея его покраснела от натуги. Кисти рук соединены на кольце держака. Его рубашка пропиталась потом и кое-где прилипла к спине. А я, ведомый учителем, плетусь позади, поддерживая рукоятки рогача, и чувствую, что вот-вот упаду. Силы покидают меня. Едва передвигаю ногами и гляжу в одну точку: на пятно вязкого коричневого шлака, что, как пенка в топленом молоке, тихонько покачиваясь, плавает в ковше, окруженное венчиком ослепительно яркого, режущего глаза жидкого чугуна.
Идти все труднее и труднее. Далеко еще до машинок. Поскорее бы добраться до них. Поскорее бы поставить тяжелый ковш на сухой песок, передохнуть, вытереть рукавом соленый пот, затекающий с разгоряченного лба в уголки глаз, хоть на минуту почувствовать облегчение в ладонях!
«Поскорее! Поскорее!» — думаю я, но чувствую, что ноги проваливаются куда-то… Яма! Яма, вырытая посреди плаца, куда литейщики сливают остатки чугуна…
Силюсь задержаться, но дядя Вася быстро шагает вперед, и я, увлекая его, падаю на спину. Ковш выскакивает из кольца держака. Чугун хлынул мне на грудь, затем на ноги. Горячо-горячо стало…
Теряя сознание, уже на пороге смерти, я тяжело застонал и в ту же самую минуту услышал над собой смех и почувствовал какое-то холодное прикосновение…
…На грудь мне капают тяжелые капли холодной воды. Они мигом разгоняют остатки короткого и страшного сна.
Еще не открывая глаз, пытаюсь припомнить, где нахожусь. Я совсем позабыл, что заснул на берегу. Спросонья мне показалось, что я заснул в ожидании друзей в нашем мезонине и, застав меня спящим, Бобырь, следуя глупой всегдашней привычке, льет мне на грудь из дорожного чайника холодную воду.
— Брось, ну что за мальчишеские штучки! — бурчу я недовольно и, продирая глаза, вижу над собой совсем не Бобыря.
Заслоняя солнце, вся блестящая от воды, держа в руках мое полотенце, стоит наша соседка.
— Под солнцем спать не рекомендуется, особенно белокожим. Обгорите! — говорит она.
Мгновенно вскакиваю на ноги и спросонья шатаюсь. Люди, лежащие вокруг, кажутся мне какими-то призраками, будто я смотрю на них сквозь закопченное стекло.
— Хотела прикрыть вас полотенцем, да нечаянно капнула. Простите.
— Ничего, спасибо! — бормочу я и, пристыженный, что меня застала спящим улыбающаяся девушка, увязая в песке, бросаюсь к морю.
Рассекая тугую воду, зарываюсь в нее и плыву в открытое море. Скоро, однако, пальцы мои касаются дна. Вдали от берега песок волнистый и плотный, без единого камешка. Вода кажется очень холодной, и я, точно обожженный, поворачиваю к берегу.
Соседка сидит на скамейке. Теперь я могу свободно заговорить с девушкой, раз она первая затронула меня, но что сказать ей — никак не могу придумать. Спросить разве, где она научилась так хорошо плавать? Нет, глупо!.. Все подходящие слова вылетели из головы, и даже кашлянуть трудно. Но, облегчая мое положение, девушка первая обратилась ко мне:
— И так сразу бросаться в море не стоит. Вода еще холодная, а вы перегрелись. Легкие простудите.
— Ну, чепуха! — протянул я.
— Совсем не чепуха. Я давно возле моря живу, а вы новичок и многого еще не знаете. Извольте слушать старших!
— Почему вы думаете, что я новичок?
— Не думаю, а знаю!
— Странно, откуда вы знаете? — И, пользуясь случаем затянуть разговор, отвечаю: — А вот и ничего подобного. Я здешний и живу на Матросской слободке.
— Нечего меня обманывать. Я решительно все знаю…
— Что вы знаете, что?
— Знаю, что вы приезжий.
— Кто это выдумал?
— Сорока на хвосте принесла. Птичка такая.
— Здесь сорок нет. Сороки в лесу водятся, а здесь море и степь.
— Ну, не сорока, так баклан… Ну ладно, не стоит больше интриговать. Я ваша соседка, и даже вчера вечером видела, как вы у колодца зубы чистили. Ну, а кроме того, Агния Трофимовна рассказала нам, что у нее новые квартиранты, очень симпатичные молодые люди.
— Вы и с Агнией Трофимовной знакомы? — выпалил я первое, что пришло на ум.
— Еще бы! Мы третий год берем у нее козье молоко. У папы легкие пошаливают, и врачи рекомендовали ему козье молоко пить.
— Козье молоко здорово помогает, — согласился я. — С нами живет сейчас один товарищ, некто Бобырь, так у него самая настоящая чахотка была. Мамаша заставляла его насильно пить, по рецепту врача, козье молоко и растопленное собачье сало…
— Вылечился?
— Здоров как конь. Только во сне скрипит еще иногда зубами.
Девушка засмеялась и, немного помолчав, спросила:
— Вы сюда… зачем приехали?
— На работу.
— Куда именно?
— На Первомайский завод имени лейтенанта Шмидта поступили.
— А что вы там делаете, если не секрет?
— В цехах работаем. Я, например, в литейном, а товарищи мои в других: Маремуха — в столярном, а Бобырь…
— Техниками, да? — перебила меня девушка.
— Зачем техниками? Рабочими!
— Рабочими?.. Простыми рабочими?
— Ну да!.. Рабочими. А что ж здесь удивительного?
— Да нет, я просто так спросила… А потом, должно быть, в институт пойдете? Вам, наверное, стажа рабочего для поступления не хватает?
Сейчас для меня было уже совершенно ясно, что девушка считала нас какими-нибудь спекулянтскими сынками. «Наверное, — думала она, — приехали в чужой город рабочий стаж нагонять». Следовало обидеться уже на одно такое предположение, но я, не подавая виду, сказал солидно:
— Поработаем — увидим. Рано еще загадывать, что будет завтра!
— В литейном небось вам труднее всех приходится?
— Почему? Обычная работа!
— Самый вредный цех на заводе. Там всегда такой дым едкий. Серой пахнет. А потолки низкие-низкие.
— Крышу скоро подымут. Уже столбы наружу выведены.
— Ах, когда это будет! Мне вас очень жаль.
— Откуда вы все знаете про литейную?
— Меня папа водил туда однажды. Показывал, как чугун льют. Я волосы шампунем едва отмыла от той пыли.
— Как вас пустили, странно. На завод посторонних не пускают.
— Пустили, — сказала девушка беспечно. — К тому же я не посторонняя: мой папа на заводе главным инженером служит. Вы должны были его видеть.
— Еще не видел, — сознался я. — Мы же только первый день отработали.
— Да, я забыла… А вас как зовут?
— Василь.
— Ну, тогда давайте познакомимся. Меня зовут Анжелика. А сокращенно, для знакомых, — Лика.
— Хорошо, — буркнул я.
— Какой вы все-таки странный! — Девушка засмеялась. — Настоящий бука! Что «хорошо»? Знакомясь, люди должны друг другу руку подать. Ну?
— Почему я бука? Раз мы с вами говорим, то мы уже знакомы, по-моему. Но если вы хотите, то отчего ж! — И я неловко протянул Лике мокрую еще руку.
Она пожала ее своими тонкими пальцами, и как раз в эту минуту у меня за спиной послышался негодующий голос Бобыря:
— Ну тебя, Василь! Мы гукали тебя, гукали, Маремуха аж на крышу вылез, а ты…
Словно ошпаренный, я выдернул руку из ладошки Анжелики.
Запыхавшись от бега, перед нами стояли Бобырь и Петрусь. Саша в изумлении переводил взгляд то на меня, то на Лику.
А соседка, нисколько не смутясь, разглядывала моих приятелей.
— Пошли обедать! — бросил Маремуха.
— Это и есть ваши друзья, да, Василь? — спросила Анжелика. — Почему же вы нас не знакомите?
— Познакомьтесь, хлопцы, — смутившись уже вконец, промямлил я. — Это… это…
Как бы желая выручить меня, соседка поднялась со скамейки и, шагнув навстречу друзьям, сказала:
— Анжелика!
Хлопцы тоже опешили. Петро с ходу пожал девушке правую руку, Бобырь — левую, и оба они назвались.
— Так вот, оказывается, кто из вас Бобырь! — сказала с любопытством Анжелика, в упор рассматривая присмиревшего Сашку. — Это, значит, вы по ночам зубами скрипите?
Сильнее и обиднее Сашку уколоть было нельзя. Он посмотрел на меня с негодованием: многое сказал его взгляд, полный презрения и обиды! Получилось так, что я насплетничал соседке о Бобыре, желая его осрамить, а себя возвысить. А у меня и в мыслях не было унижать товарища: просто вырвалось как-то случайно…
Разговор вчетвером явно не клеился, и мы оставили Анжелику на пляже, а сами ушли домой.
— Посмотри на этого… индуалиста! — споткнувшись опять на этом трудном слове, сказал Сашка. — Мы с тобой все горло оборвали, а он, оказывается, красавице лапки жмет под шум приазовской волны! А еще вчера возмущался, зачем я вызвался ее халат караулить… Ухажер тоже… Сердцестрадатель.
Сказать им разве, как случилось все? Не поверят! Сколько ни клянись и ни старайся — не поверят! И я решил помолчать.
НА ПРОГУЛКЕ
В самом центре города, около базара, высился квадрат прижавшихся друг к другу домов. На тротуарах под окнами этих домов каждый вечер гуляла молодежь. И хотя все четыре тротуара принадлежали разным улицам, бесцельное блуждание здесь называлось «прогулкой на проспекте». Гуляющие двигались под освещенными витринами магазинов, ну точь-в-точь как у нас на Почтовке! И как только мы слились с потоком гуляющих, я понял, что в каждом городе есть своя «Почтовка». Правда, вечером в этом приморском городе было куда теплее, чем у нас на родине, в Подолии. Загорелые гуляющие парни бродили по панели в белых легоньких апашках, в светлых брюках, в сандалиях на босу ногу.
Было очень душно, и Бобырь, который решил щегольнуть в своем костюме «елочка», быстро снял пиджак и понес его на руке.
Несколько раз мы останавливались у освещенного подъезда клуба водников. В клубе показывали комическую картину «Папиросница из Моссельпрома» с Юлией Солнцевой и Игорем Ильинским в главных ролях. Но всякий раз, отговаривая один другого, мы поворачивали обратно. Мы считали, что еще не вправе тратиться на кино.
Маремуха заработал сегодня три рубля сорок копеек, я — два девяносто пять, а Бобырь хотя и хвастался, что около пяти рублей, но по всему было видно, что он и сам толком не знает, сколько все же записали ему. Но даже и этих денег на руках у нас еще не было.
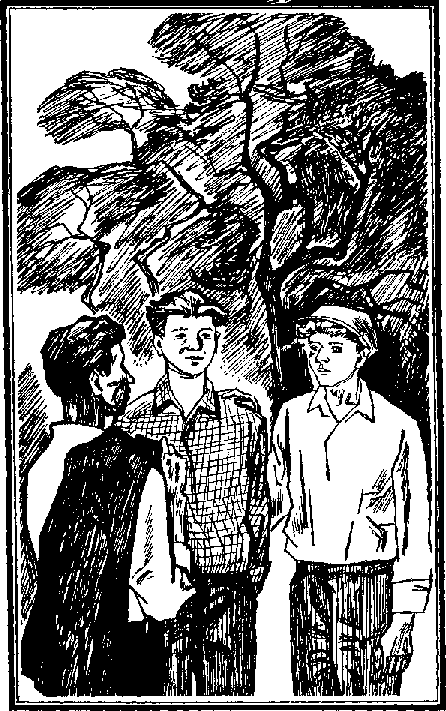
Правда, мы уже решились было купить самые дешевые билеты, но тут я подслушал разговор зрителей, что на будущей неделе эту же картину будут показывать на свежем воздухе, в городском саду. И сразу от сердца отлегло. Вот и прекрасно! Залезем на крышу и посмотрим ее бесплатно.
— Эй, молодые, сюда идите! — донесся к нам знакомый голос с бульварчика, что протянулся по другую сторону улицы, перед клубом водников.
Мы шагнули на мостовую и увидели извозчика Володю. Он сидел, покуривая, на скамеечке, в компании еще каких-то двух людей. Володя был в морском поношенном кителе и в широкополой соломенной шляпе. Когда мы подошли ближе, я увидел рядом с ним своих соседей по машинкам — литейщиков Луку Турунду и Гладышева.
— Подвиньтесь-ка! — приказал Володя своим собеседникам, и те освободили для нас место на скамеечке. — Сидайте, рассказывайте. Ну что, приняли вас на завод?
— Отстал ты, брат, от жизни, — отодвигаясь, бросил Лука. — С Василем мы, можно сказать, соседи по машинкам.
— А кто из вас зовется Василем? — спросил Володя.
Я ткнул себя пальцем в грудь.
— Других тоже приняли? — допытывался извозчик.
— А то как же! — сказал Маремуха таким тоном, будто и не могло быть иначе.
— Значит, у меня легкая рука, — обрадовался Володя. — Готовьте по сему случаю магарыч!
— Магарыч своим чередом, — вмешался Бобырь солидно, — а вот где вы пропадали вчера? Договорились ждать на вокзале, а сами исчезли неизвестно куда.
— Я до Мариуполя ездил, — сказал Володя, — с инженером одним. Вот как познакомил вас с тетушкой, так сразу и подался в Мариуполь.
— Разве туда поездом ехать нельзя? — удивился я.
— Можно, но неудобная пересадка в Волновахе. Считай, день поезда ждать. А этому инженеру срочно надо было в Мариуполь, вот и отмахали такой конец.
— А обратно порожняком? — спросил Маремуха.
— Мало-мало что не так, — сказал Володя, оживляясь. — Только покушал я на постоялом дворе, Султана покормил. «Ну, думаю, поплетемся теперь налегке». Вдруг откуда ни возьмись подходит какой-то чудак с чемоданчиком: «Не возьмете ли меня с собой туда?» — «Отчего ж, говорю, за двадцатку хоть на край света». Думал, торговаться будет, так нет: вынул деньги без всяких. «Давай только, — говорит, — поедем быстрее». А я что? За такие деньги можно ехать.
— В самом деле двадцатку дал? — заинтересовался Гладышев.
— Думаешь, шучу? Два червонца новеньких, вот они, милые. — И Володя нежно похлопал себя по нагрудному карману куртки. — Весело доехали. Песни всю дорогу пели.
— Доходная у тебя работа, Володя, — сказал Лука. — Деньги платят да еще песни подпевают!
— И не говори! — отшутился Володя. — У меня денег — как у лягушки перьев. В одном кармане смеркается, а в другом светает… А впрочем, шибко не завидуй. Это сегодня только так подвезло. Другой раз стоишь, стоишь перед тем вокзалом и думаешь — для смеха бы кто нанял хоть до Матросской слободки!
— Все-таки на свежем воздухе, — сказал Гладышев, — пылюку не глотаешь, как у нас в литейной.
— Ничего, Артем, вот крышу подымут, и у нас пылюки будет меньше, — заметил Лука, и мне стало понятно, что поднятия крыши ждет весь литейный цех.
— Ты говоришь, Артем, свежий воздух, — тихо ответил, как бы размышляя с самим собой, извозчик Володя, — а я бы от этого легкого, свежего воздуха на карачках на завод вернулся, если бы не рука.
— Вы тоже на заводе работали? — нисколько не скрывая своего удивления, сказал я таким тоном, что Лука и Артем засмеялись.
— А ты думаешь! — горячо сказал Володя, видно, задетый за живое моим недоверием. — Я, милый, не всегда кустарем-одиночкой был. Двенадцать лет на заводе отработал. С мальчиков. Еще буржуи жилы из меня тянули. Если бы не рука, кто знает, быть может, сейчас бы в мастерах ходил.
— А что у вас с рукой, что? — спросил торопливо Бобырь, разглядывая лежащие на Володиных коленях загорелые и на первый взгляд здоровые руки.
— Да глупая, в общем, история приключилась, — сказал Володя. — Земляки, они ее знают (он кивнул в сторону Луки и Гладышева), и вам, новичкам, узнать полезно. Вроде как бы инструктаж получите.
Тут, когда Махно до Румынии подался, в городе у нас его подручных немало осталось. Не знаю, сами ли они побоялись в чужие края за своим батьком лохматым удирать или он их здесь, в Таврии, на рассаду оставил, — только факт, что кишело ими. А особенно много их шлялось в колонии, за вокзалом. Там и раньше что ни усадьба была, то кулацкая. Хозяева жили в колонии крепкие: дома каменные, виноградники большие, на причалах около моря баркасы собственные, а по берегу от маяка до Матросской слободки волокуши расстелены. Виноград уродится квелый — из моря деньги вытянут. Ну, а как голод случился, дружинники-рабочие давай у тех колонистов погреба осматривать — нет ли где хлеба зарытого. Да и в самом деле: в городе голод, дети распухли, на улицах всю крапиву да на кладбище лебеду для пропитания выщипали, а перешел пути — иной мир. Всего вдоволь в колонии; под праздники даже окорока коптят и самогон варят. Идешь по улице голодный, еле ноги волочишь, а тут как шибанет тебе в нос от ихней праздничной трапезы — разорвал бы их всех, паразитов, живьем! Народ повальное бедствие терпит, а эти веселятся — «тустеп» да «ойру» под граммофоны пляшут.
Понятное дело, колонистам не понравилось, что мы их обысками донимаем, к добру ихнему прикасаемся. Постреливать они стали в дружинников. А тут, на заводе, еще иностранцы оставались. Джон Гриевз с чадами своими — тот сразу в Англию махнул, а своих надсмотрщиков помельче оставил. Эти его доверенные оружие где-то добывали и колонистам потихоньку ночами подбрасывали.
И вот однажды заходим мы в светлицу к одному купцу здешнему, Бучило его фамилия. Не успели еще дверь за собой прикрыть, слышим — шаги! Входят за нами двое соседей Бучилы, тоже из местных кулаков-колонистов, братья Варфоломеевы. В кожаных куртках оба, в кубанках, штаны из малинового бархата, и руки в карманах держат. «Ну, думаю, горячо нам сейчас придется!» Знал почти наверняка, что оба брательника у батьки Махно служили. С ними третий вошел, как бы холуй ихний, Кашкет по прозвищу, он же Ентута…
— Погоди, Володя, — перебил я извозчика, — он в литейном цехе работает? Красной косынкой голову повязывает?
— Он, он самый! — охотно подтвердил извозчик. — Ну, так вот… Оглянулся я — вижу, сам купец стоит у кровати, ухмыляется. Никакой, видать, ему обыск не страшен, раз подмога пришла. А соседи его, Варфоломеевы, поставили у двери Кашкета — и ко мне. А я, можно сказать, один был. Помощник мой, Коля Сморгунов, — хлопчик ловкий, карабином владел, но от голодухи ослаб совсем. Не совладать бы ему даже с младшим Варфоломеевым. И получилось так, что приходится мне как бы одному на себя удар принимать.
Старший Варфоломеев подходит ко мне и говорит:
«Ну что, Володя, грязная душа, пришел в гости к соседу — садись».
«Ничего, спасибо, сяду», — говорю. И присаживаюсь на уголке стула.
«Давай, — говорит старший Варфоломеев, — хозяин, угощай желанных гостей!»
Вижу, приносит Бучило, улыбаясь, стаканы, штоф самогону, сало вареное. А под стеной его дочки, как на выданье, сидят. Обе невесты Варфоломеевых. Побледнели, чуют, не к добру такое угощение.
Смотрю я Варфоломееву прямо в лицо. Страшно мне, но не робею, Советскую власть за плечами чую. И прислушиваюсь, о чем его младший братан с хозяином перешептывается.
Люська Варфоломеев наливает мне тем временем стакан самогонки и говорит:
«Пей, милый!»
«Зачем, — говорю, — я первый? Может, она отравленная! Выпей сам».
«Ты что же, — шипит Люська, — боишься? И еще хозяина оскорбляешь! Тебе, голодранцу, уважение делают, а ты…» И раз — ножик выхватил.
Вижу я такое дело, мигнул Коле Сморгунову. А тот, вместо того чтобы на мушку их взять, из последних сил как трахнет карабином по лампе! Так мне горячее стекло на голову и посыпалось. Что делать? Раз такой оборот — повалил я на стол старшего Варфоломеева. Слышу, посуда загремела, барышни визжат, темнота кромешная. «Лишь бы, — думаю, — своих побыстрее дождаться!» И браунинг вытаскиваю, чтобы в окно пальнуть. Но тут как раз возле уха табуретка пролетела. «Ага, — думаю, — тяжелая артиллерия в ход пошла!» И ползу к выходу. Слышу, сопит кто-то рядом, и хромом пахнет. Значит, куртка кожаная рядом. «Ну, — думаю, — получай!» И рукояткой браунинга как дам! Попал прямо по затылку. Застонал кто-то из Варфоломеевых и кричит: «Держи дверь, Кашкет, мы ему покажем!» — и как бахнет в потолок. Тут и я стесняться перестал: застрочил в угол, откуда стреляли, из браунинга… Визг, огонь, керосином пахнет, а Сморгунов у двери голос подает: «Давай, — говорит, — Володя, обезоруживай бандитов! Я их не выпущу отсюда!» Хорошо ему говорить «обезоруживай»! Их с хозяином четверо, не считая невест, а я один. И пробиваюсь себе ползком к двери. Вдруг слышу, кто-то будто замахнулся на меня, и самогоном пахнуло близко. Я присел и рукой голову заслоняю. А тут — бжи-и-и-ик! По руке моей!
Я сперва, знаете, не почувствовал боли. Даром что жилы мне ножом перерезало да еще череп задело! Отдернул я руку — и в карман за платком. Но чую, дело плохо: пальцы не работают. Прижал пораненную руку другой рукой, жарко мне стало, даже пот на лоб выступил, и усталость одолевает.
Едва собрал силы крикнуть Коле Сморгунову: «Бей их, кулацких паразитов, бо я раненый!» А в эту минуту Кашкет, адъютант ихний, вазоны с окошка посбрасывал, головой стекло высадил и хотел туда, на снег, рыбкой! Тут Коля Сморгунов в него на прощанье из карабина бабахнул. Наши дружинники выстрелы услышали, обоих Варфоломеевых и хозяина взяли. А я вот… покалеченный остался. Даже стакан с водой трудно поднять. Питание плохое в те годы было, срослось все кое-как, а рука до сих пор словно парализованная…
— Послушай, Володя, — спросил Гладышев, — а почему Кашкет хвастается, что это его на фронте ранили, когда он от белых Екатеринослав защищал?
— На фронте? — Володя засмеялся. — А ты не купался с ним никогда? Жаль! Искупайся при случае. Посмотришь, куда пуля входила, откуда шла. На фронте, брат, таких ранений не бывает; разве что у дезертиров, кто под шумок пятки салом смазывает…
Мимо нашей скамейки, широко выбрасывая ноги, прошел знакомый франт из отдела рабочей силы в длинных, остроносых ботинках.
— А вот и Зюзя! — громко сказал извозчик.
— Привет! Привет! — отозвался тот, оборачиваясь на его голос, и, помахав рукой, пошел дальше.
— Вот этот Зюзя нас на завод не хотел принять! — мрачно заметил Маремуха.
— Да что ты говоришь! — удивился Володя.
— Правда, правда, — сказал я, поддерживая Петруся.
— Странно! — сказал Гладышев. — Неужто забурел? А мне говорили, что Зюзя хорошо к рабочему классу относится.
— Ничего себе «хорошо»! — возмутился Бобырь. — Да если бы не директор завода… Вот, послушайте… — И он рассказал, как встретил нас Зюзя в своей канцелярии.
— Самый настоящий бюрократ. Чернильная крыса! — поддакнул я.
— А я хотел было к нему идти в транспортный цех со своим Султаном наниматься, — сказал Володя.
— Да хоть бы объяснил, посоветовал, а то просто: «Аут! — говорит. — И езжайте в Харьков», — с возмущением добавил Бобырь. — То ли дело директор… Все по-человечески расспросил, проверил, что мы знаем…
— Ты директору нашему не удивляйся, — сказал Лука. — Таких директоров от Севастополя до Ростова и по всему побережью не скоро сыщешь! Его уж и на завод Ильича звали, и в трест украинский — не пошел. «Дайте мне, говорит, завод поднять, технику туда наладить, английское наследство ликвидировать». Это он затеял поднять крышу литейной. «Пусть, говорит, в самом вредном цехе самый чистый воздух будет». А ты не видел, какую чугуночистку при нем выстроили? Загляденье! Раньше, при Гриевзе, в той чугуночистке люди от чахотки гибли сотнями. В сараюшках литье чистили, вся пыль на легкие садилась. А сейчас любо глянуть: чистота, света много, пыль отсасывают трубы… А какой в прошлом году приезжим троцкистам бой дал Иван Федорович! Перья с них летели! Ты Ивана Федоровича с Зюзей не равняй.
— Он что, выдвиженец? — спросил Бобырь.
— Иван Федорович?
— Да нет, Зюзя!
— футболист, — сказал Лука спокойно.
— При чем же здесь футбол? — удивился Маремуха.
— А при том, — пояснил Лука, — что Зюзя был самый лучший центрфорвард на все Запорожье, но там, на заводе «Коммунар», с ним мало считались: работал у них в кочегарке, что ли. Ну, а наш главный инженер Андрыхевич — болельщик старый. Поехал он однажды в Запорожье, посмотрел игру Зюзи, видит — парень ходовой, ну и переманил его сюда. Тут ему, ясно, раз-раз — и выдвижение: заместителем начальника отдела рабочей силы. Жалованье приличное, есть на что харчиться, чтобы за мячом бегать…
— Главный инженер — это седой такой? — осторожно спросил я, припоминая слова Анжелики об ее отце.
— Он самый, — подсказал Володя, — ваш сосед. Со странностями человек, но футбол уважает…
— Дочка у него занятная, — не без удовольствия ввернул Маремуха. — Василь с ней уже познакомился. Лапки жал на пляже.
— Да что ты? — Володя удивился и поглядел на меня с уважением. — Ты, оказывается, парень-хват, не теряешься! Но смотри: Зюзя узнает, мигом тебе ноги перебьет. У него, брат ты мой, удар пушечный. Штангу мячом ломает…
Неподалеку от нас, в порту, раздался прерывистый гудок. Потом другой, третий…
— «Дзержинский» в Ялту уходит, — сказал Лука.
Никогда в жизни мы не видели настоящих пароходов, только на картинках. Мне очень хотелось побежать в порт, поглядеть отход парохода, но, как назло, Маремуха продолжал разыгрывать меня и, подталкивая Бобыря, спросил у Володи:
— А что, разве Зюзя — приятель инженеровой дочки?
— Как же! На велосипеде ее катает часто и в гости к ним захаживает. Свой человек, словом.
— Я думаю, они его как футболиста уважают, — заметил Лука.
— Неужели дочка инженера — футболистка? — бухнул Петро.
— Болельщица! Пойдешь игру смотреть — не садись впереди нее, — предупредил Лука, — всю спину тебе ногами исколотит. Помешалась на почве футбола, как и ее папаша.
— Ну, а это ты зря так… — заступился за мою знакомую молчавший доселе Гладышев. — Скажет тоже — «помешалась»! Барышня самостоятельная, умная, много книжек читает. А если болеет футболом, так что из того? Кто у нас не болеет, скажи? Одни голубями, другие футболом увлекаются. Главный врач курорта Марк Захарович Дроль болеет? Болеет! Начальник порта капитан Сабадаш? Ясное дело! Зубодер мадам Козуля? Еще как! Эта, из танцевального заведения… как ее, мадам Рогаль-Пионтковская? Безумно! Даже Лисовский, поп, как игра, церковь на замок — и на поле со своей матушкой… Такой уж город у нас шальной!
— Кто, кто? Рогаль-Пионтковская? — переспросил я. — Она не графиня случайно?
— Леший ее ведает, графиня она или нет, а вот то, что эта мадам просто чудо-юдо на всю округу, — факт… — сказал Гладышев.
— Самый главный профессор по танцулькам, — добавил Лука.
— Чего же мы сидим здесь, друзья, да сухой беседой пробавляемся? — встрепенулся Володя. — Может, пойдем до Челидзе и по кружке пива выпьем, а?
— Надо пойти, правда, а, Василь? — шепнул мне Бобырь. — Не пойдем — обидятся!
«Ходить в пивную комсомольцам? — подумал я. — Хорошо ли? С другой стороны, и впрямь новые наши знакомые могут подумать, что мы белоручки какие, чуждаемся их компании либо просто скареды. И наконец, разве это большой грех — выпить кружку пива?»
Однако усталость одолевала, и, помня, что завтра поутру надо на работу, я сказал:
— Да мы не знаем… Ведь нам завтра…
— Оставь ты их, Володя, — вмешался неожиданно Лука. — Хлопцы молодые, в работу еще как следует не втянулись и еще в самом деле проспят. Нехай майнают домой! А ты, друг, — обращаясь уже ко мне одному, очень сердечно сказал Лука, — напарника своего особенно не бойся. Он ворчит, покрикивает, но в общем-то справедливый старик и гоняет тебя не зря. Все к лучшему… Злее будешь! Ну, до завтра!..
Мы расстались, и Володя, первый выйдя из палисадника на мостовую, запел:
На заводе том Сеню встретила,
Где кирпич образует проход…
Вот за эти-то за кирпичики
Полюбила я этот завод…
Шагах в тридцати от людного проспекта было пустынно и тихо, как в деревне глубокой ночью. Сладко потянуло маттиолой, и в кустах одного из садиков, у самой дороги, зачастил перепел.
— А твоя симпатия, Василь, знает, что ты у нас в фабзавуче в футбольной команде играл? — спросил не без ехидства Петро.
— О ком ты говоришь?
— Притворяйся! — И Маремуха весело хмыкнул. — Будто не знаешь, о ком?
— Как ее зовут, а, Василь? — спросил Саша.
— Я забыл.
— Он уже забыл, ты слышишь, Петрусь? — издевался Бобырь. — Тогда я тебе напомню, раз ты такой забудька: Ан-же-ли-ка! Запиши, пожалуйста, на память.
— Что это за имя такое: Ан-же-ли-ка? — наслаждаясь моим смущением, протянул по складам Маремуха. — Первый раз слышу. Очень странное имя. Наверное, заграничное.
— Деникинское имя, — поддакнул Бобырь. — Ты думаешь, случайно она нам «мерси» сказала?
— Так все буржуи говорят: «мерси» и «пардон», — согласился Маремуха.
А я шел опять молча, терпеливо выслушивая, как ребята прокатываются по моему адресу…
Далеко в море колыхались, огибая волнорез, белые топовые огни уходящего парохода «Феликс Дзержинский». Если бы я знал в ту ночь, кого он повез на своем борту в Ялту в кромешной тьме Азовского моря!.. Если бы я знал, то примчался бы заранее в порт и не стал тратить времени на пустые разговоры.
В ГОСТЯХ У ТУРУНДЫ
По мере того как я втягивался в заводскую жизнь, слово «подладитесь» страшило меня все меньше. Дни пролетали быстро, и всякий новый день приносил новости.
Сегодня, за несколько минут до обеденного перерыва, к моей машинке подошел Головацкий. Странно было видеть его среди пыли и шума литейной в хорошо сшитом костюме да еще при галстуке. На месте секретаря заводского комсомола я бы постеснялся показываться в цехе в подобном наряде. Люди работают физически, а он прогуливается таким чистехой! Но Головацкий вел себя как ни в чем не бывало, поздоровался за руку с Науменко, а Луке с Гладышевым поклонился.
— Своего подшефного проведать зашел, Толя? — спросил Лука.
— Как он — прижился у вас? Не теряется? — вопросом на вопрос ответил Головацкий и посмотрел на меня внимательными серыми глазами.
— Торопыга. Скоро дядю Васю обгонит! — бросил Лука и, схватив набитую опоку, помчался накрывать ею нижнюю половинку.
Обращаясь к Гладышеву и Науменко, Головацкий сказал:
— Я ему говорил: «Подладишься», — а он было приуныл, как узнал про машинную формовку. — И еще раз поглядев на меня, сказал доверительно: — Ты зайди ко мне, Манджура, в обед…
— Вы, я вижу, хорошо с Головацким знакомы? — спросил я Луку, как только секретарь скрылся за опоками.
— Это же наш воспитанник! Выходец из литейной. Мы его здесь и в партию принимали, как ленинский набор был, — сказал Лука, и я понял, что мой сосед — коммунист.
— Значит, Головацкий в литейной работал?
— Ну да! А чему удивляешься? На томильных печах! — бросил Турунда. — Он молодец, хорошие порядки там завел. До его прихода чумазей томильщиков на целом заводе никого не было. От той руды, которой они литье отжигают, ржавчина не только к робе, но и к волосам приставала. За версту можно было узнать, что парни из томилки идут. А сейчас — глянь: выходят после шабаша чистыми, как люди. А почему? Собрал Головацкий по поручению парткома комсомольцев на субботник, заложили сообща змеевики в тех печах, провели душ с горячей водой да устроили каждому рабочему шкафчики для грязной и чистой одежды. Сейчас, когда пошабашат, сразу под душ. Помоются горячей водицей, переоденутся во все чистое — и по домам, что интеллигенты какие. Любо-дорого! И не узнаешь, что они в тех печах литье разгружали…
Эти слова, услышанные от соседей, запали мне в душу. Я шел теперь к Головацкому в ОЗК с добрым чувством и никак не ожидал, что он встретит меня упреком.
— То, что ты подладился быстро и освоил тонкости машинной формовки, — хорошо и похвально, Манджура, но почему ты держишься особняком ото всей молодежи?
— Как «особняком»? — переспросил я, усаживаясь на скрипучий стул.
— Да очень просто! Половина ребят тебя попросту еще не знает: кто ты, что ты, чем дышишь. О беспартийных я уже не говорю. Даже комсомольцы и то не подозревают, что у тебя комсомольский билет в кармане. В прошлый раз ты мне здесь полных три короба наговорил о своей общественной работе в фабзавуче. Я было возрадовался: «Вот, думаю, огонь-парень на подмогу к нам пришел…»
— Но мне же надо было освоиться, — виновато сказал я, сознавая, что секретарь ОЗК во многом прав.
— Но сейчас ты уже, надеюсь, освоился?
— Сейчас освоился…
— Тогда добро, — уже мягче сказал Головацкий. — И советую тебе поскорее узнать всю молодежь литейной: кто чем живет, кого что интересует. Ведь что получается: литейная — единственный цех на заводе, который в зависимости от заливки часто кончает работу задолго до общего шабаша. Что это значит? Это значит, что больше всего свободного времени у молодежи литейной. А много ты найдешь литейщиков по вечерам в юнсекции клуба металлистов? Очень мало! Стыд и срам, но это, к сожалению, так. А вот на танцульках у мадам Рогаль-Пионтковской их полным-полно…
Второй раз за последние дни я услышал знакомую фамилию. И трудно было удержаться, чтобы не перебить секретаря ОЗК:
— А кто же эта мадам?
— Осколок разбитого навсегда, — сказал Головацкий, постукивая длинными пальцами по фанерному столу. — Еще несколько лет назад ей принадлежали ресторан «Родимая сторонка» и кондитерская при нем. А потом, когда мадам устала от налогов, она открыла свой собственный танцкласс. Дочь этой мадам еще при белых вышла замуж за англичанина — начальника цеха и с ним укатила в Лондон. Ну, а мамаша осталась и обволакивает сейчас своим влиянием молодежь.
Напрягая память, я спросил:
— Рогаль-Пионтковская тут давно живет?
— Как революция началась. Она сюда приехала вместе с дочерью. Откуда-то из-под Умани.
— Замужем?
— Мужа ее никто не видел. Либо схоронила его там, в Умани, либо в бегах находится…
— И ребята из литейной ее посещают?
— Если бы только из литейной! Из других цехов тоже. Не сумела комсомольская ячейка организовать досуг молодежи — мадам этим пользуется. И возьми себе на заметочку, Манджура: в твоем цехе есть еще совсем малограмотные ребята. Нечего коллектива чуждаться! Пора с хорошими ребятами подружиться, в одну упряжку стать. Гриша Канюк, к примеру, или Коля Закаблук…
— Все сделаю, Толя, — пообещал я Головацкому.
— Надо сделать все, а потом еще повторить! — пошутил Головацкий и, пожимая мне руку, сказал: — Ну, беги, а то до гудка три минуты осталось…
Еще в годы царского режима, когда мы жили в Заречье, под Старой крепостью, неподалеку от Успенского спуска, усадьба графини Рогаль-Пионтковской занимала целый квартал на городской окраине. Желтый барский особняк с колоннами у подъезда терялся в зелени тенистого сада, и к нему от железных ворот, украшенных коваными железными лепестками, вела усыпанная гравием дорога. Ее окаймляли грядки с белыми лилиями и пионами. Высокие ажурные ворота почти никогда не открывались, и на них висел тяжелый ржавый замок.
Но однажды ворота усадьбы распахнулись настежь по доброму согласию ее владелицы. Случилось это весной тысяча девятьсот девятнадцатого года, когда наш город захватил со своими бандами атаман Петлюра. Остатки его банд жались к железной дороге. В руках неудачливого атамана находилось несколько маленьких городков и местечек Подолии и Волыни. Но, несмотря на то что петлюровский фронт трещал по всем швам, атаман торжественно объявил наш город временной столицей «Петлюрии», а для своей резиденции выбрал наполовину пустующий особняк графини Рогаль-Пионтковской.
Автомобиль, на котором подъехал Петлюра, встречала у распахнутых ворот сама графиня, дама в черном платье с воланами, с лорнетом, прижатым к глазам. Мы, мальчишки, видели с погоста соседней Успенской церкви, как, выйдя из машины, одетый во все синее, Петлюра поцеловал худую, украшенную перстнями руку графини и вместе с хозяйкой последовал к желтому дому. Сюда к нему приезжали для переговоров галицкие «сичовые стрельцы» из корпуса Коновальца, деникинские офицеры.
Несколько позже на постой к графине прибыли английская и французская военные миссии. Офицеры Антанты, помогавшей Петлюре, разгуливали в своей невиданной нами форме по тенистым аллеям графского сада, но рассмотреть их поближе нам никак не удавалось. Прохожих сгоняли с тротуара гайдуки из «куреня смерти», охранявшие Петлюру и его свиту.
— Лишь один раз вместе с приятелями мы взобрались на гранитный фундамент изгороди и попробовали разглядеть сквозь гущу зелени, что же творится возле дома с колоннами. В ту минуту, когда мы стояли босиком на шершавых и теплых от весеннего солнца плитах, прильнув к железной ограде, из сада выскочил высокий худощавый мужчина в длинном сером пиджаке и замахнулся на меня черной тростью в серебряных монограммах.
Как вспугнутые воробьи, пустились мы наутек кто куда, боясь, как бы длинноногий не кликнул на расправу с нами петлюровцев из наружной охраны. А у них были припасены для нас угощения похлеще трости: длинные нагайки с оловянными «пятаками», заплетенными в кожу.
Лицо незнакомца — хищное, злое, дряблое, все в желтоватых морщинах — я хорошо запомнил.
Говорили, что это родной брат графини, убежавший откуда-то из-под Киева от большевиков. Недаром впоследствии, когда Петлюру прогнали, графиню арестовала Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Что потом с ней стало, я не знал. А может, братец графини и был тем самым находящимся в бегах мужем здешней Рогаль-Пионтковской, которая, по словам Головацкого, «обволакивала молодежь» своими танцами?..
Зной еще не развеялся, но на проспекте уже было людно. Вялые и разморенные, брели с пляжа курортники в тюбетейках, в широкополых соломенных шляпах, а то и просто повязав головы мокрыми платочками. Курортники тащили в руках коврики, полотенца, мокрые простыни, купальники. Иные из них задерживались у киосков, где продавались студеная белая буза, лимонное ситро, нарзан и боржом со льдом. Другие приезжие, главным образом мужчины, забегали в угловой кооператив виноградарей. Утомленные жарой и морем, они опрокидывали там стаканчики, наполненные прозрачной «березкой», янтарным «вяленым», «выморозками», «изабеллой», густым и приторным мускатом и другими винами Приазовья.
То заглядывая внутрь магазинов, то задерживаясь у нарядных витрин, я шел, впечатывая каблуки в мягкий асфальт. Еще до окончания работы Гладышев сказал мне, что салон Рогаль-Пионтковской помещается в доме Э 25 по Генуэзской улице.
Внезапно все прохожие перестали меня интересовать, кроме одного, что появился откуда ни возьмись передо мной. Спина его и походка — твердая, уверенная, строевая походка военного — показались мне удивительно знакомыми. Если бы не его летний штатский костюм из чесучи да не мягкая, из той же материи панама с широкой голубой лентой, я бы сразу бросился к прохожему как дорогому земляку.
«Но этот не виданный никогда раньше штатский костюм?.. А походка та же, и рост, и высоко поднятая голова с загорелой шеей!.. Да он, верно, на курорт сюда приехал! Ну как я не догадался!» Быстро обогнав прохожего в костюме из чесучи, заглядываю ему в лицо. Он в это время смотрит в окно аптеки, где виднеются целые батареи банок с латинскими надписями. «Ну да, это он!»
Я подхожу к прохожему вплотную и, чуть дотронувшись до его полусогнутого локтя, говорю:
— Здравствуйте, товарищ Вукович! Как вы сюда…
Человек с лицом Вуковича удивительно хладнокровно, будто ждал, что я его затрону, оборачивается и говорит:
— Вы обознались, молодой человек… — и слегка насмешливо смотрит мне в глаза, как бы жалея, что я так глупо ошибся.
Что я буркнул ему в ответ, не помню. Это не были слова извинения. Скорее всего я произнес что-то похожее на «ух ты!» и, смешавшись окончательно, быстро зашагал прочь, чтобы зеваки не обратили на меня внимания. А сам думал: «Ну, бывает же такое сходство! Удивительно, как похож этот человек на Вуковича…» Если бы то был Вукович, он обязательно узнал бы меня и поздоровался. Особенно после того продолжительного разговора в его кабинете, когда мы посетили его вместе с Коломейцем, а потом зашли к его начальнику — Киборту.
Придя в себя после досадной оплошки и освобождаясь от охватившего меня смущения, я решил ни в коем случае не говорить хлопцам, как я обознался…
Дом Э 25 на Генуэзской оказался ничем не примечательным с виду одноэтажным особняком. От кассирши в платье из клетчатой шотландки, которая раскладывала на столике у входа книжки с билетами, я узнал, что танцы начинаются через час. Не крутиться же мне под высокими окнами танцкласса столько времени, чтобы поглядеть на здешнее чудо-юдо! Я медленно побрел Генуэзской улицей, подальше от центра города.
Генуэзская привела меня в предместье Лиски с его маленькими домиками. Почти вся земля здесь была занята огородами. Я пошел на край поселка, к самому морю.
Вблизи берега покачивались на якорях просмоленные рыбачьи баркасы со свернутыми парусами. На песке, забросанном водорослями, сохли неводы-волокуши. В лицо ударил воздух морского раздолья, смешанный с запахами копченой рыбы, водорослей, йода, смолы.
Пустынный песчаный берег тянулся к Ногайску. Из оврага, спускавшегося к морю, выглядывала какая-то двухэтажная вилла под красной черепицей. Закат бросал багровые блики на ее окна, обращенные к Лискам. Стекла будто пламенели под лучами солнца, медленно падающего в море. Казалось, вилла горела, подожженная изнутри. Я вспомнил рассказы литейщиков о бывшем владельце завода Гриевзе, который улепетнул за границу, и решил, что не иначе как это его вилла виднеется вдали. Достаточно лишь было сравнить ее с маленькими белыми мазанками, разбросанными по берегу моря, чтобы понять: там жил богач.
По мягкому песку я подошел к тихому морю и, зачерпнув руками чистой воды, умыл вспотевшее лицо и смочил волосы.
— Эй, молодой, иди сюда! — послышалось издалека.
«Не меня, наверное, — подумал я, не оборачиваясь. — Кто меня может знать тут?» И шагнул по направлению к Генуэзской. Но вдогонку понеслось:
— Василий Степанович! Товарищ Манджура!
От маленького домика ко мне быстро шел мой сосед по машинкам Лука Турунда. Он уже успел переодеться в светло-голубую, выжженную солнцем робу, простеганную белыми нитками.
— Загордился, право! — сказал Лука, подбегая. — Кричу, кричу, он хоть бы хны! Я увидел тебя еще, как ты к морю шел. Никак, думаю, топиться парень идет от притеснений Науменко.
— Здравствуйте! Отчего ж мне топиться?
— Давай зайдем до меня в хату! — предложил Турунда.
Я ответил неуверенно:
— Мне в город нужно. Может, в другой раз?
— А я тебя не на свадьбу зову. Посидим маленько и тронемся вместе.
Домик Турунды был расположен на самом берегу. Проходя во двор, я спросил:
— Не заливает волнами, когда шторм?
— Случается. Прошлой осенью майстра задул, и такие волны пошли, что стекло выбило водою. Моя жинка даже кур на чердак переселила, чтобы море не украло.
В горнице с низким потолком было прохладно. Все окна, кроме одного, распахнутого настежь, были завешены кисеей от мух. На подоконниках стояли горшки с геранью и фикусами и бутылками с вишневой настойкой.
— Знакомьтесь! — предложил Лука. — Вот мой папаша, а это жинка. Перед вами Василий Степанович. Он прибыл к нам на пополнение литейного цеха… Откуда ты прибыл, Василь?
— Из Подолии, — сказал я, здороваясь с отцом Луки и с женой. — Но я ведь не Степанович, а Миронович…
— Правда? — Лука удивился. — Значит, я тебя с напарником спутал: он у нас Степанович. Сидай вот сюда, под окошечко: нет-нет да с моря низовкой потянет.
Я протиснулся под окно и сел за хорошо вымытый сосновый стол. Отец Луки, черный от солнца и такой же сухопарый, как его сын, присел напротив, а жена Турунды, симпатичная женщина лед двадцати пяти, захлопотала у печи, которую было видно через сени. Смуглая, крепко сбитая, с косами, уложенными в корону, она неслышно пробегала по кухне, то показываясь перед печью, то пропадая за простенком.
— А мы тут разговариваем с батькой на одну тему житейскую, — сказал Лука. — Ты ведь знаешь, что третий месяц один процент нашего заработка отчисляется на бастующих английских рабочих. А мои домашние, как принесу я домой книжку расчетную, шумят: «Опять эти „А.Р.“! Что они, родня тебе? Лучше бы вместо тех отчислений платье жинке купил».
— При чем здесь платье! — перебил сына старый Турунда, показывая желтые от табака редкие зубы. — А они, эти «А.Р.», помогали нам в девятьсот пятом, когда «Потемкин» красный флаг выбросил? Напротив! Старый Гриевз сотню казаков из Мелитополя вызвал забастовщиков усмирять. Помог, думаешь, тогда нам кто-нибудь из-за границы? Черта с два! Целое лето одной тюлькой пробавлялись. А с какой такой стати мы теперь ихним забастовщикам помогать должны?
— Потому что мы отечество всех трудящихся мира, — сказал я осторожно, чтобы не разозлить ворчливого старика. — У нас Советская власть, а у них еще ее нет… У них капиталисты на шее сидят.
— То не ответ, — буркнул старик. — Ты под корень гляди, а политику мне разводить нечего!
Слова Турунды задели меня за живое. Вспомнились наши собрания в фабзавуче на международные темы, и так же запальчиво, как там, я сказал:
— Почему «не ответ»? Ясно, что мы в лучшем положении, чем те английские горняки, что ради наживы всяких капиталистов угольную пыль глотают.
— А мало мы той пыли при царизме наглотались, чтобы буржуй заморский вон в тех хоромах жил да на собственной яхте по морю раскатывал? — Старик показал крючковатым пальцем в сторону виллы, которую я разглядывал с берега. — Ему банкеты на свежем воздухе были нужны, а нам один кабак оставался на потеху, да и тот в долг!
— И не берись даже моего старого переспорить. Все равно что митрополит Введенский! Ты ему свое, а он тебе свое. Наперекор. Я тоже толкую ему: поскольку мы рабочая власть, всякому рабочему, который нуждается, подсоблять должны в беде, — сказал Лука.
Неслышно ступая по глиняному полу босыми загорелыми ногами, в горницу вошла жена молодого Турунды. В руках у нее задымленный противень. Она поставила его тихонько на две деревянные подставочки, и я увидел на дне противня четыре жирные рыбины. В нос ударил сильный запах чеснока.
— Едал когда-нибудь такое? — спросил Лука.
Я отрицательно покачал головой.
— Чебак по-рыбачьи! — заявил Лука. — Утреннего улова. Батька его ущучил, а мы сейчас отведаем. — И, поддев вилкой тяжелую рыбину, он положил ее передо мной на тарелку.
Тут я заметил, что даже чешуя не счищена с чебаков. От жара духовки блестящие чешуйки взъерошились так, будто кто-то причесывал рыб «против шерсти».
Довольно скоро, снимая, по примеру хозяина, кожу с чебака, я угадал немудреный способ приготовления этого вкусного блюда. Перед тем как бросить рыбину на противень и отправить в жар духовки, их нашпиговывают дольками чеснока. Рыбы пекутся целиком, в собственном жире.
— Но ведь рыбка посуху не ходит! Верно, Василь? — подмигнув мне, сказал Лука и достал из темного угла тяжелый кувшин с вином. Он налил в стаканы бледно-желтое, удивительно чистое вино.
— Хватит! Хватит! — остановил я Луку, когда была налита половина моего стакана.
— Чего испугался? — Лука поднял на меня быстрые глаза. — Думаешь, крепкое? Да это «березка». Слабенькое. Его у нас малые детки заместо воды пьют.
— Все равно будет. Я непривычный.
— Привыкать надо, — заметил отец Луки. — У Азовского моря жить — «березку» пить!
— Ну, за твою удачу, Василь. Чтобы ты стал хорошим литейщиком. Пусть фартит тебе в молодой жизни! — сказал Лука, и мы чокнулись стаканами.
Подняла свой стакан и жена его, поправляя полной рукой уложенные короной иссиня-черные тяжелые косы.
От взгляда ее глубоких, темных, как маслины, добрых глаз повеяло большим радушием. Показалось, что я уже давно знаком с милыми хозяевами этой хатки, выросшей на песчаном приазовском берегу.
Вино было холодное, ароматное, чуть кисловатое, со слабой горчинкой. Оно и в самом деле не было крепким.
Я отставил пустой стакан и мимоходом глянул на часы-ходики, висящие на стене, у печки. Лука перехватил мой взгляд и сказал успокоительно:
— Не бойся, молодой, мне ведь тоже в университет идти.
— В какой университет? — удивился я.
— Он студент у меня, — ответила за Турунду его жена и, поглядывая на Луку очень ласково, положила ему на плечо смуглую руку.
— С прошлого года. Вечерами! — сказал Лука. — Поженились мы с Катей, и я подумал: надо учиться. Хватит время свободное попусту переводить. Поступил на подготовительные курсы, припомнил все, чему еще в приходской школе учили, алгебру одолел, а тут открывается вечерний рабочий университет. Ну как не воспользоваться?
— И доволен? — спросил я, чувствуя, как от этого слабенького вина тепло растекается по телу.
Лука весело вскинул голову:
— И не спрашивай даже! До этого что было? Пошабашил, приоделся — и на проспект. А с проспекта куда? В «Родимую сторонку», к Челидзе. Идешь после него домой сонный, ноги вензеля пишут. Иной раз так раскачает, что в кепке да в сапогах на койку бухнешься. Не успел глаза прикрыть, уже гудок заливается. А с похмелья работа какая? Ползешь, что та муха осенняя по стеклу, а напарник тебя ругает на чем свет стоит, потому что и его задерживаешь. Спасибо Ивану Федоровичу, что он университет открыть придумал.
— Директор?
— Он самый. Смекнул, что в городе учителей всяких много — и по химии, и по астрономии, созвал их к себе и говорит: «Давайте, милые, по вечерам рабочий класс учить, деньги я для вас найду!» Сказано — сделано. И завертелась карусель. И вот с той поры, как начал я тот университет посещать, вроде как другим человеком стал. Вагранка гудит вдали, а я тем часом формулы припоминаю, что учитель разъяснял, и соображаю, что к чему, отчего чугун плавится, как из него сталь получить и при какой именно температуре… И получается так, что вместо этого маленького окошечка смотришь на жизнь из большущего окна…
— А на занятия сегодня опоздаешь, — очень мягко, вполголоса сказала жена.
— Я? Ничего подобного! — спохватился Лука и, подбежав к этажерке, принялся собирать книги.
— Заходите до нас запросто, — сказала Катерина, прощаясь. — А задумаете в море пойти — старый вас на рыбалку возьмет.
Я поблагодарил хозяев за угощение и сказал, что в следующий раз приду к ним уже с хлопцами. Вместе с Лукой мы пошли Генуэзской улицей к проспекту.
— Кусачий мой батька, правда? Ему пальца в рот не клади! Тоже до революции в литейном на ковком чугуне работал.
— Отчего же сейчас не возвращается?
— Да в гражданскую, как завод остановился, он рыбачить начал, Рыскалистым рыбаком стал. И однажды, на исходе зимы, ушел он в море со своей ватагой на подледный лов за красной рыбой. Ветер все с запада дул, а потом вдруг возьми да и сорвись ночью левант. Лед зашевелился, крошиться стал, и понесло его в открытое море. Вынесло моего батьку тем левантом аж на кубанскую сторону. Половина ватаги погибла, а они чудом по мелководью вброд выбрались, почитай, уже с самого крошева. А вода была студеная, проняла она батькины ноги до самого костного мозга. Сейчас, как перемена погоды, папаша не игрок. Добро еще — курорт близко. Жинка ездит туда да и в цибарках вонючую грязь лиманную ему привозит. Нагреет ее на плите, посадит старика в корыто и давай его той грязью лечебной исцелять. Боль утихнет, и опять батька сети свои в баркас — и гайда в море. Либо за рыбцом, либо за пузанком, либо за таранью. Рыбы в этой луже пропасть! — И Лука кивнул в сторону моря.
— Послушай, Лука, а кто на том курорте лечится?
— Отовсюду люди приезжают. Вот, скажем, жил бы ты еще на своем Подоле или дальше. Пробуждаешься ночью и слышишь — ноги ломит, спасу нет. Бегом в поликлинику. Делает доктор тебе ощупывание: так, мол, и так, самая что ни на есть острая форма ревматизма. Ну, а страхкасса тебе путевку бесплатную — и ты здесь…
«А может, все-таки я Вуковича встретил на проспекте? — подумал я, оставшись один. — Схватил он ревматизм на границе. Направили его на курорт, переоделся в штатское и не захотел признаваться?..» Но тут же отогнал эту несуразную мысль.
«НУ ЛАДНО, МАДАМ!»
Уже издалека было видно, что около заведения Рогаль-Пионтковской толпится молодежь. Одни из них лениво щелкали семечки, поглядывая на тех счастливцев, которые без всякого колебания заходили в открытые двери прихожей. Другие, более нетерпеливые, отступали подальше, к палисаднику, и, приподымаясь на цыпочки, норовили заглянуть через высокие окна в глубь зала, откуда доносилась музыка, смешанная с шарканьем ног танцующих.
Оставив у билетерши в клетчатом платье целый полтинник, я вошел в продолговатый зал с потрескавшимися колоннами из папье-маше. Сразу повеяло духотой, кисло-сладкими запахами пудры и дешевых духов.
Несколько пар с окаменелыми туловищами расхаживали то взад, то вперед посредине зала в каком-то непонятном танце-марше. Позже я узнал его название: «фокстрот».
Кавалеры с важными и вместе с тем ничего не выражающими лицами то приподымаясь на носки, и наступая, то отходя на два шага назад, колесили по залу, водя разморенных жарою девушек. Видно было, они очень гордятся, что могут ходить так, соблюдая этот однообразный ритм и проделывая два-три незатейливых движения перед глазами отдыхающих танцоров либо зевак, которые, подобно мне, пришли поглазеть на это диковинное зрелище. Хозяйки танцкласса еще не было, и я с нетерпением ждал ее появления.
Глядел я, как развлекаются посетители салона Рогаль-Пионтковской, и невольно вспомнились мне совсем иные танцевальные вечера в совпартшколе нашего города.
Музыканты-курсанты располагались там на дощатой сцене, и медь оркестра сотрясала высокий мраморный зал, переделанный в клуб из бывшей церкви женского епархиального училища. Было так весело и людно, что казалось, не замазанные еще святые радуются этой громкой музыке и сам бог Саваоф, стоящий в сандалиях на босу ногу над лозунгом «Мир хижинам, война дворцам!», тоже готов пуститься в пляс вместе со своими крылатыми архистратигами.
Курсанты в голубых буденовках и девчата из предместий города танцевали самую настоящую бальную мазурку, и никто, конечно, не обращал особого внимания, что кавалеры пляшут в залатанных сапогах со стоптанными каблуками, а на ногах у дам иной раз можно было увидеть простые деревяшки.
Быстрые венгерки чередовались с плавными и легкими вальсами — от «Души полка» до чудесного вальса «Дунайские волны». Веселые краковяки приходили на смену падеспани, а уж если лектор природоведения Бойко просил музыкантов сыграть его любимую «Китайскую польку» с приседаниями да иными выкрутасами, не было в клубе человека, который бы не пристроился к цепочке танцующих.
И я ходил в тот пляс! И я приседал на корточки, а потом проносился через весь зал, помахивая то вправо, то влево поднятыми указательными пальцами.
Однажды в паре со мной очутился пожилой повар Махтеич. Он пришел справиться у дежурного по школе, когда давать звонок на ужин, а лектор Бойко завлек его в пляс. Под звон литавр мы кружились с Махтеичем по залу, едва не налетая на сцену, пылающую от медных труб музыкантов, и я слышал, как пахнет от моей «дамы» гречневой кашей, жареными шкварками, луком, и почти наверняка мог догадаться, какой ужин приготовлен для курсантов.
Много потехи и непринужденного молодого веселья было на тех забытых уже курсантских вечерах. Дружные и неприхотливые, они придавали бодрости. Там молодость выплескивалась через край. Там чувствовался боевой, смелый коллектив людей, которые решили запросто отдохнуть и повеселиться.
«А здесь что? Разве это танцы? Стучат ногами на одном месте как истуканы! И никому нет ровно никакого дела до соседа. И всяк прельщен мыслью, что он танцует лучше всех. А танца-то и нет!»
И я громко рассмеялся при этой мысли. Один из танцоров — желтолицый, с остренькими черными усиками — угрожающе покосился в мою сторону, видно решив, что это я над ним насмехаюсь.
— Соседушка, мой свет, да вы ли это? Ах, какой прогресс! — раздалось рядом.
Оборачиваюсь, вижу — Анжелика. Стоит около меня в зелененьком платье с белыми горошками и показывает в улыбке оба ряда ровных зубов. Делать нечего, я протянул ей руку и сказал:
— Добрый вечер!
— Вы танцуете? Вот не думала! Такой тихоня…
— Просто поглядеть пришел, — буркнул я, оглядываясь, нет ли еще поблизости других знакомых.
— Бросьте, бросьте! — погрозила мне пальчиком Анжелика. — Меня вы не обманете… А вот и мадам Рогаль-Пионтковская. Она заменит тапера, и это прекрасно! — И, приподымаясь на носки, чтобы стать более заметной, сложив ладони ковшиком у рта, Лика, как в рупор, крикнула: — Глафира Павловна, чарльстон попросим!
Дородная седая старуха в черном платье, с удивительно румяными щеками, оглянулась на этот возглас. Ее лицо расплылось в довольной и многообещающей улыбке. Нет, она решительно ничем не напоминала сухопарую графиню с Заречья! Скорее эта мадам была похожа на владелицу мясной лавки или колбасной.
— А тот, маленький, вероятно, муженек вашей мадам? — спросил я тихо Лику, показывая на тапера.
— Что вы? — возмутилась Лика. — Ее муж был инженером и погиб под Уманью от шальной пули. Умань — это где-то в ваших краях, не правда ли?
— Куда там! До Умани нам еще сутки езды поездом! — воскликнул я и про себя отметил, что рассказ Головацкого и слова Лики частично совпадают.
Маленький тапер в длинном замусоленном пиджаке с фалдами до коленей, похожий на сверчка, ставшего на задние лапы, угодливо придвинул Рогаль-Пионтковской кругленький вращающийся стульчик. Мадам подобрала юбки и села. Стульчик сразу же перекосился под тяжестью ее грузного тела. Приподняв над клавиатурой пухлые пальцы в сверкающих перстнях, хозяйка задумалась.
— Вы чарльстоните? — шепнула мне Анжелика.
— Что?
Громкие звуки нового танца прогрохотали в зале: мадам без сожаления принялась разбивать свой рояль.
— Пойдемте, это чарльстон! — сказала Лика.
— Да я не умею!
— Чепуха! Очень легкий танец. Смотрите на мои ноги — и быстро научитесь! — Лика вытащила меня на середину зала и сразу положила свою ладошку мне на плечо.
Вокруг уже танцевали, оттопыривая туловища, какие-то пары. Пестрые платья девушек, пролетая мимо, рябили в глазах.
Я внимательно смотрел вниз, где трясла длинными загорелыми ногами моя соседка. Казалось, Анжелике надоели ее ноги и она хочет отбросить их в сторону. Ноги ее двигались как на шарнирах: бросит ногу в сторону, помашет ею и снова наступает на меня.
«Не танец, а пляска святого Витта!» — подумал я, выворачивая ноги в коленках так, что кости захрустели. «Эх, была не была!» — решил я и, вспомнив курсантские вечера, с силой подхватил Анжелику и закружил ее. Она смотрела на меня изумленно остановившимися и немного злыми глазами. Но только хотел я сделать крутой поворот, как правая нога моя наступила с ходу на что-то мягкое, ускользающее. Я пошатнулся назад и со всего размаха ударил локтем в спину Рогаль-Пионтковскую.
Мелодия чарльстона на мгновение оборвалась. В наступившей тишине я услышал не очень громкое, но ожегшее меня короткое слово:
— Хам!
Отлетая как можно скорее от рояля, я увидел перекошенное злобой нарумяненное лицо хозяйки танцкласса. Вне всякого сомнения, это она пальнула в меня обидным словом. Но злость на ее лице гостила недолго: Рогаль-Пионтковская мигом заулыбалась и, словно желая наверстать потерянное время, забарабанила по клавишам еще громче. Возможно, Анжелика не слышала этого оскорбления, отпущенного по моему адресу, а может быть, просто сделала вид, что не слышит, — только я решительно рванул свою даму вправо, к струе свежего воздуха, бьющего из дверей, и вывел ее из зала.
— Экий вы, право, увалень! — сказала Лика не то шутя, не то презрительно. — Играют одно, а вы, совершенно игнорируя мелодию, пляшете какую-то «ойру». Да у вас вовсе нет слуха! Вам, сударь, Михайло Михайлович Топтыгин на ухо наступил. Вы совершенно не чувствуете ритма.
— Насчет Топтыгина не знаю, а что в такой жаре могут толкаться одни сумасшедшие — это факт!
— Они умеют чарльстонить, а вы нет. Так зачем же злиться? — сказала Лика примирительно.
— А разве не лучше в такой вечер к морю пойти, на лодке покататься?
И только сказал это, как мой взгляд остановился на яблочном огрызке, раздавленном на полу. Так вот, оказывается, из-за чего заработал я «хама»! «Ну ладно, мадам! Посмотрим еще, кто „хам“. По полтиннику с танцора загребать можешь, старая карга, а порядка соблюдать не хочешь!»
— А вы на лодке любите кататься? — спросила Лика, размахивая надушенным платочком.
— А кто же не любит? — сказал я, не подозревая подвоха.
— Тогда знаете что? Убежим отсюда к морю! — И снова Анжелика схватила меня за руку.
Пяти шагов мы не прошли с нею по Генуэзской, как навстречу попался Зюзя.
— Куда же вы, Лика? — недовольно сказал франт, растопыривая руки.
— К морю с молодым человеком от жары спасаться! — капризным голосом бросила она. — Кстати, вы не знакомы?
— Тритузный! — буркнул франт и, не глядя, сунул мне свою лапу.
Я пожал ее без всякого удовольствия и назвался.
— Пардон, дорогуша! Меня Иван Федорович задержал. Меняйте гнев на милость и возвращайтесь. Сегодня танго «В лохмотьях сердце». Разучивать будем. Со словами…
Тут уж я не стерпел. Разряженный пижон абсолютно не хотел считаться с моим существованием!
— Давайте, Анжелика, скорее, а то позже комары нас на море заедят! — сказал я басом, и она пошла со мной.
В ДОМЕ ИНЖЕНЕРА
По обе стороны дощатого мостика болтались на приколе лодки. Лика нагнулась и щелкнула ключом, отмыкая замок на цепи.
— Прыгайте! — скомандовала она, подтягивая лодку к причалу.
Не раздумывая, я прыгнул. Как только подошвы встретили решетчатое дно, проклятый тузик закачался так, что я едва не вылетел за борт.
— Возьмите круг, Лика! — донеслось сверху.
Это крикнул дежурный матрос Общества спасания на водах. Он стоял на мостике в одних трусах да в фуражке-капитанке с белым флажком на околыше. На мускулистой груди матроса висел на цепочке свисток.
— А для чего, Коля? — сказала Лика, отталкиваясь веслом от причала. — Я думаю, мой гидальго умеет плавать. Да в случае чего я и сама спасу его, без круга.
— Как знаете! — Матрос усмехнулся. — А если что, давайте полундру. — И он бросил круг обратно на причал.
Насупившись, прислушивался я к этому разговору. Моя соседка положительно во всем хочет показать свое превосходство надо мной! И в этой фразе, оброненной матросу, тоже звучал презрительный намек, что я не умею плавать и, как котенок, пойду ко дну, если она меня не подхватит.
Анжелика легко перебирала веслами, и берег постепенно уходил от нас. Причал казался отсюда уже совсем маленьким, как две спички, сложенные буквой Т и прилипшие к берегу.
— Пустите, я немного погребу!
— Рискните, — согласилась Анжелика, и мы переменились местами.
Багровый шар солнца, падающего куда-то левее, за Керчь, ослепил меня и окрасил удивительно спокойную воду бухты в ярко-кирпичный цвет. Я зарыл весла глубоко в воду и одним толчком подал лодку вперед. Она забрала вправо, но весло вырвало уключину. Еще немного — и уключина утонула бы в море.
— Я верю, Василь, что вы силач, но зачем же лодку ломать? Загребайте легко, как бы нехотя, от скуки. И тузик скорее пойдет.
И в самом деле, как только я уменьшил усилия и перестал зарывать лопасти весел глубоко в воду, лодка заскользила по поверхности бухты, как плоский камешек, пущенный с берега, оставляя за рулем нежный дрожащий след.
— Забирайте чуть-чуть левее. На волнорез!
— Вы туда хотите?
— А вы нет?
— Далеко же!
— Вы не знаете еще, что такое «далеко»! Если бы мы с вами на косу отправились на ночь глядя — другое дело, но вы робкий. А волнорез — рукой подать.
Порт с полукруглыми пакгаузами остался уже позади. И почти сразу же за сигнальным колоколом его последнего мола открылись высокие гранитные глыбы волнореза.
— Пожалуй, близко! — согласился я. — Версты две будет?
— Полторы.
Непривычный к веслам, всякий раз напрягаясь, я сжимал губы. Вид у меня, наверное, был неестественный. Теперь моя соседка, нисколько не смущаясь, разглядывала меня в упор с очень близкого расстояния.
— А знаете, Василь, у вас взгляд — как прикосновение. Как у лейтенанта Глана! — неожиданно сказала она.
— Это что еще за тип? — буркнул я.
— Это любимый герой одного скандинавского писателя. Лейтенант Глан скрывался от несчастной любви в лесу, жил в глухой избушке и, чтобы досадить любимой девушке, послал ей в подарок голову своей собаки…
— Дикарь какой-то! — бросил я. — Настоящий человек не будет от людей бегать.
— Не от людей, а от несчастной любви. Ему цивилизация надоела.
— Все равно! — сказал я, уже заранее возненавидев отшельника. — А скажите, какой взгляд у вашего Тритузного? Тоже «как прикосновение»?
Не улавливая иронии в моем вопросе, Анжелика с готовностью ответила:
— Взгляд обыкновенный, зато удар пушечный! Жаль, что вы не поспели на матч с Еникале. Вот была игра! Зюзя пробил с центра поля и повалил мячом вратаря. Наши болельщики прямо визжали от восторга.
— Подумаешь! — нарочито дерзко сказал я, налегая на весла. — Мы играли однажды с молодежной Бердичева, а Бобырь защищал ворота. Двух наших беков подковали, а на Сашу трое игроков летело, на открытого вратаря! И вы думаете что? Пропустил Саша мяч?.. Задержал! Правда, пришлось мне одному вражескому инсайту по харе съездить за то, что ножку подставил. Судья остановил игру и выдал Бердичеву пенальти. С одиннадцати метров! И опять Саша мяч не пустил, а тот негодяй ушел с поля с побитой мордой!
— Ой, Василь, Василь, надо вам научиться хорошему тону… — назидательно сказала Лика. — Если бы вы знали, как меня шокируют эти ваши словечки! Юноша вы приятный, а выражаетесь подчас как мужик неотесанный.
Прежде всего я не знал тогда, что означает мудреное слово «шокировать». Но даже не оброни она его, уже один ее холодно-поучительный тон взбесил меня. И я сказал дерзко:
— «Неотесанные» революцию делали, хорошо бы вам знать это!
Анжелика не нашлась что ответить или не захотела продолжать этот разговор.
Багровый венчик угасающего солнца выглядывал над поверхностью моря, окрашивая воду тревожным цветом пожара.
За нами море стало уже густо-черным и маслянистым. Оно неслышно вздыхало, отражая последние розовые блики заката и тень от волнореза, падающую к портовому молу.
Легко и небрежно поправляя волосы, Лика сказала:
— Бунация!
Я пожал в недоумении плечами, давая понять, что не понимаю этого слова…
— Бунация — вот такое спокойное состояние моря, как сейчас. Полный штиль. Больше всего я люблю море таким.
— Мне казалось, наоборот, что вы любите шторм. Вы тогда прыгнули с лесенки прямо в кипящее море.
— Я выросла у моря и не могу дня прожить, чтобы не купаться. Это вошло в привычку. Но больше всего на свете уважаю покой, тишину. И чтобы кошка мурлыкала рядом… Сидеть на качалке и гладить тихонечко кошку. А у нее в шерсти чуть-чуть потрескивает электричество… Что может быть еще лучше? Прелесть!
Слушать такое — и не возмутиться? Я сказал:
— Да это же мещанство! Вы еще не начинали жить, а уже вас тянет к покою.
— Ого-го! — Лика прищурилась. — Тихоня начинает показывать коготки. Очень любопытно! Я не знала, что вы такой спорщик. Мои поклонники слушают меня обычно без возражений.
«Однако какая наглость! Кто ей дал право меня к своим поклонникам причислять?»
— Нет, серьезно, Василь, грешна я: люблю потосковать наедине, забыться от мирской суеты, уйти в царство грез…
И Лика неожиданно пропела мягким, приятным голосом:
В сером домике на окраине,
В сером домике скука жила…
— Особенно зимой, — продолжала она, — когда день еще не ушел и борется с лиловыми сумерками, я люблю быть одна и разговаривать с тоской… Она выходит неслышно из-за портьеры, вся серая-серая, добрая, унылая фея с пепельными волосами, вот такого цвета, как море сейчас, и успокаивает меня.
«Бесится с жиру на отцовских харчах! Вот и мерещится ей всякое», — подумал я. Таких откровенных обывательниц мне еще вблизи не приходилось видеть.
— Для чего же вы, собственно говоря, живете?
— По инерции. Жду счастливого случая. Авось придет кто-либо сильный, возьмет меня за руку, и все сразу изменится.
— А сами? Без няньки?
— Не пробовала.
— А вы попробуйте!
— Ах, надоело!
— Какой же смысл коптить небо зря? Ждать сильного кого-то и ныть: «надоело», «надоело»…
Видно было, слова эти не на шутку задели Анжелику. Опять в глазах ее мелькнул злой огонек, как давеча, в салоне Рогаль-Пионтковской.
— А вы, сударь, для чего живете? Вас устраивает, что ли, однообразная работа в литейной?
— Однообразная! — возмутился я. — Напротив! Сегодня я формую одну деталь, завтра — другую. Из-под моих рук выходят тысячи новых деталей. Мне радостно при мысли, что я тружусь для своего народа, никого не обманывая. Разве это не интересно? Я горжусь тем, что я рабочий, горжусь, вы понимаете? А насчет однообразия вы бросьте! Нет скучных занятий, есть скучные, безнадежные люди.
— Ну хорошо! Все узнали, со всем познакомились, а дальше что?
— Учиться!
— Трудно же учиться. Не успели пообедать и отдохнуть — и уже надо бежать на лекции.
— А кто за нас бегать будет? Ваша серая фея?
— Но есть другой выход. Хотите, я попрошу папу, и он переведет вас на легкую работу? В конторщики, скажем?
— Зачем мне это? Я в служащие не пойду!
— Смешной вы, право, Василь! Я вам добра желаю, а вы, как ежик, упрямитесь, иглы выпускаете.
— Пусть ваш Зюзя за легкую работу держится, а я не буду.
— Почему вы так сердиты на Зюзю? Безобидный, милый юноша…
— Юноша? Здоровый как бугай, а к бумажкам прилип. Смотреть противно!
— Отчего вы так нетерпимы к людям, Василь? Такой злюка — ужас!
— А если эти люди не той дорогой идут, так что же — хвалить их должно? Как же мы будем мир перестраивать с такими людьми? — уже сердился я.
— Кто вас просит мир перестраивать? Пусть остается таким, как есть!
— Кто просит?.. Вы, может, довольны старым миром? Может, вам царь нравится или батька Махно?
Я думал, что Анжелика либо увильнет от прямого ответа, либо станет отнекиваться. Но она сказала на редкость спокойно:
— Мой папа и при царе хорошо жил. Гриевз очень уважал папу. Сам говорил, что такого главного инженера поискать надо!
— А как рабочие жили?
— Не интересовалась… И вообще все это скучно… Посмотрите лучше, как быстро месяц поднялся!
Нежный свет месяца дробился на гладкой воде и пересекал ее от волнореза почти до самой косы, где уже замигал маяк. Вода в бухте под лучами месяца серебрилась и чуть дрожала.
— Такую освещенную месяцем полоску называют «дорожкой к счастью», — сказала Анжелика. — Года два назад я поверила было в эту легенду, взяла лодку и поехала по этой дорожке в открытое море. До косы добралась, а тут как сорвался норд-ост, море пришло в волнение, одной назад было никак не добраться! Я вытащила лодку на отмель, перевернула ее, водорослей подстелила и так, под лодкой, одна переночевала. То-то страху натерпелась!
— Ну как не стыдно: страх от ветра! Нашли чего бояться! — И, сказав это, я невольно провел рукой по лбу.
Лика уловила мое движение и быстро сказала:
— Да, я все хотела спросить, что это за шрам у вас на лбу?
— А-а, так, пустяки!
— Расскажите.
— Царапина от гранатного осколка.
— От гранатного. А кто это вас?
Пришлось рассказать, как довелось мне, ночуя в совхозе на берегу Днестра, под стогом обмолоченной соломы, встретить банду, идущую из Румынии.
— Ах, как все это страшно и увлекательно! — сказала Лика. — Только политики я не люблю. — И она скривила губы. — Это скучно. А вот то, что вы сейчас рассказали, очень интересно.
— А без политики мир не перестроишь.
— Опять вы за свое, Василь! Такой несносный… Давайте поедем домой, а то переругаемся окончательно.
Только когда мы подчалили к мостикам, я почувствовал, что устал. Ладони болели от весел. У самой калитки дома я хотел было скоренько попрощаться и уйти, но Анжелика, пряча руки за спину, сказала:
— И не думайте даже… Сегодня вы должны целый вечер провести со мною. Идемте к нам. Я вас познакомлю с папой.
Отец Анжелики сидел в большой столовой за обеденным столом и раскладывал перед собой карты. Он был так увлечен, что даже не обернулся в нашу сторону.
— Папочка! А у нас гость! — крикнула Анжелика и тронула его за плечо.
Отец ее обернулся. Он швырнул на стол колоду карт и поднялся нам навстречу. Высокий, костистый, он едва не достигал макушкой тяжелой люстры. Меня сразу поразили густые-прегустые, сросшиеся на переносице мохнатые брови Андрыхевича и его ястребиный нос, опущенный крючком вниз.
— С кем имею честь? — сказал он, подавая мне морщинистую руку.
— Василий Манджура, — представился я.
— Это наш новый сосед, папочка. Я тебе говорила, что у Агнии Трофимовны поселились новые квартиранты. Это один из них. Прошу любить и жаловать. Заядлый спорщик!
— Приятно встречать молодых людей, обуреваемых жаждой спора. Своей культурой Древняя Греция обязана высокоразвитому искусству споров. В них рождались многие живые и поныне истины. — И, предлагая мне: — Садитесь, Василий… — инженер показал на стул.
— Миронович! — подсказал я, усаживаясь. И сразу же придвинулся поближе к массивному столу.
— А знаешь, что у нас на ужин сегодня, дочка? Раки! Представь себе, целое ведро раков мне Кузьма привез из Алексеевки! Я уже Дашу за пивом послал.
— Папа — страстный ракоед, — пояснила Лика. — Он часто договаривается с проводниками поездов, и те ему из-под самого Екатеринослава раков привозят.
Инженер посмотрел на меня очень пристально и сказал:
— Ты развлекай гостя, Лика, а я пойду варить этих зверей, — и ушел на кухню.
— Сейчас папа будем священнодействовать! Он их как-то особенно варит: с тмином, с лавровым листом, с петрушкой. Для него варка раков — особое удовольствие. Даже когда мама дома, и то он ей не доверяет этот процесс. Мама еще гостит у дяди в Гуляй-Поле. Как уехала на пасху, так и не возвращалась… Хотите, я вам покажу мое гнездышко? — тараторила Лика.
Назвался груздем — полезай в кузов. Зашел в этот дом — надо подчиняться желаниям хозяйки.
Мы вошли с Ликой в маленькую комнатку с окнами, выходящими в сад. Комнатка сплошь завешена персидскими коврами. На одном из ковров повешена иконка богоматери, и перед ней, свисая на медном угольничке, теплится лампадка граненого красного стекла. «Ого, религиозная к тому же!» — подумал я.
Анжелика повернула выключатель и зажгла верхний свет. В комнате стало очень светло. Полосы света, вырвавшись из двух окон в сад, выхватили из темноты кусок клумбы и посыпанную песочком дорожку, окаймленную битой черепицей.
— И здесь вы беседуете с вашими феями? — спросил я, усмехаясь.
— Да. Здесь я поверяю свои душевные тайны моей доброй серой принцессе, изучаю гороскопы великих людей… Кстати, Василь, в каком вы месяце родились?
Не подозревая подвоха, я сказал спокойно:
— В апреле. А что?
— А, в апреле? Под знаком Барана?
— Какого барана?.. — протянул я, не скрывая досады.
— Нечего обижаться! Баран — знак нахождения Солнца. Садитесь вот сюда и слушайте. Я прочту сейчас вам все, что касается вашей личности.
Она пошелестела страницами книги и, отбрасывая рукой длинные каштановые волосы, прочла:
— «Знак Барана дает всяческие способности: легкость учения, неустанную жажду действия и смелость, граничащую часто с безумием. Тип этот всегда готов сражаться не на жизнь, а на смерть за дело, которому себя посвятил, даже в загробном мире и на службе у Вельзевула. Жаль только, что вследствие огромной импульсивности он поддается часто вещам, которым бы не следовало себя посвящать с такой энергией. Эта повышенная импульсивность и недостаток обдумывания делают его временами опрометчивым и толкают к бессмысленным действиям. Человек, рожденный в момент нахождения Солнца под знаком Барана, может проявлять наклонности к мученичеству, превращаясь в Баранчика Жертвенного…» Ну? — сказала Анжелика, переводя дыхание. — И это вы! Потрясающе, правда? Как на ладони показала вам самого себя. Ну, что вы скажете по этому поводу, а, Василь?
— Это все старорежимные суеверия…
— Ну почему суеверия, Василь? Как вам не стыдно! Послушайте, что дальше написано: «Баран дает наклонности к технике и промышленности. Он рождает людей для профессий, связанных с огнем и железом, развивает в людях организационные таланты и умение руководить своими близкими…» Скажите, разве это не про вас сказано и не про ваши идеалы?
— Под эти шаблонные пророчества можно всех людей подогнать, и будет правильно… И при чем здесь загробный мир?
— Да, но ведь не все люди родились в апреле. А еще смотрите, что здесь сказано: «Друзей следует искать среди лиц, рожденных между 24 июля 24 августа, под знаком Льва». А вы знаете, что я родилась 25 июля? Значит, самим провидением мы уготованы один для другого.
«А может, это она так хитро и тонко улещает меня на женитьбу? — подумал я с опаской. — Только этого еще не хватало! Связаться с такой мамзелью, с ее коврами и феями! Бр-р-р! Пропал тогда человек! — Меня даже передернуло при этой шальной мысли. — Отколоситься не успеешь, а уж завянешь навсегда!»
Почему вы молчите, а, Василь? Да не глядите на меня так ужасно, я могу в обморок упасть.
— Это все чепуха!.. Суеверия… бред, — проговорил я уверенно. — Люди, у которых ничего больше в этой жизни не остается, выдумывают себе какой-то другой мир.
— Почему же бред? Ох, нетерпимый вы! К моему папе приходят инженеры на спиритические сеансы. Они крутят в темноте такой маленький столик и вызывают духов. Им уже явился дух Наполеона, и даже Навуходоносор с ними разговаривал!
— Знаем мы эти фокусы! — сказал я и от души рассмеялся. — У нас в Подолии, поблизости от моего города, однажды «калиновское» чудо стряслось. Теткам померещилось, что из ран жестяного изображения Христа на придорожном столбе кровь течет. Отсталые, темные люди, как на ярмарку, повалили к тому кресту. И что вы думаете? Приехала комиссия, проверила и выяснила, что все это попы нарочно подстроили, чтобы народ мутить, против Советской власти его настраивать и деньгу при этом зашибать!
— Экий вы Фома неверующий! — сказала она с раздражением. — Я не знаю ничего о вашем чуде, а вот голос Навуходоносора у нас все явственно слышали.
— Скажите, он случайно не передавал вам привета от дочки Рогаль-Пионтковской из Лондона? Как там, чарльстон в моде? — съязвил я.
В эту минуту на пороге «гнездышка» вырос Андрыхевич.
— Прошу! — сказал он и широко отбросил руку, давая нам дорогу.
Стол был накрыт. В тонких кувшинах, стоявших на скатерти с какими-то вензелями, пенилось темное пиво. Перед каждым прибором высились хрустальные бокалы на тоненьких ножках и лежали салфетки. Под боком у одного из кувшинов с пивом приютился маленький пузатый графинчик такого же красного граненого стекла, как и лампадка, что теплилась в комнате Лики. А посреди стола возвышалось полное блюдо пунцовых дымящихся раков с длинными, свисающими усами.
«Вот это раки, да! — подумал я, усаживаясь. — Не те коротышки, что ловили мы возле свечного завода. Такой как вцепится в икру — держись!»
— Пока эти звери остынут, предлагаю закусить осетриной! — сказал Андрыхевич, усаживаясь против меня.
Тут я заметил на другом блюде продолговатый пласт белой рыбины, залитый густым желтоватым соусом и обложенный дольками лимона.
Я пригвоздил рыбу вилкой и начал резать ножом. И вдруг заметил, что Андрыхевич с дочерью переглянулись. Видно, я сделал что-то непотребное. Анжелика быстренько приложила к губам палец, давая знать отцу, чтобы он мне ничего не говорил. Инженер лишь молча ухмыльнулся и бровями шевельнул. Разыгравшийся было после катанья на лодке аппетит сразу увял. Я силился догадаться, какую именно допустил оплошность, и не мог.
— Водочки под осетрину, а, молодой человек? — предложил инженер, приподымая пузатенький графинчик с притертой пробкой.
— Спасибо! Водки не пью, — сказал я глухо и, чуя недоброе, отложил на скатерть вилку.
— Хвалю! — сказал Андрыхевич. — Водку с молодых лет пить вредно, ибо она яд! — И тут же, шевеля мохнатыми бровями, налил себе полную рюмку этого «яда» и проглотил ее одним махом.
Отдышавшись, инженер заметил мои колебания и посоветовал:
— Раков, молодой человек, берут руками. Бросьте нож и вилку и работайте смело, не стесняясь.
Эх, была не была! Я протянул руку и взял с блюда самого большого рака, но не успел положить его к себе на тарелку, как откуда ни возьмись появилась служанка Даша в кружевной наколочке и сменила мою тарелку на чистую. «Интересно, она в профсоюзе „Нарпит“ состоит или они эксплуатируют ее тайно, без трудового договора?» — подумал я.
И вот огромный рак лежит передо мной, но как его полагается есть в «приличном обществе», я не знаю. То ли дело было лакомиться раками на лугу у свечного завода! Выхватишь, бывало, такого рака двумя прутиками из кипящего казанка и давай его ломать тут же, у костра, швыряя в огонь красную шелуху.
Андрыхевич ел с какой-то торжественностью, словно он действительно священнодействовал, как сказала Лика. Сразу было видно, что еда занимала далеко не последнее место в жизни этого барина.
— Раки — моя слабость! — сказал Андрыхевич, разгрызая клешню. — А в соединении с настоящим бархатным пивом они дают прекрасную вкусовую гамму, — и налил мне в бокал черного, как деготь, пива. — На какую же тему вы спорите с молодым человеком, дочка? — спросил он.
— Василь собирается мир перестроить, а я его отговариваю.
— Да что ты говоришь! Это интересно. Кто был ничем, тот станет всем? Из грязи да в князи? Так следует понимать означенную перестройку? — И Андрыхевич, прищурившись, глянул на меня.
— Да! — сказал я, отодвигая в сторону шейку рака и стараясь быть спокойным. — Ну, а вам хотелось бы, чтобы все было по-прежнему: сотня капиталистов наживается на труде миллионов… так, что ли?
— У того, кто стал всем, способностей не хватит и знаний кот наплакал.
— Напрасное беспокойство. Научимся. Будем бороться и учиться.
— Однако способности человеку от бога даются. Они врожденные и переходят из поколения в поколение! — уже сердился инженер.
— А вы думаете, у рабочего класса нет способностей?
Лика засмеялась и сказала:
— Я говорила тебе, папочка, — спорщик отчаянный. Чувство противоречия развито у нашего гостя удивительно сильно.
— Погоди, дочка! Это даже интересно. Итак, вы, сударь, спросили меня: есть ли способности у рабочего класса? Вне всякого сомнения! Не будь у русских мастеровых способностей, я бы избрал себе другую профессию. Ибо каков смысл работать инженером, когда нет способных исполнителей твоих замыслов! Но, понимаете, для того чтобы в рабочем классе развивались оригинальные, самобытные таланты, ему нужна техническая интеллигенция! А где вы ее возьмете?
— Как — где? А сам рабочий класс? Класс, который революцию сделал?
— Бросьте-ка, юноша, эти сказочки! — сказал Андрыхевич с заметным раздражением. — Самое легкое — разрушить одним махом все то, что до вас создали поколения. А вот попробуйте-ка все это из развалин поднять, выстроить наново. Откуда вы возьмете образованных людей, которые смогут практически осуществить эти фантастические планы переустройства Таганрогского уезда и целого мира? Да еще когда все страны против вас!
— Строим и будем строить сами! Не побоимся! С таким руководителем, как наша партия, рабочему классу никакие трудности не страшны, — сказал я, воодушевляясь и запальчиво глядя на Андрыхевича.
— Сами? «Раз-два — взяли! Эх, зеленая, сама пойдет!» Да?
— Ничего, ничего, и без «Дубинушки» как-нибудь справимся, — чувствуя большую правду на своей стороне, ответил я инженеру. — И худо тогда придется тем, кто сегодня идет не с нами.
— На кого вы намекаете, молодой человек? — спросил Андрыхевич и зло посмотрел на меня.
— А чего мне намекать? Вы разве не знаете сами, что человек, идущий против всего народа, против его воли, рано или поздно будет выведен на чистую воду, разоблачен и вышвырнут за борт? Вы что думаете: рабочий класс потерпит, чтобы над ним издевались, не верили в его силы, а в то же самое время ели его хлеб? Нам приживальщиков не нужно. Нам нужны друзья. Вы вот сейчас подсмеиваетесь над тем, что мы делаем. А как всякие старорежимные интеллигенты вели себя, когда иностранцы убежали за границу? Думали, верно, все развалится? А сейчас поглядите — без этих заморских буржуев завод наш больше выпускает жаток, чем до войны. Разве это не факт? Факт! А сколько таких заводов в нашей стране! И сколько их будет еще построено со временем!
— Поживем — увидим… — буркнул многозначительно инженер.
И очень много недоверия, скрытой злобы, раздражения услышал я в этих сдержанных его словах.
РОЛИКИ
На всю жизнь запомнился мне этот разговор за широким столом, освещенным мягким светом свисающей с потолка тяжелой люстры. Как сегодня, я вижу перед собой пренебрежительный взгляд инженера Андрыхевича, прищур его раскосых глаз, слышу снисходительно-иронический его голос. Это не был снисходительный тон человека, старшего годами, более опытного, знающего во много раз больше своего собеседника. Будь это так — я, быть может, ушел бы с иным чувством, чем то, которое я унес, покидая поздно вечером их дом, заросший плющом и пахучими розами. Нет, совсем другое крылось в его пренебрежении ко мне! Со мной разговаривал БАРИН, человек из того старого, отживающего мира, о котором так много говорил нам директор фабзавуча Полевой. Инженер издевался тихо, про себя, и над моей запальчивостью, и над моей искренней верой в будущее. Он не разбрасывал слов на ветер, а выпускал их с тайным умыслом, скупо, обдуманно. Он не выкладывал все карты на стол, чтобы я не мог сказать ему прямо в глаза: «Эх ты, контра и прислужник всяких эксплуататоров гриевзов, давших тягу за границу! Уезжай и ты к ним побыстрее с этой земли, из страны, в людей которой ты не веришь!»
Нет, он разговаривал очень хитро и подчас, желая выведать, что я думаю, как бы совета у меня спрашивал. У меня-то! У фабзавучника, и месяца не проработавшего на заводе… старый, седой главный инженер.
Уже когда я покидал столовую, где багровели на блюде недоеденные раки, инженер, продолжая на ходу наш разговор, спросил меня:
— Где же, интересно, вы будете строить эти новые заводы?
— Всюду, где надо! — ответил я ему дерзко, вспоминая слова, оброненные некогда в беседе со мной секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии большевиков Украины.
— Эх, молодой человек, горячи вы больно, погляжу я на вас! Заводы собираетесь строить, а рыбу ножом есть не отучились. С маленького начинать нужно. С малюсенького.
Долго ворочался я в ту ночь на колючем жестком матраце, положенном у распахнутого окна. Ворочался под храп заснувших давно, еще до моего прихода, хлопцев, вспоминал обидные намеки костлявого инженера и особенно этот его укол насчет ножа, которым я разделал осетрину.
Как все было просто, хорошо и радушно у Луки Турунды, в его домике на самом берегу моря! И сам Лука, и его отец, и Катерина — такие искренне гостеприимные, настоящие люди!
Я заснул с теплым чувством благодарности к семье Турунды и окончательно возненавидел соседей в доме с плющом, сознавая отлично, что у них там гнездится то самое старое, прошлое, хватающее нас за ноги, против которого предостерегали меня не раз Полевой и Никита Коломеец.
А потом мне приснилась какая-то чертовщина…
Будто я во фраке с фалдами, как у того тапера, танцую чарльстон. Без устали танцую, дрыгаю руками и ногами, словно тот нищий, пораженный пляской святого Витта, что стоял у нас в городе под кафедральным костелом и всегда выманивал деньги. Танцую и сам смотрю на себя в зеркало. И вижу, как лицо мое меняется. Оно становится морщинистым и злым и постепенно обрастает седой бородой и густыми бровями. А я все танцую, танцую и делаюсь худым, как палка. Здоровенные пунцовые раки ползут ко мне отовсюду по грязному паркету и шипят на меня, раскрывая клешни: «Хам! Хам! Чумазый хам! Куда ты залез? Из грязи да в князи? Вон отсюда!» И вот тут, около колонны, возникают совсем еще молодые Бобырь и Петрусь. Они перешептываются и смотрят на меня с презрением. И я слышу шепот Бобыря: «Ты видишь, Петро? Вот он! Протанцевал всю свою жизнь — и ничему не научился!»
Обливаясь холодным потом, я зашевелил губами, чтобы сказать им слова оправдания, но мой голос заглушило шипение. Проклятые раки опять затараторили свое, да так громко, что хочется зажать уши…
Я переворачиваюсь на другой бок — и просыпаюсь.
Около меня трещит будильник.
Хотя в окно смотрит еще желтая молодая луна, пора вставать. Литейная начинает работать куда раньше остальных цехов.
«Приснится же такая чушь! — думаю я и осторожно переступаю через спящих хлопцев. — Надо не забыть снова завести будильник, чтобы и они не проспали…»
Кому доводилось жить подолгу в приморских городах, тот знает, что они прекрасны в любую пору.
Чудесны тихие, безоблачные закаты, когда порозовевшее солнце не спеша опускается в море. И не менее прелестны такие же минуты прощания с гаснущим где-то на небе, за облаками, солнцем, когда море грохочет и налетает громадными водяными валами на парапеты набережной, забрасывая солеными брызгами пролегающие рядом железнодорожные пути. Бора приносит из степи песчаную пыль, пахнущую полынью и богородицыной травкой, срывает фуражки с голов, крутит смерчи над путевой насыпью, гонит по улицам клочки бумаги, сухие водоросли, кизяк. Даже в узеньких канавках, вырытых далеко от моря, под Кобазовой горой, в такие дни, когда дует бора или норд-ост, глинистая, желтоватая водица с утра до вечера подернута рябью и волнуется, как на широких морских просторах. И все-таки в дьявольском шуме бушующего моря, которое гремит не только у берегов, но и посылает свой грохот на самые отдаленные улицы, город, продуваемый борой, прекрасен. Приютившийся на мысу под горой, он похож на корабль, который вот-вот оторвется от материка и вместе со своими жителями, зданиями, базаром и Лисовской церковью отплывет, преследуемый норд-остом, в дальнее опасное плавание по вспененным волнам. И далекий протяжно-заунывный вой сирены на маяке при такой мысли воспринимается как последний сигнал отхода в трудный, но такой заманчивый рейс! Но особенно запомнился мне новый в моей жизни город на приазовском берегу в летние предутренние часы.
Три часа утра. Пробили склянки в порту, и их мелодичный звон поплыл над всеми улицами и затих лишь где-то на горе, около кладбища. Тихо скрипнула под рукой калитка. Закрываю ее снова на щеколду, а сам бреду некоторое время по жестким путям над морем.
Темное Азовское море, лишь у самого порта изборожденное отблесками желтых сигнальных огней, покорно улеглось в берегах бухты. Оно тоже спит, изредка тихо вздыхая нежно шуршащими волнами.
Хорошо раствориться в удивительной предрассветной тишине досыпающих улиц! Еще ни одного огонька не видно в окнах. Уличные фонари горят лишь на главных перекрестках, бросая с высоты пятна желтого света на мостовую. Вокруг стеклянных колпаков фонарей вьются тучи белых, серых и кремовых мотыльков. Они шелестят шелковистыми крылышками там, вверху, будто упрямо хотят разбиться о горячее стекло. Ты проходишь один за другим безлюдные перекрестки, ныряешь во мрак ровненьких кварталов, сливаешься со шпалерами молодых акаций и потихоньку освобождаешься от остатков сна.
Сонный вахтер в проходной кивает головой, глянув издали на пропуск. Хорошо слышно, как зазвенела на самом дне зеленого ящика опущенная туда рабочая марка. Она возвратится из зеленого ящика в литейную лишь с восходом солнца, после всех заводских гудков. Цеховой табельщик повесит ее на гвоздик в ящике, затянутом проволочной сеткой. И всякий раз, пробегая к камельку, видя ее — медную, блестящую, с цифрой «536», — ты будешь с удовольствием думать: «Еще день прожит честно. Без опоздания и прогула!»
Больше всего меня мучила в первые недели работы на заводе боязнь опоздать. И совсем не потому, что за этим следовали взыскание, снижение заработка, выговор от мастера. Просто стыдно было даже представить себе, как идешь ты, опоздавший, гудящим цехом и все с усмешкой глядят на тебя. Люди уже давно работают, за машинками стоят заформованные опоки, их уже можно заливать. Литейщики, пришедшие на работу вовремя, глазеют на тебя и думают: «Вот соня, когда притащился в цех! Рабочий класс давно уже делом занят, а он отсыпался на своих перинах, лодырь окаянный!»
Даже представить было трудно, как это я, опоздав, появлюсь перед своим напарником Науменко и как ни в чем не бывало скажу ему: «Привет, привет, дядя Вася!» Какую совесть надо иметь, чтобы опоздать, а потом делить поровну со своим напарником его заработок!
А возможно еще и другое. Уронил ты в пустой уже ящик марку, гонишь к цеху заводским двором, и тут тебе навстречу директор Иван Федорович. «Здравствуй, Манджура! — говорит он тебе. — А куда это ты так торопишься? И почему ты здесь, когда все твои товарищи давно в цехе, формуют детали, своим трудом крепят смычку рабочего класса и крестьянства?» И что я скажу тогда директору в ответ? Опоздал, мол, Иван Федорович. Скажу это после того, как Руденко взял с нас слово честно относиться к своим обязанностям?..
Вот почему, как только сменный мастер Федорко предупредил меня: «В летнее время начинаем не по гудку, а с четырех», — даже мурашки по коже пробежали. «Смогу ли я вставать в такую рань? Не опоздаю ли?»
Но все сомнения заглушал разумный довод: «Как же иначе? Прикажи литейщикам начинать работу вместе со всеми, по гудку, — значит, заливка будет начинаться около полудня. Солнце уже в зените, и полуденный зной, соединяясь с жаром, идущим от расплавленного чугуна, превратит литейную в ад кромешный. Нет, это очень правильно, что директор Руденко, пока крыша над литейной не поднята, распорядился выделить наш цех в особый график».
Обычно мне удавалось приходить в литейную одним из первых. Сегодня же я услышал подле вагранки, в полумраке цеха, голоса нескольких рабочих. Да и мой напарник уже явился. Под нашими машинками пламенели хвостики остывающих плиток. Заранее подсунутые Науменко в пазы под моделями, они отдавали свое тепло остывшему за ночь баббиту.
От соленых инженерских раков и его бархатного пива меня мучила жажда. Я напился холодной воды прямо из-под крана и пошел за лопатами. Мы оставляли их в тайнике, под основанием мартеновской печи, которую не успел достроить заводчик Гриевз.
Согнувшись, вошел я в сводчатый тоннель под мартеновской печью и нащупал там две наканифоленные лопаты. В темноте сверкнул зелеными глазами и метнулся в сторону обитатель этих подземелий — старый котище. Их жило здесь несколько, одичалых заводских котов. Они скрывались на день и выползали на простор литейной лишь к вечеру, когда чугун остывал в формах и не было риска обжечь на окалине нежные кошачьи лапки. Чем питались они в нашем горячем цехе, я понять не мог. Ведь крысам и мышам делать здесь было нечего. Может быть, объедками от завтраков рабочих?
Приятно шагать по мягкому песочку цеха на рассвете с двумя лопатами на плечах, чувствуя силу, бодрость и желание в любую минуту приняться за формовку!
Рабочие, голоса которых я услышал издали, собрались около машинок Кашкета и Тиктора. Стоял там Артем Гладышев, задержался с клещами в руках и мой Науменко.
— Вот наработали, биндюжники!
— Ты биндюжников не обижай! Хороший биндюжник до такого позора не допустит!
И на того хлопца молодого валить нечего. Каков учитель, таков и ученик!
— Кашкету денег на похмелку не хватало… Орал все: «Давай! Давай!» Вот и надавался!..
Все эти отрывочные фразы долетели до меня еще по пути. Сперва я не понимал, что случилось. Однако стоило глянуть вверх, на груду пустых опок, как все стало понятным.
На одной из опок мелом было написано: «115–605». Эта цифра обозначала итог предыдущего дня. После приемки литья такие надписи делали на опоках браковщики. Выходило сейчас, что всего сто пятнадцать хороших деталей заформовали Кашкет с Яшкой. Остальные пошли в брак.
Позади себя я услышал тяжелое дыхание и знакомый голос:
— Радуешься?
Оглянулся, вижу — Тиктор. Воротник его расстегнут. Чуб распустился.
— Я не такой себялюб, как ты, — сказал я очень тихо. — Мне чужие неудачи радости не доставляют. Обидно только, что столько чугуна пошло насмарку!
— Ну ладно, давай сматывайся отсюда! Стыдить меня нечего. Сами с усами!
Посмотрел я в злые, с кошачьей прозеленью глаза Яшки и понял, что у этого человека совести осталось очень немного. И сказал ему сквозь зубы:
— Продолжаешь свою шарманку, Яшка?
…Самое золотое времечко — эти предрассветные часы в прохладе наступающего утра, пока руки не устали и капли пота не блестят на запыленном лбу. Электричество погасили, и сквозь стеклянную крышу в цех пробивается дневной свет.
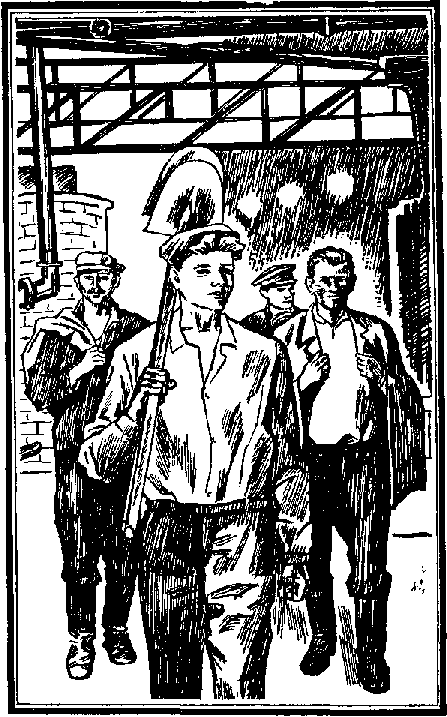
Работа в этот день у нас с Науменко шла хорошо. За плечами появились три ряда опок с «колбасками». Видя, что Науменко остановился на перекур, я спросил:
— Откуда взялся такой громадный брак у них? А, дядя Вася? Прямо-таки странно!
— Ничего странного, — поворачиваясь на мой голос и ставя ногу на ящик с составом, сказал Науменко. — Всякая машинка и модель свою душу имеют, подобно человеку. Одна модель — капризная, нежного обхождения требует, у другой характер потверже, и она никаких набоек не боится. Все это сердцем чувствовать нужно. К одной модели подходи осторожненько, с подогревом да с присыпочкой, расколачивай ее тихонечко. А другую набивай наотмашь.
— Но машинки-то одинаковые?
— Да ничего подобного! Здесь все должно быть механизировано: и набивка, и трамбовка с помощью сжатого воздуха. Так и было вначале, как только эти машинки установили. А как Советская власть в свои руки заводы начала забирать, хозяева прежние, заморские, принялись все под откос пускать. Чертежи уворовали, компрессоры испортили, части из-под них либо в землю позарывали, либо в море побросали. Ночами шныряли тут с фонариками иностранные техники да приказчики и свое грязное дело творили.
— А где же Андрыхевич был? Чего же он смотрел?
Попыхивая цигаркой, Науменко сказал мне:
— Кто его знает! Может, бычков с волнореза ловил, а может, сам с теми хозяйчиками виску ихнюю пил. Жил себе в полное удовольствие, с примочечкой, и заботы ему было мало, что эти буржуи и здесь колобродят…
— Дядя Вася, а раньше подогревали машинки тоже так? Плитками? — спросил я, поглаживая свою остывающую модель. — Неудобство большое!
Науменко глянул на меня, недоумевая.
— Экося! Почему неудобство?
— Ну как же! Взял разгон, поставил несколько опок — и плита уже остыла. Беги через весь цех до того камелька…
— Ишь ты, барчук! Бегать, значит, тебе лень? А может, конку тебе до камельков проложить? Вся работа в литейном на том и построена, чтобы не сидеть, а бегать. А хочешь спокоя — в конторщики нанимайся.
Слова Науменко обидели меня крепко, но вступать с ним в спор не хотелось. Чтобы не задерживать формовку, я схватил клещи и побежал «на Сахалин» — к камелькам.
Мчался литейной и думал: «А все-таки, дядя Вася, не прав ты! Разве это дело — такие концы бегать? Где рационализация? Сложить все расстояния до камельков и обратно — полдороги до Мариуполя будет!»
Не успели мы набить сто первую опоку, к машинкам подошел мастер Федорко и спросил:
— Шабашить скоро собираешься, Науменко?
— А что такое, Алексей Григорьевич?
— Перестановочку сделаем.
Дядя Вася и формовать бросил. Не скрывая досады, он протянул:
— Какую?
— Ролики тебе ставлю.
— Ролики? Да смилуйтесь, Алексей Григорьевич! Оставьте нам «колбаски». Подладились только-только, а вы уже снимаете!
— Надо, Науменко! — строго сказал Федорко. — «Колбасками» вашими уже весь склад полуфабрикатов забит. А роликов там с гулькин нос. Я поставил было тех башибузуков, а они, видел сам, напороли браку столько, что и двумя платформами не вывезешь. Еще день такого художества — и слесарно-сборочный в простое. Можно ли рисковать?
— Я-то понимаю, что рисковать нельзя, — сказал дядя Вася, — но…
— Не нокай, цветик Василек! — крикнул из-за машинок Гладышев. — Менка славная. Для твоих «колбасок» полвагранки чугуна перетащить нужно, а ролики хоп-хоп — и залил моментом.
Запасные плиты из ремонтно-инструментального притащили чернорабочие. Притащили и бросили прямо в сухой песок, на место, освободившееся от пустых опок, которые почти все уже пошли у нас в дело. Пробегая на плац, чтобы ставить нижние половинки формы, я нет-нет да и поглядывал на новую модель. Она казалась очень простенькой. Над гладкой баббитовой плитой было припаяно шесть таких же роликов, как и те, что ведут четыре крыла жатки по железному маслянистому скату от падения к подъему. Над каждым из роликов, торчащих над модельной плитой, возвышался отросточек для стержня. А верх был и того проще: шесть маленьких наперсточков — гнезд для шишек и будто прожилки на листке клена — канавки, расползающиеся в стороны, для заливки каждого ролика.
«Интересно все же, почему брак может получиться в такой простой детали?» — подумал я, формуя.
Пора уже было шабашить. Турунда с Гладышевым заформовали все свои опоки и начали заливку. Дальше в этой жаре формовать было трудно. От залитых по соседству опок полыхало жаром. Под вагранками снова ударили в рынду. Начиналась очередная выдача чугуна.
— Бросай формовку! — приказал Науменко. — Пошли до вагранки.
Мы заливали под частые удары рынды. От одного выпуска чугуна до другого времени оставалось ровно столько, чтобы дотащить наполненный расплавленным металлом тяжелый ковш к машинкам и залить друг за дружкой все восемь форм.
Как приятно было увидеть наконец, что чугун дошел до самого верха формы и круглая воронка литника, в которую заливали мы расплавленный металл, наполнилась и побагровела! Радостно было чувствовать, что все наши формы примочены в меру и заливаются удачно, металл не стреляет по сторонам сильными жалящими брызгами. Он только глухо ворчит и клокочет внутри, заполняя пустоты в формах и становясь из жидкого твердым в холодном песчаном плену.
Едва успевали мы выплеснуть в сухой песок около мартена бурый, подобно пережженному сахару, остывающий шлак, как у вагранки опять звенела рында, приглашая литейщиков брать чугун. И мы поворачивали туда, где под шумящими вагранками, в шляпах, надвинутых на лоб, в темных очках, с железными пиками наперевес, расхаживали горновые.
Мы мчались туда бегом. Дядя Вася трусил вприпрыжку, совсем по-молодому, позабыв о своих годах.
Мне нравилась эта рискованная работа, быстрый бег наперегонки с другими литейщиками по сыпучему песку мастерской и осторожное возвращение с тяжелым ковшом обратно.
Было поздно. Першило в горле от запаха серы. Яркие вспышки разлетающихся искр делали почти незаметным свет последних непогашенных лампочек в отдаленных углах цеха.
Совсем близко, за недостроенным мартеном, гудела круглая «груша» — пузатая печь для плавки меди. Случайные сквозняки приносили оттуда едкий запах расплавленной меди. Захваченный общим волнением, я не обращал никакого внимания на чад и на жару, которая становилась все сильнее.
Лица литейщиков блестели в отсветах пламени, мокрые от пота, темно-коричневые.
Стоя под черной гудящей вагранкой, вблизи желоба, по которому мчалась к нашему ковшу желтоватая струя чугуна, изредка поглядывая на хмурое сосредоточенное лицо дяди Васи и чувствуя, как наполняется ковш, я понимал, что выбрал для себя правильное дело.
Мелкие брызги чугуна, описывая красивые огненные дуги и остывая на лету, сыпались где-то за спиной, но я уже не порывался ускользнуть от них в сторону, как раньше, не вздрагивал, а лишь незаметно поеживался, крепко сжимая кольцо держака.
В гуле вагранки, вблизи огня, в быстрых проходах по цеху с ковшом, полным расплавленного чугуна, была особая отвага, был риск, веселое удальство. И, таская в паре с Науменко тяжелые ковши, усталый, обливающийся соленым потом, но гордый и довольный, я был несказанно счастлив.
Лишь к концу плавки я заметил, что возле наших машинок копошится еще с одним слесарем, погромыхивая раздвижным ключом, Саша Бобырь. Присланные из ремонтно-инструментального цеха, они переставляли нам модели на завтрашний день. По-видимому, Саша давно наблюдал за тем, как мы заливаем чугун, потому что, когда, поставив пустой ковш на плацу, разгоряченный, я подошел к машинкам, он спросил жалостливо:
— Заморился, а, Василь?
В голосе Бобыря я услышал признание того, что труд литейщика он почитает выше своей слесарной работы.
— Заморился? С чего ты взял? День как день! — ответил я тихо.
Уже иным, пытливым голосом Бобырь осведомился?
— А где ж ты вчера до поздней ночи шатался?
— Там, где надо, — там и шатался! Гляди лучше, плиту ставь без перекоса. И болты подтяни до отказа!
— Не бойся! Мы свое дело знаем, — буркнул Сашка и, упираясь ногами в ящик с составом, потянул на себя еще сильнее рукоятку разводного ключа.
— Давай кокили смазывать, молодой! — позвал меня Науменко.
Он уже успел притащить из кладовой ящик, наполненный чугунными обручиками. Я захватил с собой баночку графитной мази и уселся около напарника на песок.
Стоял такой пеклый жар, что плотная утром графитная мазь сейчас сделалась как кашица. Мы обливались потом даже за легкой этой работой. Надо было макать палец в графитную мазь и затем смазывать внутри каждый кокиль.
— Соображаешь, для чего эта петрушка? — спросил Науменко.
— Чтобы эти кокили свободно насадить на ролики.
— Это первое. Второе — чтобы снимались они легко, вместе с песком.
— Разве они в опоке остаются?
— А ты думал? Застывая в кокилях, чугун обволакивается твердой коркой. Такой ролик с твердой и гладкой, скользящей поверхностью без обточки в дело идет.
— Ловко придумано! — сказал я и вспомнил, что не раз видел, как, падая на гладкую плиту, жидкий чугун, застывая, становится гладким и твердым, как эта плита.
За дымящимися опоками промелькнула красная косынка Кашкета. Щелкая семечки, он медленно брел по проходу.
Нынче он приплелся на работу позже всех. Стоило ему увидеть надпись, сделанную браковщиком, как он поднял страшный крик, бегал к мастеру, ходил с ним во двор, куда обычно высыпали бракованные детали, грозился подать заявление в расценочно-конфликтную комиссию и ни в какую не признавал брака по своей вине. Так и слонялся он весь день по цеху, до самой заливки.
Приметив нас около ящика с кокилями, Кашкет круто повернулся. Минуту постоял он молча, в шутовском платке, стянутом узлом на затылке, шелуша подсолнечные зернышки, а потом спросил:
— Загодя готовите?
Вопрос этот был ни к чему, и дядя Вася не счел нужным отзываться. Молча натирал он кокили графитом, перемешанным с тавотом.
— Заработать больше всех норовите? На дачу с садом? — прошепелявил Кашкет.
— Да уж не на свалку, как ты, а для пользы рабочего класса! — отрезал Науменко, хватая кокиль.
— Интересуюсь, что вы послезавтра запоете, как напишут вам такое, что мне сегодня?
— Интересуйся сколько влезет, а пока давай лузгу-то подсолнечную не швыряй под ноги. В песок же попадает! — сказал Науменко сердито.
— Выбойщики просеют. Не бойся! — сказал Кашкет и лихо сплюнул шелуху под ноги.
— Такую мелочь не просеешь. Попадет в форму — и, глядишь, раковина. Не сори, тебе говорю! — уже совсем сурово прикрикнул дядя Вася.
— Ну ладно, голубок, не серчай, — сказал Кашкет примирительно и сунул семечки в карман.
Присев на корточки около меня, он схватил кокиль и принялся намазывать его внутри. От Кашкета несло водочным перегаром.
— Однако коли рассуждать так, без крика, дядя Вася, то все, что вы сейчас делаете, лишнее, — прошепелявил Кашкет, водя пальцем в середине кокиля.
— Ты о чем? — спросил Науменко, строго глянув в сторону Кашкета.
— Намазывай не намазывай — не поможет. Модель сконструирована погано — оттого и брак. Переделать ее давно пора, а они рабочих за брак донимают.
— Сам ты себя донимаешь, а не «они», — ответил Науменко. — Болты болтаешь, а формовать не знаешь.
— Поглядим вот, сколько ты со своим комсомолистом наформуешь, — сказал Кашкет, вставая и потягиваясь.
— Глядеть другие будут, а ты, друг ситцевый, давай-ка танцуй отсюда, а то вертишься по цеху, как бес перед заутреней, и другим работать мешаешь!
И хотя сказал это Науменко так, словно он не придал никакого значения словам Кашкета, но я сообразил, что этот лодырь задел моего напарника крепко. Понятно было, что Науменко в лепешку разобьется, лишь бы заформовать и отлить ролики хорошо.
— А может, и на самом деле конструкция модели подгуляла, а, дядя Вася?
— Ты слушай побольше этого болтуна, — сказал сердито Науменко, — он тебе еще и не такое придумает! Однажды он забрехался до того, что ляпнул: «Я, говорит, хорошо помню то время, как пароход „Феодосия“ еще шлюпкой был». Да можно ли верить хотя бы одному его слову!
…Следующий день, втянувшись, мы работали еще проворнее. До обеда у нас было уже забито восемьдесят семь опок. Хотел было я метнуться после обеда до Головацкого, но дядя Вася засадил меня обтачивать рашпилем на конус края крепких, замешенных на олифе стержней — шишек. Готовя шишки на последний задел, чтобы можно было втыкать их в гнезда формы, не тревожа краев будущих роликов, я думал о том, что формовать эту детальку оказалось проще простого. Но какими они у нас получились, мы еще не знали. Об этом предстояло узнать лишь в понедельник, когда раскроют опоки.
Сегодня была суббота.
Когда мы пошабашили, на плацу осталось сто пять пышущих жаром залитых опок.
Назад: ИЩЕМ КАРТУ
Дальше: ПИСЬМА ДРУЗЬЯМ

